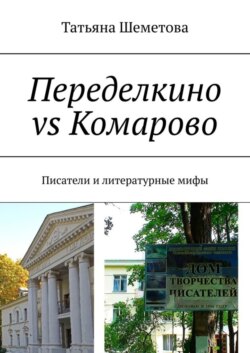Читать книгу Переделкино vs Комарово. Писатели и литературные мифы - Татьяна Шеметова - Страница 18
ЧАСТЬ 1. ПЕРЕДЕЛКИНО
3. Миф о Пастернаке в лирике Ахмадулиной
Два Бориса
ОглавлениеПеределкинский миф о Пастернаке – поэте, сумевшем сохранить и воплотить творческий дар вопреки историческим событиям реализуется также в стихотворении Б. Ахмадулиной «Когда жалела я Бориса…» (1984). Первый стих произведения традиционно воспринимается как название стихотворения и в этом качестве отражен в оглавлении. Имя «Борис» в поэтике шестидесятников прочно связано с Пастернаком как одним из мифов «тайной», полузапрещённой литературы советского периода. Процитируем вступление стихотворения «Когда жалела я Бориса»:
Борису Мессереру
Когда жалела я Бориса,
а он меня в больницу вёз,
стихотворение «Больница»
в глазах стояло вместо слёз.
И думалось: уж коль поэта
мы сами отпустили в смерть
и как-то вытерпели это, —
всё остальное можно снесть.
И от минуты многотрудной
как бы рассудок ни устал, —
ему одной достанет чудной
строки про перстень и футляр.
Так ею любовалась память,
как будто это мой алмаз,
готовый в черный бархат прянуть,
с меня востребуют сейчас <…>
Нарушением читательских ожиданий, связанных с первым стихом, является посвящение произведения мужу поэтессы Борису Мессереру. Последний, согласно сюжету стихотворения, везет заболевшую жену в больницу. Это «дольний», «горизонтальный» сюжет. Рамочные компоненты стихотворения – первая строка (заглавие) и посвящение играют важную роль в художественном замысле. Конкретно-биографический Борис Мессерер появляется во втором стихе: «А он меня в больницу вез», но уже в третьем возникает образ другого Бориса – автора стихотворения «В больнице» (названного в стихе просто «Больница»). Мифема «Борис» таким образом становится точкой пересечения «горнего» и «дольнего» миров, а стихотворение получает двойную адресацию: Мессереру и Пастернаку. Последний и является тем неназванным поэтом, которого «отпустили в смерть», он предстаёт сверхценным, мифологизированным существом. Его гибель представлена такой трагедией, после которой «всё остальное можно снесть».
По пути в больницу лирическая героиня Ахмадулиной находится во внутреннем диалоге с Борисом Пастернаком. Она вспоминает его стихотворение «В больнице», где жизнь сравнивается с перстнем, а смерть – с футляром. Перстень должен быть в конце жизни убран в футляр, но сделано это будет божественными руками, что вызывает не горестное, а радостное и смиренное ожидание долгожданной встречи.
Далее Ахмадулина развертывает пастернаковскую метафору, как бы любуясь всеми гранями алмаза на перстне. Её стихотворение о близости смерти, как и у Пастернака, превращается в гимн жизни и песнь смирения перед великим замыслом бытия. Образ Бориса Пастернака является символом мировоззренческой вертикали: именно с ним говорит лирическая героиня перед предполагаемой смертью. В то время как герой Пастернака обращался непосредственно к Богу.
Объединяет эти стихи и мотив слёз. У Пастернака это слезы благодарности не только за «бесценный подарок» жизни, но и за тяжёлый жребий, выпавший ему на долю. Сквозь пелену этих счастливых слез он различает черты Бога. У Ахмадулиной аналогом этой сияющей пелены выступает стихотворение Пастернака, стоящее у нее в глазах «вместо слёз» и дающее тот же «божественный» примиряющий и спасительный эффект.