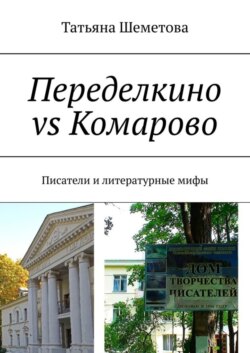Читать книгу Переделкино vs Комарово. Писатели и литературные мифы - Татьяна Шеметова - Страница 20
ЧАСТЬ 1. ПЕРЕДЕЛКИНО
4. Борьба с мифом о Пастернаке в повести А. Битова «Вкус»
Избегание Пастернака
ОглавлениеВ пошлость превращается и «прославленное место» Переделкино, куда, как в монастырь, бежит от суетного мира Монахов:
«Он говорил: „Я живу напротив могилы Пастернака“, – и странно звучало это „живу“. Он произносил эту фразу впервые и не был уверен, что не повторяет ее в сотый раз».
«Могила Пастернака» – место паломничества читателей, одна из важных мифологем переделкинского сюжета. Публикация романа «Доктор Живаго», которая привела автора к своеобразному распятию и превратила любимого многими поэта в «жертву системы», а его могилу – в очередной «святой колодец» (еще одна переделкинская мифема, см. одноименную повесть В. Катаева), место поклонения и очищения. Но к середине «эпохи застоя» эта мифологема утратила свою сакральность: герой Битова не спешит посетить прославленное место и делает это, только уступая просьбам настойчивой Светочки.
Вопреки всеобщему интеллигентскому преклонению перед Пастернаком (ставшим символом поэзии и победившего «духа добра»), авторский герой признается в нелюбви к его поэзии: образы ему кажутся вымученными, а переделкинский пейзаж «испитым», «высмотренным дотла».
«Наждачность поэтического взгляда, содравшего пыльцу с невзрачных крылышек окрестностей, преследовала его воображение, хотя сами-то стихи поэта Монахов знал слабо, а теперь почти мстительно собрался достать прочесть, чтобы убедиться в том, стоили ли они того, чтобы ликвидировать небольшую местность…»
Фигура умолчания, связанная с неназыванием имён поэта и поселка, в котором он жил, подтверждает безусловность этих мифологем: они не нуждаются в назывании и легко считываются по деталям описания. Вспомним, что этот же приём сакрализующего умолчания использовала Б. Ахмадулина. Духовная ценность этих объектов очевидна для Битова и его героя. Но отсюда берет начало отторжение не только знаменитой местности, но и «гения места» – Пастернака. В сознании Монахова возникает почти карикатурный образ поэта, который, как могильщик из «Гамлета», закапывает пейзаж, по которому он уже прошёлся всеобъемлющим «наждачным» взглядом:
«Припоминал фотографию: в ватнике, кепаре и кирзовых сапогах, опираясь на мотыгу (из-за которой он и запомнил фотографию), более похожий на могильщика из „Гамлета“, чем на его переводчика, вглядывается перед собой, по-видимому, в тот пейзаж, остатками которого так и не довольствуется Монахов».
Неслучайно в первой части повести Битова пастернаковская тема вступает в оппозицию с пушкинской, а образ Переделкина – с Михайловским (местом ссылки поэта):
«Стихи, в чем он вслух не смел признаться, все-таки не нравились ему. Их усилие быть казалось ему чрезмерным. Что ж поделать, если не Михайловское так уж надо и душу вытрясти из бедненького пейзажа…».
Здесь важно, что герой-интеллигент не смеет признаться вслух в нелюбви к поэзии Пастернака, то есть чувствует давление общественного мнения, связанного с формирующимся, «бронзовеющим» пастернаковским мифом. Имел ли сам поэт, по выражению Битова, «скульптурно застывая на фотографиях», отношение к формированию мифа о себе – вопрос, важный для авторского героя. Переделкино – не Михайловское еще и потому, что Пастернак выбрал его сам, устранившись от исторических событий, как бы «умывая руки», в то время как Пушкин был насильственно выслан в Михайловское. Но для того и другого «деревня» стала подлинным «домом творчества» и источником вдохновения.
Вместе с тем досужее любопытство к месту успокоения гения является, по ощущениям битовского героя Монахова, пошлостью. Схожее ощущение описывает С. Довлатов в отношении пушкинского Михайловского в повести «Заповедник». Кроме того, битовский герой по-пушкински суеверен и боится кладбищ. Это становится толчком к развитию «горизонтального», обыденного сюжета: герой противится, но должен посетить знаменитую могилу.
«Поэтому-то он и не хотел идти на кладбище навещать могилу, чтобы не вызвать у судьбы повод тотчас попасть на него снова, уже более по делу. Не то чтобы точно так думает Монахов, это было бы уже состояние, близкое маниакальному, а он, мы повторяем, здоров, но вот нежелание и острастка – есть. И если бы его не затащили, он бы сам не пошел… Нагрянула Светочка (та, похожая…), и он непременно должен был ей эту могилу показать; что он ее сам не видел, она не поверила, и обиделась, что он-то видел, а для нее не хочет и лишнего усилия сделать… Так его поход со Светочкой все равно стал „вторым“ посещением кладбища, хотя бы и в чужом сознании. Искусственное непосещение не было зачтено ему судьбою».
Всевидящая судьба, фатум в лице автора не замедлит наказать героя, даже если он оказался у «сакрального места» не по своей воле. Из-за этого внутреннего противоборства с общей тенденцией сакрализации Пастернака герой и могилу поэта видит, как нечто пошлое и «земное». Как и могилы обычных людей, говорящие о том, что, возможно, сам покойный хотел бы скрыть. Вот и портрет по- эта на могиле кажется ему «вздорным профилем»:
«<…> он опять зашел в тупик и долго и тупо смотрел на серый камень, вздорный профиль, факсимиле… „Так вот же она!“ – радостно воскликнула за плечом Светочка. <…> Могила эта поражала бедностью. Какая вроде бы и пристала поэту… Но нет, не такая! Она была вполне на уровне здешних зажиточных могил, еще и с избыточным вкусом и интеллигентностью. Но какая все-таки бедность, в чем?»
«Избыточный вкус и интеллигентность» становятся синонимом душевной бедности. Герой по инерции продолжает противостоять влиянию пастернаковского мифа, настаивая на его искусственности, подозревая самого Пастернака в актёрстве, в «застывании» на последних прижизненных фото в «благородных» и «чеканных» позах.