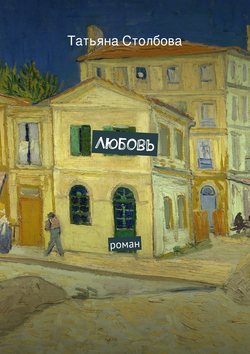Читать книгу Любовь. роман - Татьяна Столбова - Страница 4
Часть первая
III
ОглавлениеК шести вечера Коля пришел в ЦДЛ – Центральный Дом Литератора. У входа ждал Чичерин. Около него стояли Миша Ильенко и Гопкало.
– Дорогой гость! – весело закричал Чичерин, явно уже принявший на грудь. – А Гопкало, морда, сказал, что ты не придешь!
Гопкало фыркнул и отвернулся.
– Кого ждем? – спросил Коля.
– Гостей, – ответил Чичерин. – Планы поменялись. В ЦДЛ не пойдем, там один из ваших на днях…
И он рассказал, что один великовозрастный второкурсник, напившись, нахулиганил в ресторане Центрального Дома литераторов, так что теперь на студентов там смотрели с большим неодобрением.
Поэтому, чтобы в случае очередного дебоша не подмочить свою репутацию известного писателя, Чичерин решил не ходить в ЦДЛ, а устроить маленький праздник в ближайшем ресторане. Какая разница, где напиваться?
Подошел Портнов. Он принес подарок от себя и от Коли – бутылку дорогого вермута (Чичерин его очень уважал) и новую книгу модного прозаика (Чичерин его не выносил, но, поскольку прозаик Чичерина тоже не выносил, то в двадцать первой главе под его фамилией и с описанием его внешности вывел отвратительного персонажа, алкоголика с трупным запахом, извращенца и спидоносца, и Чичерин специально просил Портнова найти для него этот только что вышедший роман).
Вскоре из переулка показались Вяткин с Бобровой.
– Боброву я не приглашал, – недовольно сказал Чичерин.
– Ее не надо приглашать, – сказал Гопкало. – Она сама себя приглашает. Тем и сыта.
– Дитя анархии, – вздохнул Ильенко.
Портнов ухмыльнулся и посмотрел на Колю. В ответ Коля пожал плечами.
С двух сторон одновременно подошли еще несколько Чичеринских друзей.
– Все в сборе? – спросил Чичерин.
– Тебе лучше знать, – брюзгливо сказал Гопкало. – Ты же, блин, именинник.
На плохой характер Гопкало никто давно внимания не обращал. Чичерин тоже. Он оглядел своих гостей, потом достал записную книжку и проверил пофамильно, кто на месте.
– Номер четвертый выбыл по состоянию здоровья, – констатировал он. – А остальные все тут. Еще Валя Кутиков не подошел, но я ему звонил, он знает, что мы идем не в ЦДЛ.
– А кто там под четвертым номером? – спросил Вяткин.
– Лапшенников, – ответил Чичерин.
– Вместо него самоприглашенная Боброва, – прошептал Коле на ухо Гопкало и засмеялся.
– А Лапшенников где? – удивился Вяткин, который был не в курсе последних событий.
– Заболел, – сказал Миша Ильенко.
– Тяжело?
– Что-то вроде гриппа.
– Надо будет вареньица ему принести, – озаботился Саня.
У Чичерина вдруг испортилось настроение.
– Вареньице, вареньице, – пробурчал он. – Хватит уже болтовню болтать. Пора веселиться, мать вашу…
* * *
Водки было много, а закуски мало. «Это лучше, чем наоборот», – шепнул Коле Портнов, усаживаясь подальше от Чичерина, поскольку тот в пьяном состоянии бывал чрезмерно любвеобилен и обожал обниматься и целоваться. Портнов же этого терпеть не мог.
Они с Колей сели на другом конце стола, напротив Чичерина. Их ближайшими соседями оказались Саня Вяткин и поэт Кутиков.
Первые несколько минут Кутиков неприятно гримасничал. Он пришел последним и ему досталось место между Портновым и Ванюшей Смирновым. Первого Кутиков боялся, вторым брезговал. А Ванюша как будто нарочно сильно кашлял, и рот рукой не прикрывал, как приличные люди, потому что приличным никогда не был. Но зато он был хорошим парнем, и за это все прощали ему его маленькие недостатки. Все, кроме поэта Кутикова.
Но потом Кутиков выпил несколько рюмок подряд, в одиночку, между тостами, и повеселел. Он даже подмигнул Коле, высунув голову из-за широкого плеча Портнова. Коля удивился и от Кутикова отвернулся.
– Дорогой Чичерин! – встал с рюмкой в огромной руке Саня Вяткин. – Мы, твои коллеги и друзья, поздравляем тебя с днем рождения и желаем…
– Не с чем поздравлять, – отмахнулся Чичерин. – Пей водку, Саня. А Бобровой почему никто не налил?
Бобровой налили. Она тут же разулыбалась и, потупив глазки, выпила.
Выпил и Коля. Он наметил для себя на этот вечер не более трехсот граммов, но сейчас уже понимал, что вряд ли этим ограничится. Все вокруг пили почти без перерыва, а Колины соседи – Портнов и Вяткин – даже поменяли свои рюмки на бокалы, предназначенные для сока. Оба втягивали Колю в пространную беседу о несомненной пользе и несомненном же вреде алкоголя, в качестве примера
указывая на Чичерина, который многого в жизни добился благодаря дружеским попойкам, но при этом угробил здоровье, и теперь раз в год лежал в больнице, лечился от язвы желудка.
– Это частный случай, – сказал Коля.
– Вся жизнь состоит из частных случаев, – сказал Портнов.
– Так я не понял, Коля, ты за или против? – спросил Вяткин.
– Сам не знаю.
– Если пьет, значит, за, – решил Портнов. – И вообще, Вяткин, это сложный вопрос. Передай-ка мне бутылку. Да вон ту, что рядом с Гопкало.
Приглашенные Чичериным барды вдруг запели. Им, естественно, требовалась тишина, и все замолчали, прервав свои беседы на полуслове. Вяткин ерзал на своем стуле и, в братском порыве поддержать бардов собственным мощным вокалом, делал трагическое лицо, открывал рот, но издавать звуки все-таки не решался, ибо не знал слов.
Первая песня Коле очень понравилась. Никакой седобородой романтики, все благородно, красиво и умно. А вот вторая, шуточная, вызвала раздражение. Мастерски написанная, она, тем не менее, была вульгарна, и грубо задела в Коле ту обнаженную еще душевную струну, которой он касаться боялся, то есть в мыслях своих обходил старательно опасные темы. Он понимал, что вот-вот сорвется, или, как сказал бы поэт Кутиков, рухнет в бездну депрессии, и тогда выбраться обратно будет трудно. Поэтому в середине песни Коля встал и вышел в туалет.
Когда он вернулся, барды уже не пели. Нараспев читала стихи Лариса Вислова, заочница-москвичка, жена Игоря Бортникова, тоже заочника, занимающего большую должность в одном толстом журнале. Оба супруга были пьяны, и сильно. У Ларисы растрепались волосы, по подбородку размазалась губная помада. Кружевной воротничок на белой кофточке был заляпан кетчупом как кровью, что навевало довольно примитивную ассоциацию с комиссаршей Рейснер.
Игорь под завывания Ларисы целовался с Чичериным. Так они представляли себе настоящую мужскую дружбу.
Братья Леонтьевы, Денис и Максим, заигрывали с соседним столиком. Там сидели одни дамы, все постбальзаковского возраста, богато одетые, холеные. Бузотеры Леонтьевы тоже были пьяны, и Коля заметил внимательный быстрый взгляд Портнова, брошенный на них – Портнову уже приходилось прежде гасить их бурные ссоры. Старший, Денис, умный и тонкий прозаик, написавший пока только один, но очень необычный роман, сам красивый, высокий, изящный, после ста граммов совершенно преображался. Светлая челка его влажнела и непостижимым образом придавала ему хулиганский вид, голубые глаза стекленели, а на тонких губах появлялась наглая ухмылка. Древний инстинкт пробуждался в нем в такие моменты, и Денис, не умея вовсе с ним как-то бороться, затевал дикие драки, из которых далеко не всегда выходил победителем.
Однажды, как рассказывал Коле Портнов, дело чуть не дошло до суда. Кому-то важному, с портфелем, Денис сломал челюсть, и спасло его только то, что и ему сломали челюсть и нос, правда, неизвестно, кто именно, так как в драке, случившейся на автобусной остановке, принимали участие человек восемь. Брат Дениса Максим, переводчик, закончивший год назад ин'яз, был поспокойнее, однако в битвах старшего, всегда имевших оттенок решающей Бородинской, сражался наравне и рядом с ним, и с явным удовольствием. По причине «насмешливой принципиальности» (по выражению Чичерина) он не сумел удержаться на работе в трех подряд приличных фирмах, поэтому в данное время занимался техническими переводами на дому.
Из всех общих с Чичериным знакомых только к братьям Леонтьевым Портнов относился с уважением и приязнью. Потому что парни были талантливые, честные, добросердечные, несмотря на склонность к кулачному бою, и русский дух в них был настоящий, не наигранный, не культивируемый, как бывает вследствие скудоумия и недостатка воображения. Вот только пить им было нельзя, особенно Денису.
– Одни женщины, – негромко сказал Коля, усаживаясь на свое место рядом с Портновым.
Он имел в виду, что Леонтьевым просто не к кому сейчас прицепиться, не с кем подраться, так как за соседним столом сидят одни дамы, без кавалеров. Портнов понял, кивнул, но все равно был бдителен и время от времени посматривал на братьев.
Гопкало зачем-то начал кокетничать с Бобровой. Она ему отвечала неохотно, даже с пренебрежением. Гопкало вспыхнул и разругался с ней в пух и прах, уложившись в две минуты. После этого он отсел от нее к Вяткину и шепотом начал рассказывать ему, с кем спала Боброва и с кем она еще хочет спать. Вяткин отшучивался и стонал, но с легкой улыбкой. Он не любил ссориться.
Миша Ильенко сидел тихо, пил, по сторонам не смотрел. Пьяная Лариса Вислова старательно подмигивала ему, вытягивала губы трубочкой, изображая поцелуй, и все напрасно – Миша ее не замечал.
Вдруг выступил Кутиков. Капризным тоном он известил всех присутствующих о своем негативном отношении к Ванюше Смирнову. У Дениса Леонтьева загорелись глаза. Хищно улыбаясь, он медленно отвернулся от дам и уставился на Кутикова в упор. Тот побледнел. Портнов, тихо выругавшись, попытался разрядить обстановку. Но Денис уже завелся. Он начал вставать, в предвкушении хорошей драки чуть щурясь. У Кутикова сдали нервы и он завизжал оскорбления в адрес Дениса и, что было вполне естественно для его натуры, в адрес ближайших родственников Дениса и особенно в адрес его творчества. Чичерин с Бортниковым вскочили и стали хватать Дениса за руки. Он легко стряхнул их и не спеша пошел к Кутикову. Его брат Максим пока равнодушно улыбался.
Пришлось Портнову встать. Коля знал, что он был бы не против, если б Кутикову набили лицо, но не хотел неприятностей для Леонтьевых, которые и так постоянно ходили по краю. А тут неприятностей могло быть море – к их столу уже спешили служащие ресторана с разгневанным метрдотелем во главе.
Коля только успел подумать, что вечер уже точно будет безнадежно испорчен, и что все-таки зря он решил идти на день рождения к Чичерину, как тут одновременно Бортников, споткнувшись, упал под ноги метрдотелю, а Денис Леонтьев, ловко обогнув Портнова, врезал Кутикову между глаз. Коля вскочил. Максим Леонтьев тоже.
Хотя и Коля, и Портнов пытались всего только защитить Кутикова от Дениса, получилась драка. Нечаянно Денис ударил Портнова. Портнов, действуя чисто инстинктивно, ответил прямым в глаз. Визжал и пытался оцарапать Дениса и подоспевшего Максима Кутиков. Коля тащил его на себя, не слишком успешно уворачиваясь от ударов Максима, который, целясь опять же в Кутикова, через раз промахивался и попадал Коле. Вяткин, Ильенко, Гопкало и Бортников суетились вокруг. Боброва спокойно сидела на своем месте и потягивала водочку. Чичерин, опершись рукой на плечо обомлевшей от ужаса дамы с соседнего столика, обращался с проникновенной речью к метрдотелю. Тот его не слушал, а кричал зычным голосом: «Вызовите милицию!», и отталкивал барда, вставшего между ним и хулиганами. Кто-то в истерике метнул бутылку, угодив прямо в зеркало. Со звоном посыпались осколки.
Ванюша Смирнов спал, уронив голову на грудь.
Спасла положение Боброва. В самый кульминационный момент, когда вся возня начала перерастать в серьезную драку, она подскочила к Коле со спины и гаркнула: «Шухер! Ментовка на хвосте!». И все побежали к выходу. Первым несся Кутиков. За ним Леонтьевы, Бортников с Ларисой, барды, Гопкало, Ильенко, Вяткин, Боброва и Чичерин. Последними покинули поле битвы Портнов и Коля, и то с боем, потому что метрдотель успел крепко вцепиться в полу пиджака Портнова и тянул его на себя, упираясь в пол коротенькими толстыми ножками. Портнов, матерясь, упорно двигался к выходу. Коля, стремясь освободить друга, кулаком бил метрдотеля по рукам, но тот обладал мертвой хваткой бультерьера и отпустил Портнова только после того, как Коля, отчаявшись и видя, что их со всех сторон берут в плотное кольцо официанты, ударил его в ухо.
Прорвав окружение, Коля с Портновым выбежали на улицу.
Было почти темно. Вдалеке раздавались знакомые звуки драки.
Коля остановился, всматриваясь в полумрак, и не сразу понял, что может видеть одним лишь глазом – второй, левый, уже закрылся и начинал заплывать. По левой же щеке теплой струйкой текла кровь, заливаясь за воротник рубашки.
Портнов потянул замешкавшегося Колю и они быстро пошли к месту сражения. Им оставалось пройти несколько метров, когда сзади послышалась сирена и засверкала мигалка.
– Черт! – в досаде крикнул Портнов. – Вот черт!
Он развернулся и, схватив Колю за рукав, рванул в обратную сторону.
У Садового кольца они остановились, перевели дух. Портнов был взвинчен и зол.
– Ну что я мог сделать? – вдруг спросил он, глядя Коле прямо в глаза.
Коля пожал плечами. Если б Портнов не поволок его с собой, он бы остался. Конечно, это было бы глупо, потому что никому и ничем он помочь бы не смог, а отправился бы с ними в отделение, вот и все, но он лучше бы отправился в отделение, чем стоял сейчас здесь свободный и с нечистой совестью.
– Что, опять тебе Портнов виноват? – с тоской сказал Портнов, читая мысли. – С Лапшенниковым обделался, теперь вот тоже…
– Ты не виноват, Андрей, – покачал головой Коля. – Я сам не малыш, мог бы и остаться.
Они посмотрели друг на друга, повернулись спиной к дороге, недалеко от которой был вход в метро, и пошли назад.
* * *
Из милиции их выпустили утром. Всех, кроме Дениса Леонтьева, который, как выяснилось, попал в это отделение уже третий раз. Максим остался с ним. Портнов тоже хотел остаться, но его выгнали.
– Считайте, вам двоим повезло, – закрывая дверь за Колей и Портновым, буркнул немолодой капитан.
Им действительно повезло. Подлый Кутиков представил их чуть не как зачинщиков драки, приравняв к Леонтьевым, но неожиданно за них вступился метрдотель. Ухо его распухло и покраснело, он все прикрывал его ладонью и, поймав Колин взгляд, погрозил ему пальцем, однако милиционерам сказал, что эти двое (тут он показал на Колю и Портнова) старались разнять вон тех (он показал на Дениса Леонтьева и Кутикова), и сами при этом пострадали.
Коля уж точно пострадал. Его левый глаз совсем затек, бровь и нижняя губа были рассечены и из этих ран постоянно сочилась кровь, переносица вздулась, посинела. Портнов отделался одним синяком на левом виске, но таким обширным и черным, что казалось, будто в это место его ударили несколько раз подряд. Впрочем, может, так и было.
Максим Леонтьев вышел на минутку следом за Колей и Портновым и извинился перед Колей за причиненные случайно увечья. «Бью по Кутикову, а попадаю по тебе, – объяснил он светским тоном. – Наваждение какое-то». Перед Портновым он извиняться не стал, да они были в расчете – все синяки Максима и Дениса Леонтьевых были поставлены именно Портновым.
Пока Максим приносил извинения, Портнов, слегка улыбаясь, смотрел в сторону. Коля знал, его немного смешили изысканные манеры младшего Леонтьева, которые сейчас совсем не шли к его разбитому лицу. Но вообще настроение Портнова было неважным. И это Коля тоже понимал – за два дня он два раза совершил непоправимые с его собственной точки зрения проколы (в случае с Лапшенниковым и во вчерашнем побеге от милиции), и теперь начинал сомневаться в себе, в своей мужественности, в своей нравственности. Для Портнова такие сомнения были настолько типичны, что не только Коля, а и Саня Вяткин – единственный, кто дожидался их, стоя в сторонке – сразу все понял.
Когда Максим Леонтьев скрылся за дверью отделения, Саня подошел ближе и, хмурясь, сказал Портнову:
– Зря ты, Андрей, все на себя берешь. Ты не железный. С каждым случается.
– О чем ты? – притворно удивился Портнов, но Коля видел, что он ужасно разозлился, и только симпатия к Сане не позволяет ему показать это.
– Ладно, поехали в общагу, – вздохнул Саня.
Всю дорогу до общежития Портнов плелся сзади. Коля, ощущая его состояние не менее остро, чем свой недавний сплин, не окликал его, и заговаривал зубы добряку Сане, в корне пресекая все его попытки подождать Портнова и побеседовать с ним по душам.
В метро Колин вид привлек внимание милиционера. Хорошо, что паспорт с московской пропиской Коля всегда носил с собой. У Портнова паспорта не оказалось, и Саня Вяткин с трудом уговорил стража порядка не забирать его, объяснив его унылый вид и синяк на виске трагической историей любви и измены и с ходу напридумывав массу потрясающих воображение подробностей.
Портнов, скучая, слушал Санин бред, но, к счастью, не вмешивался. Наконец их отпустили. На эскалаторе Саня молча снял свою куртку и отдал Коле.
– Зачем мне? – не понял Коля.
– Прикройся хоть, – пробурчал Саня.
Коля осмотрел себя и ужаснулся. Вся левая сторона его новой вельветовой светло-голубой рубашки была в пятнах и потеках крови, уже порыжевших. Ворот наполовину оторван, рукав разошелся по шву. «Ну, Максим, бляха-муха», – про себя выругался Коля, но потом вспомнил, что ворот ему порвал Вяткин, когда пытался вытащить его из эпицентра драки, а рукав – Портнов, когда тянул его за собой, удирая от милиции.
Коля молча взглянул на Вяткина, взял куртку, надел и наглухо застегнулся.
До самого входа в общежитие друзья не проронили ни слова.
* * *
В выходные Коля лечился – делал примочки из газеты и глотал анальгин, так как лицо очень болело.
Он опять был один, потому что Портнов куда-то исчез, забрав из тумбочки все свои деньги и оставив для Коли двадцать рублей на столе. Несколько раз приносили записки от Нади – она просила, чтобы Коля позвонил. Коля звонить не стал. В таком виде он не мог с ней встречаться, а объяснять, что произошло, не хотелось.
Заходил в гости Ванюша Смирнов, со смехом рассказывал, как его, сонного, официанты выносили из ресторана, и как он добирался ночью домой на попутках, и как потом вспоминал, у кого он был на дне рождения – у Чичерина, у Бортникова или у Гопкало.
Заходил и Саня Вяткин. Он был непривычно мрачен, и все полчаса, что пробыл у Коли, только вздыхал, качал головой и мямлил что-то о космосе, в котором развелось слишком много темных сил.
Лапшенников через Саню передал Коле листок с экспромтом:
«Виноватых нет. Нет и правых.
Этот мир так к невинным жесток.
Сколько мальчиков бродит кровавых
По ухабам российских дорог…»
В воскресенье, к вечеру, глаз наконец приоткрылся; Коле показалось, что и синяки уже побледнели. Но тут пришел Миша Ильенко и заявил, что, наоборот, они стали темнее и ярче, да еще и расползлись по всему лицу. «Ты теперь хуже выглядишь, чем Лапшенников, – сказал Миша. – Весь в разводах. Тебе ни в коем случае нельзя завтра показываться в институте». «Я загримируюсь», – неуверенно сказал Коля. «Не смеши меня», – сказал Миша.
Ночью появился Портнов, совершенно пьяный. Он едва добрался до своей кровати и рухнул прямо на покрывало, испачкав его грязными мокрыми ботинками.
Коля снял с него ботинки, стянул брюки и свитер и укрыл одеялом. Мысли разбредались. От настольной лампы на темную стену падал овальный рассеянный блик, почему-то напомнивший Коле о доме, о родителях, о длинных осенних вечерах, которые когда-то они проводили всей семьей… Колино сердце сжалось, губы дрогнули. Он вдруг так захотел увидеть маму и отца, что чуть не решился пойти к Вяткину, взять денег в долг и поехать на вокзал, за билетом.
Через минуту порыв прошел. Коля сел к столу, раскрыл тетрадь, зачеркнул название «Песок времени» и первую строчку, и начал писать…
* * *
В полдень в дверь настойчиво постучали. Коля открыл.
В коридоре стояла торжествующая вахтерша. Она сообщила, что звонили из института, требуют, чтобы к двум часам дня они оба – и Коля, и Портнов – явились к проректору по учебной работе.
– Кутиков, с-сволочь, – прохрипел Портнов.
Он сел на кровати, и, поминутно заваливаясь, стал натягивать штаны. Выглядел он отвратительно – помятый, отекший, бледный, с мутными блеклыми глазами и встопорщенными волосами. Руки его так дрожали, что он никак не мог застегнуть молнию на брюках – пальцы соскальзывали.
– Пора тебе с этим делом завязывать, Андрей, – сказал Коля, наблюдая за его манипуляциями с ширинкой.
Портнов кивнул, соглашаясь.
Потом по просьбе Коли он сходил к соседкам и взял у них косметику.
Коля долго сидел перед зеркалом, тщательно замазывал синяки, подрисовывал черным карандашом рассеченную бровь и пудрился, пока не стал похож на Пьеро, только с заплывшим глазом.
– Фу, – сказал Портнов, взглянув на него. – Иди, пожалуйста, умойся.
Коля тяжко вздохнул и пошел умываться.
* * *
На обратном пути из института Портнов купил бутылку пива – чтобы успокоиться, объяснил он Коле. Хотя Коля не заметил, чтобы он особенно переволновался. Его уже неоднократно вызывали к проректору, а отчислили всего один раз, и то через полгода восстановили. Портнову пришлось всего лишь предъявить две написанные им за это время повести, да приличия ради сказать, что впредь будет пить «аккуратно». Формулировка была не Портновская. Ею обычно пользовался проректор, большой дипломат, благодаря которому институтские алкоголики все-таки кое-как учились и даже защищали дипломы.
Вот и сегодня: проректор выяснил, с чего началась драка, сказал, что знает Дениса Леонтьева, повздыхал, и, неодобрительно посмотрев на Кутикова, всех отпустил.
Кутиков сразу убежал, видимо, опасаясь Портнова. И зря. Портнов пребывал в меланхолии. Он даже проректора слушал, прикрыв глаза и отвернувшись к окну. А когда вышли из кабинета, и вовсе ушел в себя.
Коля тоже молчал. Говорить было не о чем. Мысли были вялы, незавершены и сумбурны, и Коля даже не пытался упорядочить их. Опять душу его заполнила тоска; он поддался ей легко, с каким-то странным мазохистским чувством, вроде удовлетворения. Может быть, это объяснялось тем, что в его затянувшейся апатии любое ощущение, пусть и отрицательное, имело цену. Или он таким образом уходил от бытия, весьма надоевшего, причем, неясно, почему. Прежде-то Колю все в его существовании устраивало, а теперь не устраивало ровным счетом ничего. Даже Надя, благодаря которой он довольно долго еще держался на поверхности жизни, стала ему не нужна. Он не видел ее всего несколько дней, и за этот короткий срок Надя как-то очень естественно оказалась на дальнем плане. То есть Коля как микрокосм разделился на две неравные части. В одной, большой, находился он сам; в другой – все остальные. И Надя тоже. Он и вспоминал о ней редко.
– Будешь? – Портнов протянул ему бутылку.
Коля покачал головой. Пива ему не хотелось. Ему хотелось одиночества и немного неяркого солнца, которое сейчас закрыли большие белые и пухлые облака. Коля подумал вдруг, что если сесть на скамейку и долго смотреть в небо, такое высокое, такого чистого серо-голубого цвета, то душа откроется, муза вернется к нему, и он сумеет почувствовать свой недописанный рассказ, опять зависший на полутоне…
Коля хотел уже сказать Портнову, чтобы тот ехал в общежитие без него, как тут его окликнули. Он оглянулся. Это была Боброва.
Она шла твердой мужской походкой, при этом по-детски размахивая маленькой модной сумкой, по стилю совсем ей не подходящей.
Портнов, не дожидаясь, когда она приблизится, быстро попрощался и пошел к метро. Коля уныло посмотрел ему вслед. Об одиночестве придется забыть, по крайней мере на ближайшие минут двадцать – раньше Боброва не отстанет. Наверное, с таким упертым характером в прошлой жизни она была спортсменкой, ходила в сатиновых трусах, курила «Герцеговину Флор» и говорила басом. Ну, положим, басом она и сейчас говорит, когда хочет произвести впечатление, что же касается трусов… Тут Колина мысль – о трусах – оборвалась. «Фрейд, – равнодушно подумал он. – Или шизофрения».
Именно на этом моменте его депрессия достигла апогея. В следующую секунду Боброва уже открыла рот и сказала с прононсом: «Привет».
* * *
– Привет, – ответил Коля.
И Боброва, поминутно шмыгая носом, поскольку была простужена, начала рассказывать длинную историю о том, как один семнадцатилетний первокурсник попросил ее почитать его стихи и дать им оценку. «Ты, Ира, настоящий поэт, – якобы сказал этот дурак, – и лишь одну тебя я могу ознакомить со своим творчеством. Другим я не верю». Боброва спросила его, почему он не верит другим, и тот туманно ответил: «Жизнь научила».
Коля понял, что соль истории не в том, что Боброва – живой классик. Вернее, не только в том. Подтекст просматривался ясно: Ирина намекала на свою личную привлекательность и сексуальность. Мол, будь первокурсник постарше, он не прикрывался бы нетленными виршами, а рубанул бы прямо с плеча: «Хочу тебя, дорогая Ира».
– Дорогая Ира, – вежливо сказал Коля. – Посмотри внимательно на мою рожу.
– Да, – как будто только сейчас заметила она. – Ты не слишком хорошо выглядишь.
– Вывод: я поехал домой. Оревуар.
– Нет, не оревуар. То есть, подожди минутку. Как себя чувствует Лапшенников?
– Лучше, чем я.
– А ты читал новую пьесу Вяткина?
– Ира, – Коля дружески положил руку ей на плечо. – Гудбай.
– Коля… Знаешь, я тут звонила Анжелине, и она призналась, что ты ей понравился. Приглашала тебя в гости.
– Спасибо, как-нибудь заеду.
– А давай сейчас в рюмочную пойдем? Я перевод из дома получила и могу тебя угостить.
Коля помолчал. Он понял уже, что большое сердце Бобровой теперь отдано ему. Он совсем не хотел ее обижать, но то, что еще пару месяцев назад показалось бы приятным разнообразием, сегодня только пугало. Поэтому ответ напрашивался сам собой. И Коля так и сказал бы, как чувствовал: «Ира, прости, но не могу. В другой раз, ладно?». И тут вдруг представил себе общежитие, комнату с мрачным, погруженным в ипохондрию Портновым, свой стул, свой стол, свою кровать, немытую чашку на подоконнике, и вся эта картина была настолько явственной, настолько привычной, а потому отвратительной, что Коля решительно мотнул головой, отгоняя видение, улыбнулся Ирине и произнес:
– Неплохая идея.
Боброва расцвела.
* * *
И по дороге с лица ее не сходила счастливая улыбка. Пока ехали в троллейбусе, она без умолку трещала на бабские темы, потом, уже на улице, стала вдохновенно читать отрывки из своей поэмы про одинокого таксидермиста (Коля знал эту вещь, ее напечатали в прошлом году в маленьком поэтическом сборнике, с невероятным количеством опечаток); потом вдруг умолкла.
Как раз в эту минуту они подходили к рюмочной, и Коля не заметил изменившегося настроения своей спутницы. И до того он не слишком внимательно ее слушал, пытаясь дословно вспомнить последний абзац своего рассказа и уловить его фонетический тон, от которого, как он думал, прямо зависело все остальное – и дух, и лексика, и даже сюжет и образ действий героев. Пока Боброва бубнила рядом, у него все получалось; теперь он почувствовал дисгармонию, сбился с мысли и напрочь забыл только что придуманное предложение, точное и выразительное – им можно было бы закончить первую часть рассказа.
Вздохнув, Коля повернулся к Бобровой. Ее рядом не было. Он остановился, оглянулся. Ирина стояла посреди тротуара, прижав сумку к груди. Взгляд ее блуждал как у тихопомешанной. Пальцы левой руки нервно подергивались.
Подойдя поближе, Коля услышал ее бормотание: «…любит-не любит-любит…»
– Ира, ку-ку, – с улыбкой сказал Коля.
– Ку-ку… – шепотом ответила Боброва.
– Все лепестки оборвала?
Боброва скосила глаза на свою левую руку, отбросила воображаемую ромашку и кивнула.
– Не любит, – горько сказала она. – Э-эх!..
Большая толстая Боброва была так трогательна в эту минуту, что Коля улыбнулся ей мягче, приобнял и, чуть наклонившись к ней, сказал:
– Ну и фиг с ним. Пойдем, пива хряпнем и забудем обо всем.
– И музыку послушаем?
– И музыку.
– И…
– Боброва! – строго сказал Коля. – Никаких «и».
Она засмеялась, взяла Колю под руку и они направились прямо в рюмочную, до которой оставалось не больше двадцати шагов.
Здесь было пусто. Пара за одним столиком, пара за другим, и все. На подоконнике сидел толстый рыжий кот. Деревянные перегородки создавали иллюзию отстраненности от посторонних; из динамика на стойке доносилась тихая музыка – слишком романтическая, слишком чувственная. Чуткая Боброва расширила глаза, раздула ноздри и посмотрела на Колю с такой страстью, что самой стало смешно. Она расхохоталась. Коля тоже. Он вдруг словно освободился от чего-то тягостного, тоскливого, томного, что вообще не соответствовало никогда его характеру и душевному складу, а потому так мучило. За последние месяцы Коля ни разу не ощущал себя настолько легким, почти невесомым. «Вот так номер, – удивленно и весело подумал он. – Абсурд, не может быть…» Однако так быть могло и было – из-за ерунды, дурацкого басовитого хохота Ирки Бобровой Колина депрессия улетучилась, растворилась в душном, чуть дымном воздухе рюмочной.
– Водки, – не спросила, а уверенно сказала девушка в форменном платье, помахивая меню.
– А вот и водки, – вызывающе ответила Боброва. – Да, Коля?
– Само собой.
Щедрой рукой Ира вывалила на стол комок бумажных денег, пересчитала, выяснила, что хватит аж литра на три и две порции пельменей, и заказала для начала два по двести, ну и пельмени, конечно.
Мельком Коля подумал, что вечером ему, возможно, придется тащить Боброву на себе, как на днях Лапшенникова, но отогнал такие мысли. Гулять так гулять. Душа должна быть свободна. Что может этому помешать? Семьдесят пять килограммов поэтессы Бобровой? Конечно, нет. Донести бесчувственное тело до общаги не так уж сложно, Коля это и до Лапшенникова делал, и ничего, не надорвался. Правда, Боброва не жила в общежитие, а где-то снимала, но появлялась у однокурсников часто, и если так уж сложится вечер, Коля без труда найдет комнату, где она могла бы переночевать.
Он посмотрел на Ирину другим взглядом. И на сей раз не увидел ни толстых щек, ни светлых редких, выщипанных в ниточку бровей, ни прыщика на носу. Только ямочки возле уголков губ и удивительный, словно прозрачный, светло-зеленый цвет глаз.
Пока девушка за стойкой разливала для них водку, они смотрели друг на друга, и Коля думал, что вот еще чуть, и можно будет сказать точно, что ромашка Ирку обманула. Но он всегда был реалистом и потому понимал – это экспромт, всего лишь, не более того, ослепительный миг, а завтра все забудется. Вот только она не забудет. Девушки романтичны и доверчивы, такова уж их природа.
Мысли Колины были гадки. Он сам чувствовал, что не надо думать о каком-то там «завтра», которое и наступит ли – неизвестно. Надо жить сейчас, как говорит Портнов, чтобы секунда совпадала с секундой, а не растягивалась и не уменьшалась, в этом гармония.
Он почти упустил уже со всем этим препарированием собственной души тот импульс, потянувший его к Бобровой. Она все смотрела на него, он же начал отводить взгляд. Да к тому же вспомнил некстати, что никогда еще не пил за счет дамы. Впрочем, финансовый вопрос решался просто: завтра Коля намеревался сходить в журнал, получить гонорар за статью и рассчитаться с Ириной за прекрасное сегодня…
И тут девушка за стойкой на полную громкость включила магнитофон; первые же слова – «а не спеть ли мне песню о любви…» – совпали с Колиным настроем; импульс вспыхнул с новой силой, так что Колю даже передернуло от нахлынувшего счастья, невесть откуда взявшегося; девушка принесла пельмени и водку в граненых стаканах. Боброва что-то сказала. Из-за музыки Коля не расслышал. Тогда она подняла стакан, кивнула Коле и отпила несколько больших глотков.
«Не слабо», – подумал Коля и выпил все до дна. Гулять так гулять. Он ощущал в себе столько освобожденных сил, что не сомневался – сегодня можно не сдерживать себя и не считать граммы. Все будет окей, или хоккей, как говорит все тот же Портнов.
Пельмени оказались отличными. Обе тарелки опустели за несколько минут. Боброва, перекрикивая музыку, подозвала официантку и заказала еще.
Когда девушка принесла две порции, Ирина вилкой перебросила из своей тарелки в Колину половину пельменей. Коля засмеялся, покачал головой и вывалил ей почти все, оставив себе пять штук. Он не хотел больше есть. Для того, чтобы оказаться сейчас на седьмом небе, ему требовалось только, чтобы музыка играла чуть тише, водки на столе было чуть больше, а день был чуть длиннее.
Ирина накрыла его руку своей ладонью и тут же убрала ее, смутившись. Это мимолетное прикосновение Колю обожгло. Так никогда не было с Надей. И с Аллой, в которую он был серьезно влюблен с восьмого класса вплоть до школьного выпускного вечера. А с Бобровой, некрасивой, далекой от него, чужой и странной, случилось.
Она больше не смотрела на него. Склонившись над своей тарелкой, она уминала пельмени, щеки ее смешно двигались. Коля улыбнулся. Сама того не заметив, Ира съела все, и сейчас возила вилкой по пустой тарелке.
Музыку сделали тише. Посетителей прибавилось. Они разбрелись по кабинкам, и теперь вместе с девушкой в форменном платье по рюмочной ходила хмурая уборщица, протирала столы грязной тряпкой.
– Сервис, – сказал Коля, пытаясь отвлечь Ирину от грустных мыслей.
Она не стала ломаться. Подняла глаза. Взяла стакан.
У Коли на языке вертелся глупый тост. Он не стал его произносить, не желая испортить то, что возникло. А возникло многое. Ирина смотрела на него в упор, словно гипнотизировала. Он не отводил взгляда. Уже незачем было – все началось, и нисколько не стесняло, не пугало. Ее, видимо, тоже. Они вдвоем, одновременно, перешли некую грань, за которой существовал другой мир. «Любовь», – с усмешкой назвал его про себя Коля. «Любовь», – глазами подтвердила Ирина. «Нет, – ответил Коля. – Не любовь. Это кое-что другое».
Да, это называлось иначе. Коле стало жарко. Он вытер ладонью пот со лба и тоже поднял стакан. Они выпили, не отводя глаз друг от друга. У Коли мелькнула противная мысль, что такое должно было быть у него хотя бы с Надей, но не с Бобровой же. На миг он увидел и толстые щеки, и мышиного цвета волосы, но, как нечаянный глюк, это сразу прошло.
Неслышно подошла официантка, поставила на стол графин с водкой и чистые стаканы.
Коля наощупь нашел в кармане пачку «Явы», достал ее, вытянул сигарету и закурил. Руки его немного дрожали. Так с ним бывало и прежде, когда он приближался, например, к Наде и слушал ее учащенное дыхание, и сам начинал дышать так же, а потом касался губами ее губ, а потом происходило и все остальное, о чем Коля вспоминать не любил, потому что по складу своему все-таки был пуританин.
В горле стало сухо, он закашлялся, взял стакан и допил водку. Сбоку мелькнуло форменное платье – официантка забрала пустые тарелки и снова исчезла. Музыка звучала как будто издалека, но казалось, что она была везде, проникала в душу через все поры и сердце от этого билось сильно, гулко, прерывисто.
Ирина словно услышала этот нервный стук. Брови ее дрогнули, и ресницы стали влажными. Ее расширенные зрачки, черные, горячие, придавали всему облику одухотворенность и, как ни удивительно, красоту. Так и было – хотя лица ее Коля не видел, зато в ее глазах мог отлично рассмотреть себя самого, и по выражению собственного лица и собственного взгляда понимал, насколько Ирина красива сейчас.
Пепел с его сигареты падал на стол. Он ничего не замечал, кроме этих глаз напротив. Он плавился в них и готов был раствориться, принести себя в жертву, если бы только знал, чему или какому идолу. (Но даже в эти – возвышенные – мгновения Коля анализировал ситуацию, хоть это и получалось как-то отвлеченно, урывками. Так, он подумал, что пока не имеет кумира, а посвящать себя Бобровой не намерен ни при каких условиях. И еще: что все это низко, как сама мысль, так и вывод насчет Бобровой. И уже совсем мимолетно: что и это тоже вздор, и можно без особых угрызений совести за такую низость себя великодушно простить. Мало ли в жизни делаешь ошибок?.. Однако стать жертвой все же очень хотелось.)
Мурашки пробежали по спине, по рукам. Коля почувствовал сильный жар, градусов до сорока, причем не по всему телу, а лишь в некоторых местах, и от этого ему было немного стеснительно, но зато очень, очень приятно. Голова стала пустой, легкой и большой как воздушный шарик. Сердце подергалось судорожно и свалилось вниз, в самое пекло, и оттуда сейчас сигнализировало тревожно, пуская по венам ток: пять-четыре-три-два-один…
Вдруг Ирина глубоко вздохнула, и он понял, что уже весь был с ней и в ней. Он ощутил это ярко и коротко, напрягся на миг и – резко расслабился.
И музыка грянула во всю мощь.
Коля скривился. Наваждение прошло. Боброва откинулась назад, опустила наконец глаза, налила себе водки. От ее ладони на графине остался мокрый след. Коля растер его пальцем и налил себе тоже.
– Со знакомством, – цинично сказала Боброва, приподнимая стакан.
Коля кивнул, выпил. Лицо его горело. Он прислонил холодный от водки стакан сначала к одной щеке, затем к другой. Ирины он не стеснялся, она улыбалась ему как обычно, а вот официантка, проходя по залу, посмотрела на них обоих насмешливо, будто наблюдала за процессом от и до. А может, и наблюдала. Коля пожал плечами и отвернулся. Он устал, ломота в спине раздражала, как напоминание о грехопадении. Сказав Бобровой, что сейчас вернется, он пошел в туалет.
* * *
Я поставлю пластинку, пусть развеет хандру мою рок
Пусть сыграют меня на басах эти мальчики в черном
Пусть они пропоют обо мне между звуков и строк
Черный занавес сдернув.
Под ногами как тень будет занавес мяться и плыть
Поднимаясь наверх по ступеням, по небу, по нотам…
Помоги мне заснуть, помоги ненадолго забыть
Безнадежное что-то.
Кто стучится ко мне? Я кричу: «мне не нужен никто!»
Я, конечно, солгу, ожидая опять, что поверят.
Так не вышло. И вот, в черной шляпе и в черном пальто
Он остался у двери.
Потирая ладони, эта черная сволочь молчит
Но меняется свет, и меняется с ним представленье —
Я люблю его – на! – и бросаю к ботинкам ключи
Отменив воскресенье.
Воскресенья не будет. Амадея не будет. И рок
Поднимаясь наверх по ступеням, по небу, по нотам,
Позабудет меня где-то там, между звуков и строк
На крыле самолета…
Коля сразу узнал стихотворение и остановился на полпути, дослушать. Боброва обожала писать о черном человеке, который злодейски отравлял и без того тяжелую жизнь поэтессы, с упорством киношного маньяка появляясь в самых неожиданных местах – в подъезде, в автобусе, под кроватью, в ящике с нижним бельем (это был очень эротичный образ – черный человек, обвешанный бюстгальтерами, вылезал из ящика и мрачно сверкал глазами; лицо его, естественно, было прекрасным и мертвенно-бледным). Но эта вещь Коле чем-то была близка. Он даже помнил последние строки наизусть и однажды читал их Портнову и брату Алеше. Алеше понравилось, Портнову – нет.
Однако перед кем сейчас выступала Боброва? Голос ее звучал громко и отчетливо, публика в кабинках слушала между прочим, одни улыбались, другие сосредоточенно жевали, третьи просто внимали. Последнее слово стихотворения Боброва выдохнула, чуть протянув «л», как настоящая артистка. И умолкла. Рыжий кот потянулся, зевнул и лениво куснул лист какого-то полуживого растения, стоявшего в горшке на подоконнике.
Коля подошел к стойке, попросил барменшу принести пепси или фанту, только из холодильника. У него поднялась температура, он не знал, по какой причине, и думал сбить ее холодным лимонадом.
Возвращаться на место почему-то не было желания. Он огляделся. Посетители пили, ели, говорили и смеялись. Голоса сливались в гудящий шум. Музыка играла тихо – Коля стоял рядом с динамиком и едва мог расслышать слова лирической песни с красивой мелодией. А расслышать хотелось. Он еще был во власти того чуда, что выдернуло его из долгой депрессии и бросило в жар эротических чувств; он бы продолжил праздник, но не был уверен, что Боброва способна на большее и поможет ему сделать следующий шаг вперед. Она была его сталкером и в то же время его Сусаниным. Она могла завести далеко и там оставить, а могла сама заблудиться в трех соснах. То есть, на нее надежды было мало.
Барменша дала ему холодную бутылку пепси. Он взял ее за горлышко и пошел к своей кабинке. Боброва с кем-то разговаривала. Коля слышал только ее голос. Она возбужденно рассказывала о вечере поэзии, состоявшемся недавно в…
Коля замер. На его месте сидела Лю.