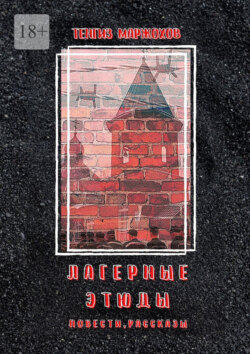Читать книгу Лагерные этюды - Тенгиз Maржохов - Страница 5
Лагерные этюды
Курбан
ОглавлениеТак звали прокопченного сухопарого мужика, пришедшего к нам в палату попросить чаю и познакомиться. Держался он просто и уважительно, бодрясь и храбрясь. Отвечал заученной скороговоркой. На вопрос – какого образа жизни придерживается, ответил:
– Воробской мужик!
– Воровской?
– Да. Воробской.
– Это как понять? – весело переглянулась молодежь.
– Ну… мужик, но не просто мужик, а… ну…
– Короче, придерживаешься воровских традиций.
– Да. Да.
– Откуда приехал?
– С Бомбея, – покривился он.
– С какого Бомбея?!
Кстати, Курбан очень даже походил на индуса или пакистанского беженца. Характерная копченость под действием холодно-умеренного климата лишь слегка поблекла, но не вытравилась совсем.
– С Барисаглебска, – уточнил он и поискал глазами местных.
– Как там положение?
Курбан сделал жалобное лицо, при этом нервно мял завернутую в газету заварку чая, полученную с общяка. От чифира все равно не отказался, пил смачно прихлебывая. Было видно, больше всего на свете он не хочет обратно в Борисоглебск, и лишь присутствие местных, не дает ему с легкой душой прямо высказаться об этом лагере.
– Откуда сам?
– С Таджикистана.
– Таджик?
– Да, – покивал Курбан утвердительно, не понимая – хорошо это или плохо.
Нужда заставляла Курбана постоянно наведываться в котловую палату за чаем и куревом. Как бедолага, он ничем не брезговал. Хотя с мужиками пытался поставить себя на уровне. Проявлял принципиальность, иногда гордость.
С братвой был вежлив, острые углы обходил. Как старый марабу, блуждающий по лагерной саванне, понимал, куда можно сунуть клюв, а куда не стоит. Короче говоря, был тот еще пройдоха, насколько позволял интеллект фарса и социалистическо-азиатский опыт.
От администрации мог стерпеть многое. Но, бывало, пускался во все тяжкие и сиживал в штрафном изоляторе. Изолятор ему даже нравился – просить насущное не требовалось – крыша хорошо грелась. Попавшие в камеру после Курбана, хвалили его за поддерживаемую чистоту и порядок.
Во мне Курбан нашел родственную единоверную душу, и большую советскую энциклопедию. Сталкиваясь с неразрешимым вопросом, проблемой, приходил ко мне.
– Салам алейукум рахматуло ибн ази… – приветствовал на азиатский манер. – Так дела?
Курбан не мог понять разницу между «как» и «так», и лепил когда как. Если при разговоре это не замечалось, то когда он писал малявы, а бывало и такое, буква «т», стоя не на своем месте, кренилась, как старый пляжный гриб на сухом песке.
Срок у Курбана был семь лет. За что сидит – не распространялся, говорил коротко: «За барана». Никто в душу ему не лез. Чем мог заинтересовать невзрачный таджик без поддержки с воли?
– За какого барана семь лет дают? За курдючного? Или золоторунного? – подкалывал я его, понимая – темнит «воробской мужик».
Много позже, уже в лагере, Курбан поведал мне, что приехал в Воронежскую область, поселок Семилуки на заработки. Дома у него осталась жена и дети. Ведь кормить семью как-то надо. А на родине гражданская война: Вовчики и Юрчики власть не поделят. Сеют свинец из оставленного после развала Союза оружия, собирают урожай мертвяков. И как простому человеку жить?
Сколотил Курбан какую-никакую строительную бригаду. Ни шатко, ни валко, пошло, вроде бы, дело: меси цемент, клади кирпичи… Тут нарисовался какой-то семилукский авторитет.
При этих словах Курбан понижал голос и озирался.
Начал приставать, угрожать, чтоб платил, мол, ты на нашей земле и все такое. В очередной визит местного рэкетира, они снова не пришли к консенсусу. Блатные угрозы не возымели должного воздействия на пуганного таджикского прораба. Тогда авторитет схватил вилку со стола и воткнул Курбану в нос.
Пытаясь остановить кровь над раковиной, Курбан приметил в углу топор.
Сорок два удара зафиксировал криминалист на трупе потерпевшего.
Подавшись в бега, Курбан осел в приморской Одессе. Постепенно жемчужина у моря отогрела скованную страхом душу. Цветами акации зацвела новая жизнь! Курбан женился и народил двух дочек уже от дородной хохлушки. Он ласково называл жену Аксаначка, и скучал больше по одесской семье. Дома, в Таджикистане его похоронили и даже не вспоминали.
– Сколько ты пробегал?
– Семь лет, – говорил гордо Курбан. – Одевался в пиджак и галструк…
– Галстук?
– Да. Галструк. Представлялся Насрединовым Фахредином Мухрединовичем, или наоборот… Документов не было. Участковый меня спалил и сдал. А сначала мы как приятели были. Его мамочку еба… Потом по этапу в Воронежскую область привезли и осудили.
– Еще нормально дали.
– Да, – соглашался задумчиво Курбан, хотя, по его мнению, он заслуживал орден. – Мало дали, потому что брат убитого претензий не имел. Сказал: «Знаю, кем был мой брат, и чем занимался».
Курбан частенько меня навещал. Когда его сажали, если получалось до изолятора, после обязательно и первым делом шел ко мне. Рассказывал о положении под крышей: какая смена козлячая, кто из мусоров падла, а кто нормальный; какие рамсы между собой и кто прав, а кто нет (на его воробско-мужицкий взгляд). Поделившись, прояснив для себя тонкости арестантской жизни, прихватив гостинцы, со спокойной душой удалялся.
Вообще, общался со мной, как с братом. И заодно поднимал себе рейтинг.
– Эти… видят, что я с тобой общаюсь, и не лезут. А так давно сожрали бы, – говорил откровенно.
Иногда, прогуливаясь, когда бывало многолюдно в локалке, он умышленно заводил разговор на серьезные темы.
– Пусть слышат, что мы с тобой не вата катаем, – говорил шепотом. Затем в голос: Я на многих крытых бывал: в Новосибирске, Одессе, Караул-Базаре, Ростове.
Называл, в том числе города, где не было крытых. Я тихо спрашивал:
– Ты имеешь виду крытые рынки?
Курбан ломался пополам, хватался за живот, будто требуха выпадет от смеха, и отбегал от меня. Высмеявшись, подстраивался под шаг. Делал серьезное лицо и громко говорил:
– Я честно рамсил на крытых.
– Да… Не повышал и не понижал цену.
И Курбан в приступе смеха снова отбегал от меня.
– Да! Да! Честно рамсил! Не повышал! Не понижал… Ха-ха-ха! – захлебывался он. – Ты один меня понимаешь.
Я его понимал и поддерживал, как мог.
Как-то подарил ему добротную телогрейку. Курбан в швейке подшил к ней кучу внутренних карманов и все свое носил с собой, как улитка. Телогрейка стала ему первым другом: одеялом, плащ-палаткой, бронежилетом, и он всегда был собран и готов, как на построение и в столовую, так в изолятор и БУР, и даже на этап. Еще она, опять же, повышала рейтинг Курбана. Ведь в лагере просто так никто никому ничего не дарит. При случае это вворачивалось: «Тенгиз подогнал».
Так Курбан коротал срок. Ничего его не брало. Ни мороз, ни жара. Ни блатные, ни мусора. Ни изолятор, ни БУР. Ни холера, ни тоска. Как старый марабу, блуждающий по лагерной саванне, он точно знал, куда можно сунуть клюв, а куда нет.
Когда разменял последний год, повезли его в больницу.
Курбан похудел, почернел. В нем поселился какой-то страх. Ему пообещали актировку по состоянию здоровья. Он стал поддерживать этот имидж и чахнуть. Под комиссию Курбан подошел в нужной кондиции, но его не освободили, отказали, в силу того, что он нарушитель режима содержания.
Курбан поник. То ли больше переживал из-за отказа, то ли от приближающейся неминуемой свободы.
Как-то вечером, перед отбоем, Курбан подсел ко мне.
– Тенгиз, я умираю.
– Не гони… ты до семидесяти лет проживешь. Внуков своих увидишь. Просто ты гонишь перед свободой.
Курбан тяжело дышал, лицо застыло в мученической гримасе. Его потухшие глаза смотрели так, будто от меня зависела теперь его судьба. Он протянул ладонь.
– Посмотри.
Я взял его смуглую, чуть болезненно потную ладонь. Разгладил, как скомканный лист бумаги. Мельчайшие капельки, как капли росы, сидели по стеблю линии жизни, ума и сердца. Линия жизни, когда-то уверенно заходившая за холм Венеры, поблекла. Остался лишь еле различимый след. Конца жизни след простыл.
– Ты меня переживешь, – бросил я ладонь. – Не падай духом. Сколько осталось?
– Семь месяцев, – дрожащим голосом ответил он.
– Совсем чуть-чуть. К свободе все подганивают. Ты мне это брось.
Я дал Курбану чай, карамель и отправил спать.
Утром меня разбудили голоса сопалатников. Они сидели за пустой кружкой чифира, курили и вполголоса переговаривались: «Зверек крякнул. Какой? Да этот… Таджик что ли? Курбан…»
Я присел на кровать. Протер глаза.
– Че базарите?
Они замолчали.
Весеннее солнце утренними лучами простреливало палату, золотило частички пыльного планктона, серебрило табачное курение.
В утекавшем в полумрак административного корпуса коридоре, я прислонился к решке и посмотрел в щель. Напротив дежурки лежали носилки, покрытые белой простыней. Ничего не возвышалось над саваном, кроме бугорка ступней и носа.
Горбатый нос со шрамом, на грани восточного благородства и простонародного уродства, был как цифра «семь». Семь лет бегов. Семь лет тюрьмы. Семь месяцев до свободы…
Я зашел в палату к Курбану, как в келью. Присел на его шконку, заправленную и аскетичную – синее казенное одеяло, белая наволочка. Тихо, еле слышно играло радио. Пахло стариками и порядком.
Напротив сидел пожилой мужичок. На подоконнике по соседству с пророщенным луком стояли небольшие тихие иконки святых.
– Как умер Курбан? – смотря в одну точку, как бы сам у себя, спросил я.
Мужичок вздохнул.
– В пять утра поднялся. Умылся. Заварил чифир. Помолился. И умер.
2010—2012г