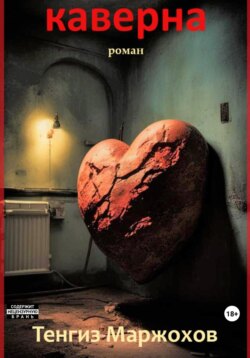Читать книгу Каверна - Тенгиз Юрьевич Маржохов - Страница 8
7
ОглавлениеМежду тем вместо сбежавшего Володи поселился Кала – Калабаев Абу. А до него неделю пролежал разлагающийся от цирроза печени тяжелобольной. Трупный запах наполнял палату, и я не ночевал в больнице. Потом родные забрали его умирать домой. Я был сильно озадачен новым, внезапным сопалатником и вспоминал Володю крепко… Тяжелобольной жалобно смотрел, ища сочувствия и помощи, лишь на мать покрикивал, которая присутствовала, как сиделка. Она приноровилась засыпать на моей койке, и была за это благодарна.
В эти же дни на место выписанного на амбулаторное лечение Бориса положили деда по имени Виктор. Короче говоря, состав палаты поменялся: дед, Кала и я.
Деду было пятьдесят девять лет. Он был из-под города Прохладного.
– Моя хозяйка померла, – говорил он. – И я захирел.
– Крепись, дед, – подбадривал я его. – Мы тебя ещё женим. Какие твои годы?
На что Виктор вздыхал и продолжал сидеть, сгорбатившись, как юродивый с картины Сурикова «Боярыня Морозова». Он был русским мужичком, и только крючковатый нос выдавал в нём примесь кумыкской крови.
Тогда я рассказал ему такую историю…
Идёт этап, гонят с «Матросской тишины». Пункт назначения неизвестен, конвой молчит. Везут на Павелецкий вокзал.
– Курд, на юга повезут. Как думаешь, куда попадём? – спросил я, хотя, сам понимаю – кто может это знать?
– В Сочи не повезут, не переживай, – отвечает Курд, посмеиваясь.
Разгрузили, построили по парам, сковали наручниками, приказали:
– Сидеть! Голову не поднимать!
Сидим на промасленных шпалах на корточках между составами. Вокруг конвоиры в бронежилетах с автоматами, с собакой. Восточно-европейская овчарка, злая, пена изо рта течёт, порвала бы, попадись ей.
Кинолог дёргает за поводок. – Фу, фу!.. – Собака тут же замолкает, начинает вилять хвостом, смотрит на хозяина, прижав уши, успокаивается, садится и дышит, вывалив язык из пасти. Малейшая провокация, вскакивает и начинает рвать воздух в клочья.
– Так, внимание! – кричит начальник конвоя.
Подводят к строю, сидящему на корточках, двух малолеток, девочек. Девчат не сажают.
– Пусть стоят, хуй с ними, – распоряжается начальник конвоя.
Собака полаяла, позлилась, успокоилась. Пересчёт.
– Так, все?
– Шестнадцать и две. Восемнадцать.
– Все, – подвёл итог главный конвоир, о чём-то подумал, что-то припомнил. – Та-ак, встали! По моей команде… Пошли!
Строй пошёл. Шли колонной меж путей к столыпинскому вагону. Скованные наручниками парами. Несколько раз останавливались из-за немощных – хоть штаны подтянуть. Одной рукой пристёгнут к паре, в другой баул, не перехватить; тянешь его, ногой помогая, штаны на высохшем теле сползают. Сзади девочки малолетки, неудобно. Курд причитает:
– Не дергай, бичё… И так ели иду.
Конвоиры заорали.
– Давай быстрей! Шевелись! Что там?!
– Да тут старенький… – объясняет конец колонны в голову.
– Ладно, минута передых.
Собака кидается на бедолагу, если бы не поводок разорвала бы, бестия.
«Что же ты злая такая? – думаю. – Пристрастие или работа? По команде – монстр клыкастый или пёсик пушистый».
Чем профессиональнее кинолог, тем послушнее собака. Если конвой спокоен, зэк неопасный, собака просто присутствует, а если конвой нервничает, собака превращается в монстра, рвёт и мечет.
Добрались, передают конвою столыпинского вагона. Перегрузили, процедура прошла. Девчат в тройник, нас, всех шестнадцать, в одно купе.
Меня предпоследним заводили, Курд за мной.
Вижу, ступить некуда, битком… на полу баулы, ногу не поставить.
Принимающий орёт:
– Заходи! Заходи скорее!
– Куда, начальник? Не видишь, ногу некуда поставить? Мужики, раскидайте баулы.
Вдруг удар по затылку. Падаю внутрь. На меня падает Курд. Решка (решётка) закрывается под громкий мат.
– Чё ты морозишь? Конвой провоцируешь, – недовольно бубнит Курд, пытаясь распутать руки, ноги и приземлиться.
Я тру затылок. По любимой шишке попало. Почему вечно по любимой шишке попадает?
– Курд, чем ты недоволен? Говорю же, ступить некуда!
– Да вижу…
– Ну а чё тогда?! – досадую я. – Мужики, вы тоже… видите, набивают, баулы покидали бы на третий ярус.
Молчат, смотрят и молчат.
«Ну, их! – думаю. – Что с них взять?»
Тронулись, катимся, стало посвежее. А то, июль месяц, жара под тридцать. Недаром бывалые каторжане говорят – по этапу летом лучше не ходить.
Перевели дух, успокоились, полезли по сидорам, чай подаставали.
– Эх, кипяток бы… Ништяк было бы, – проговорил кто-то.
– Попросим, может дадут?
Начались дискуссии, кто должен попросить, и у кого из конвоиров. Какой-то неразочаровавшийся начал объяснять:
– Сейчас закон поменялся, кипяток должны носить три раза в сутки. Когда солдатики конвоировали, они не должны были, но кипяток и чай давали. Можно было договориться за деньги и на запрет (алкоголь, наркотики). Вообще, они сговорчивее были. Им маклю (сувенир) какую подгонишь, они и рады. А эти, вольнонаёмные, контрактники, злые, как собаки, хотя им зарплату платят. Те-то по службе страдали, а эти деньги зарабатывают.
Проходил дежурный.
Неразочаровавшийся, Слава по имени, худой, весь синий (в наколках), с добрыми голубыми глазами, начал приласкивать:
– Начальник, можно вопросик? Кипяток бы организовать, чаю попить.
– Что?! Какой чай на хуй?! Совсем оборзели кашлюны! Сидите тихо!
– Ну, начальник… положено ведь, – поддержал Славу Горбачёв.
– Молчите, черти, а то окно закрою! – прокричал дежурный и пошёл дальше громыхать сапогами по проходу.
Слава вздохнул и говорит:
– Злые, не повезло нам.
– А мы чай сушняком будем, – не упал духом Горбачёв. – Всегда раньше, по козлячему конвою, сушняком бодрились.
– Как это, сушняком?.. – удивился я.
– Как? Да так. Жуй чай и глотай. Сам поймёшь, – пояснил Горбачёв.
– Горбачёв знает… Да, Горбачёв? – сказал Курд и насыпал заварку чая в ладонь, отобрал брёвна и засыпал в рот.
– Чё за погоняло (прозвище), Горбачёв? Или это фамилия? – поинтересовался я.
Но Горбачёв молчал, жевал сушняком чай и молчал.
– Чё ты молчишь? Почему тебя Горбачёвым погоняют?
Он поднял голову, убрал чёлку со лба.
– Вот, почему…
Я присмотрелся сквозь полумрак. У него на лбу кривым шрифтом было набито «Горбачёв», длинная чёлка скрывала это. Причем «Горбач» было набито более-менее ровным шрифтом, а последние две буквы «ёв», как при недостатке места в строке, поползли вниз.
– Что? Зачем, почему?.. – с трудом сдерживая смех, спросил я.
– Зачем, зачем?.. – недовольно заёрзал Горбачёв, сбросив чёлку на лоб, прикрыв лозунг. – А за тем! В восемьдесят седьмом году амнистия была большая, Горбачёвская, помнишь?
– Ну и чё?
– А то, что многих коснулось. Я хороший срок оставил. Фартонуло. Тогда и наколол.
Я не знал, как реагировать: «Хоть необиженный, и то хорошо».
Чай сушняком действительно бодрил, спать не хотелось.
Духота текла по телам, квасила нас, как капусту. Сало плавилось. Селёдка резала запахом.
Шмонать нас не стали, не захотели мараться об тубиков. Просто раскидали по назначению. Оставили в купе двенадцать человек – сколько положено. И мы решили, что едем в одну «командировку». Начали думать, как разузнать у конвоя место назначения. «Средняя полоса России. Если больше двух суток везти будут? И два раза долго стоять? С нами две малолетки едут. А где ближайшая женская малолетка? В Новом Осколе. Ага, понятно. Значит и мы: либо в Белгород, либо в Липецк, либо в Ростов… Может в Воронеж?»
Кто-то подметил:
– Конвой волгоградский, не дай бог.
Подозвали дежурного.
– Гражданин начальник, куртка кожаная есть, очки фирменные… Куда едем, военная тайна что ли? Один чёрт, догадались уже… – и перечислили наши догадки.
Дежурный помялся, посмотрел по сторонам.
– Воронеж.
– Уф-ф… – выдохнуло всё купе. – Хорошо не Волгоград. Уф-ф… Воронеж, – перекрестились некоторые.
Курд начал блатовать.
– Воронеж, мака много. Срок пролетит… – и замечтался.
– Курд, а курд, откуда ты родом? – поинтересовался я.
– Тбилиси…
– Какой у тебя срок?
– Восемь лет.
– За что?
– Разбой.
– А у тебя какой?
– Одиннадцать лет.
– За что?
– Тоже разбой.
– А почему так много дали? Ведь молодой пацан. Труп?
– Нет.
– А что, эпизодов много?
– Да, четыре.
– Понятно… Бандитизм не вменили?
– Вменили.
– А-а… Бандитизм вменили… – удивился Курд и понимающе покачал головой. – Какая часть?
– Вторая.
– Понятно, – закивал он. – Какой суд судил, братишка?
– Мосгор. А тебя какой?
– Меня Кузьминский судил, – сказал Курд и выругался… Призадумался и начал рассказывать, как дело было, как попал. – Когда в отделе сидел, так меня били, так били… Я не выдержал и кричу: «Не бей, дядя, ничего не знаю!»
Коротая время за разговорами, приехали в Воронеж. Вымотались ужасно, седьмой пот сошёл с нас. Стояли по десять часов на июльском солнцепёке. Столыпинский вагон, отцепляя, не загоняли в тень, а бросали, где попало, на перегоне.
– Может, под мостом пристанем, чтоб не так жарко, – смотрел Горбачёв в оконную щель. – Ну, стой, вот здесь, здесь… проехали, будем загорать.
В смену заступил контролёр – шизофреник и садист. Он говорил тихо и по уставу. Садился напротив малолеток и будто бы читал про себя книгу, а сам подслушивал девчачью болтовню.
За то, что мы разговаривали и якобы мешали читать, он закрывал все окна, не оставлял ни щёлочки, задраивал, как подводную лодку. И мы томились, как в парилке, в которой было три яруса.
Я сидел внизу и представлял, что творится на верхних полках, где лежали мужики, как шпроты в банке. С них так текло, что через щели в перекрытиях капали огромные янтарные капли пота. Я наблюдал за каплями и пытался занять такое положение, чтобы не попадать под них.
Уставного прохвоста сменял буйный придурок, который ударил меня по затылку. Он ходил по вагону голым торсом и понтовался перед малолетками, гнал жути на изможденных тубиков и покрывал трёхэтажным матом.
Я вшей подцепил. Чешутся внутренние поверхности бёдер и пах. Не пойму, в чём дело? Грешил на жару, духоту. Понял, когда жирную вшу поймал. Белая, как отбившаяся от стада овца на склоне холма, ползла по складке моих брюк. За два с половиной года в Бутырке и на Матроске не ловил вшей.
– Раздави ногтями, – посоветовал бывалый каторжанин, – они трещат, как семечки.
Короче говоря, серьёзную прожарку прошли мы за трое этапных суток. Но выжили – и мы, и вши.
Прибыли в межобластную туберкулёзную больницу в городе Воронеже, зэки её «шестёрка» называют, потому что с шести областей в больницу свозят. Как брикет сыра с дырочками, облепленный муравьями. Побелка облупилась, стал проглядываться патриотический лозунг, как маркировка, говорившая о том, что брикет сыра когда-то давно подавался под иным соусом.
За положение в больнице отвечал Боцман Юра. Человек старой закалки. В общении простой, без манички (мании величия), поможет в любом вопросе. По поступкам к людям подходил, бедолаг не отталкивал. Болезни не поддавался, крепился, нервы лечил опиумом.
Боцман увидел во мне непотерянное людское достоинство и пошёл на откровенный разговор. Получилось так.
Как-то в конце августа, после тёплого дождичка, вышел я в прогулочный дворик. Никого нет, вечерняя проверка только прошла. Сумерки спустились в бетонную коробку, таинственно расселись по углам, прячась от большой «кобры», бросающей обруч света под ноги.
Прогуливаюсь. Слышу, музыка заиграла, тоскливо запел Иван Кучин. Шаги выбивают из арматурной лестницы гул. Гляжу, спускается Боцман. Подходит ко мне. Здороваемся.
Боцман поинтересовался, что да как? Несколько пробросов по жизни сделал. Я ответил… короче, тест прошёл. Поговорили ещё по душам, потом присели на краю дворика, закурили… Боцман обвёл взглядом больницу и говорит:
– Тут людей со всей больницы человек тридцать, может, наберётся. Остальных в топку кидать можно, не ошибёшься. Если человека встретишь в управлении, поймёшь. Их сразу видно, они здесь наперечёт, – показал он пятерню. – Пацан, смотри, срок у тебя большой, ты здесь такого насмотришься… Основная масса хвостатая. Они хвостами сплелись… им легче тебя в грязь втоптать, чем постоянно знать, что ты лучше их.
Я слова Боцмана запомнил.
У кого-то поинтересовался, сколько народу в больнице? Переполнено, больше пяти сотен.
Пробыл я меньше месяца.
Когда в зону заказали, Боцман со мной почту серьёзную отправил. Сказал: «Бураме передашь. Смотри, не Бедному, а Бураме. Понял?»
Я понял и сделал, как он сказал.
Кроме Боцмана в больнице были: Серёга Щербак и дед Пионер. Был ещё Заза, которого в Россоши поломать не смогли.
Приехал я в Кривоборье, посёлок в сорока километрах от Воронежа по московской трассе. Излучина Дона, курортное место. Воздух не хуже кисловодского.
Карантин, неделя стационар, потом в девятый отряд поднялся.
Отряд переполнен, кормят плохо, можно сказать, вообще не кормят. Утром каша из сечки, в обед суп из сечки, вечером уха из сечки. Уха – рыбьи хвосты и головы в бульоне (спинки кому-то, кто поблатнее доставались), ни картошки, ничего, пусто. Перловка пустая, грязный овёс, хлеб сырой – спецвыпечка. Короче, пищеблок оптимизма не вызывает.
Зато режима нет. Хозяин простой понимающий мужик, чего не может дать – говорит прямо. Но и многого не требует, лишь бы ЧП в учреждении не было, а там, бог всем судья.
Начал я адаптироваться к лагерной жизни, в коллектив вписался нормально, прижился. Не без трения, конечно, нужно было порамсить (поругаться, поскандалить), показать зубы, как в любом общежитии.
Время потекло. Сроку у меня было ещё…
– Сколько привёз? – подходили мужики.
– Восемь, даже восемь с половиной.
Качали головой, отходили.
Вообще, время там имеет другой счёт. Если приравнять по событиям, то можно сопоставить как месяц к году. В тюрьме год прошёл, а вспомнить нечего, всё одно и то же: Новый год, Рождество, дата освобождения, Крещение, день рождения, Пасха. Потом: Науруз-байрам, Ураза, Курбан-байрам, всё, все праздники. Ещё письмо из дома, посылка или передача. На свободе за месяц больше событий происходит, чем там за год. Поэтому считают: «Зима, лето – год долой, восемь пасок и домой».
Зато богата лагерная жизнь фольклором. Тут уж российская душа вся нараспашку, без цензуры, так сказать, и поэтому правдивая. Все условия для творчества имеются: времени уйма, голод для художника важен – присутствует. Лишения, страдания – через край.
Как-то молодой козлёнок, вернувшись с вахты с обещанием досрочного освобождения, напел такую песню кричалочку:
Жизнь у нас полегче адской, это только на «Двадцатке»,
Хочешь умереть со скуки, приезжайте в «Семилуки»,
Если хочешь хапнуть горе, приезжайте в «Кривоборье»,
Козьих рог увидеть блеск, это к нам в «Борисоглебск»,
Если духом не упал, в «Перелёшино» попал,
Коль смиренья не достиг, только в «Россоши» притих.
Приехал из больницы дед Пионер, Борис Борисыч. Поднялся в отряд, шконка (нара) его родная дожидалась. В отряде праздник, Пионер приехал!
Принесли баул, в проход поставили. А деда всё нет. Вышел я в локалку (локальный сектор – территория отряда), смотрю – канает с бадиком (тростью) через плац к калитке, мелко семенит. Вокруг него свита из бродяжни, сопровождают.
Зашли в барак, в первую секцию. Народу собралось… Поставили чифир, купец (крепкий чай). Достали сладости, конфеты. Что было – всё на стол, надо встретить старого каторжанина. Кто-то подходит, обнимает Пионера, протягивает сигареты с «каблучком», шоколадку. Зажигалок надарили, чая всяко-разного – оказали внимание старику.
Расселись, принялись пить чай…
– Ну что, дед, какие новости? – спрашивает кто-то.
И дед начинает рассказывать… говорит с каждым его языком. С Бедным о серьёзном по строгому, с Буромой по очень строгому. С пацанами по-пацански… Кого-то ругает, кроет последними словами, кого-то хвалит, радуется, смеётся.
Потом принимается выслушивать лагерные новости. Делает серьёзный вид, слушает внимательно, хотя всё и так знает, в больнице новости из Кривоборья никуда не деваются.
Когда арестанты расходятся по отрядам, остаются свои, дед проявляет интерес, что у нас происходит.
– А отрядник что? – спрашивает братву. – А завхоз?.. Настя котят принесла? Хорошо! И сколько? Пять! Ух-ты! А у кого под шконкой окотилась?
Интересует деда всё. Сколько голубей вывелось на крыше барака. Кто из людей появился в зоне. Кто из «шерсти» (непорядочных) прибавился. Кто улетел (закрылся под крышу), кто двинул (проиграл и не расплатился). Надо же всё знать.
Утомляется дед ближе к полуночи, раскладывается.
– Пора спать. Гасите свет. Если что интересное – будите, а так, не кантовать, – и мирно засыпает.
Молодёжь в другой секции дурачится допоздна. Бывает, в кухне засядут и травят байки. Кого там только нет. «Кто был в тюрьме, тот в цирке не смеётся».
Пионер, Борис Борисыч, ростовский прошляк (в прошлом вор), годов ему больше семидесяти. Отмечали, чифирили, по-моему, семьдесят пять, короче, тысяча девятьсот двадцать четвёртого года рождения. Из них больше пятидесяти лет лагерных. Карман, «Калина красная» натуральная. Бриллианта вспоминает – плачет, Мексиканца вспоминает – плачет. Многих людей знал, кладезь преступного мира.
– Дед, а почему Пионер погоняло? – поинтересуешься у него.
Если в настроении, он начинает рассказывать: «В Ростове бегал по карману в пионерской форме с галстуком. Кто на пионера подумает?
Как-то раз в большом магазине, у прилавка, залез в сумку к толстой дуре. Она рюхнулась, поймала меня за руку и давай кричать:
– Ах ты воришка! Сволочь! Милиция!..
Держит крепко, сил нет вырваться. Я начал её просить:
– Тётенька, отпустите, тётенька, я больше не буду…
Она – паскуда: «Какая я тебе тётенька? Милиция!..»
Тут я её ботинком по косточке на голени пнул – ай-ай… она мою руку и выпустила.
Бегу на выход, в дверях ловит меня милиционер.
– Куда… куда бежишь? – спрашивает, а сам в зал магазина смотрит.
– Дяденька, меня старший брат за карандашами послал. Отпустите, пожалуйста…
Толком не разобравшись в ситуации, отпустил меня начальник – пионер же, не шпана какая-то!.. Так и прилипло Пионер».
Кто-то из бродяг спросил у деда, шутя:
– В войну, по карману, продуктовые карточки не попадались?
Борисыч чуть чаем не поперхнулся.
Пионер сохранил, несмотря на годы и тяжёлую тюремную жизнь, человеческое достоинство. Был при твёрдой памяти. Содержал себя в чистоте. Опрятно одевался. Правил седую бороду, подстригал усы, края которых подкрашивала табачная просмолка. Глядя на него, сразу понимаешь – не простой дед, очень непростой. А он и был не простым. Взгляд тяжёлый, насквозь видит человека, смотрит, как сверлит до самого нутра.
Бывало, пришёл этап, мужики стоят у каптёрки знакомятся. Подканает Пионер. С кем поговорит, сигаретой угостит, конфету протянет, вниманием не обойдёт – достойный человек оказывался, а кого прошёл мимо – непуть. Никогда не ошибался старый волк.
Как-то поменялся у нас отрядник. Появился молодой, прямо из учебки, из-за парты, можно сказать. Даже форму ещё не выдали, ходил в вольном, чёрном костюме, с дубинкой наперевес. С контингентом никогда не работал, опыта нет.
Козла (завхоза) не того назначил. И козлина решил – с молодым отрядником прохиляю по-своему – наверну в три оборота без коловорота.
Побили козла, «улетел» в стационар лечиться.
Отрядник нервничает, не поймёт – что делать?
Начал знакомиться с осужденными отряда, но что-то не ладится у него. Вызывает осужденных в кабинет, не с того начинает, говорит неправильно, гребёт всех под одну гребёнку, а так нельзя – масса неоднородная. Надо понять, кто есть кто в отряде. Для этого смотрящий имеется, он, в том числе, как пресс-секретарь подходит – довести до массы информацию, высказать общее мнение, мужицкое, так сказать. А Сергей Васильевич этот, не так всё делает, не уважает уважаемых людей.
Вызывает Пионера. Приходит дед.
– Так, за что сидим? Начало срока, конец срока? – задаёт протокольные вопросы, смотрит в карточку.
Пионер не отвечает, смотрит на отрядника пристально.
А тот ему:
– Что, дед, молчишь? Да у тебя уж памяти нет. Небось, позабыл всё? – посмеивается находчивости своей.
А дед вдруг рассказывает ему басню «Лисица и журавль» и в конце подаётся вперёд, поближе, и говорит:
– А виноват ты тем, что хочется мне кушать. Ам-м! – и щёлкает зубами.
Сергей Васильевич аж на стуле подпрыгнул… Не ожидал, представить себе такого не мог.
(Ничего, обкатался со временем, до замполита дослужился).
Однажды идёт обход по жилой зоне. Начальник колонии, заместители: по безопасности, по режиму, по оперативной работе, ходят по баракам. Все зэки на мандраже… добром не кончаются такие обходы.
Зашли в наш барак. Отрядник и завхоз по струнке. Доклад – в отряде всё в порядке, происшествий нет и тому подобное.
Проходят в жилую секцию, стук тяжёлых сапог, начальники зашли: большой вес, полы деревянные скрипят, карнавал животов.
Дальше вглубь секции. Там сидит на шконке маленький дед Пионер – седая голова, седая борода, очки, бадик, домашние тапочки.
Остановились в проходе начальники, смотрят по сторонам, на спальные места, на стены: «Всё ли в порядке?»
– Так, это что такое? – проговорил зам. по тылу, огромный, двухметровый мужчина с подростковым лицом. Не подходило подростковое лицо к массивной, пузатой фигуре. Хотя человек он был добродушный, незлой, подлостей не делал. – Почему розетки за аквариумом самодельные? Не положено так… – Зам. по тылу начинает дёргать розетки, проверять, как они крепятся. – Ну, зэки! Что только не придумают…
Остальные «звёзды» мочат, всё вроде бы нормально, не вызывает вопросов по их отделу.
Пионер поднимается со шконки, подходит к переростку и говорит:
– Мне эти розетки разрешил поставить начальник, самый – самый главный, по этой херне! – и смотрит сердито снизу вверх на детину.
Хозяин и большое начальство переглянулось. Сложили руки на животах и смотрят, что же дальше будет?
А детина отвечает с ухмылкой:
– Дед, по этой херне самый главный начальник тут – я!
– Да? – удивился Пионер.
– Да, – убедительно ответил зам. по тылу и продолжил улыбаться, как ребёнок.
– Не проканало, ну и не надо, – пошаркал дед к шконке, присел.
Начальство какое-то мгновение стояло молча, потом начал хохотать хозяин, за ним все остальные. Хозяин с трудом прекратил смех, подобрал живот руками и говорит:
– Пусть будет, я разрешаю! Ну-у Пионер… борода седая, а он – не проканало…
Начальство весело покинуло барак. Умел старый углы сглаживать.
Интеллектуальные игры любил Борис Борисыч – шахматы и терц, это составляло у него целый ритуал.
– Пацанчик, завари чифирку, – обращается он к помощнику. – Только змейский не вари. И не Байкал. А то ты наваришь порой… змей поить, яд! – и делает противную гримасу. – Свари, короче, от души. Вон того чая возьми, вот этого, да.
Попьёт дед чай, вытрет усы, наденет очки, обведёт взглядом секцию.
– Мусорков там не видать? – удостоверится. – Атас стоит? И ладно. Раздавай… Пулемёт (колоду) где раздобыл? – спрашивает у соперника. – Сам лепил? Марат подогнал. Понятно. Марат подгонит. Под себя точит. Хитрее всех хочет быть, татарин. Ладно, не на корову играем.
И начинается игра в терц, очень мудреная, по арестантским меркам – дворянская. Я, например, за долгий срок так и не овладел этой замысловатой карточной игрой. Это не рамс и не бандитская сека, терц – это карточные шахматы, если можно так сравнить.
И вот Пионер играет, подкидывает баланы (счётные палочки), а сам приговаривает или напевает:
– Дров привёз четыре воза, а дрова, одна берёза! – смотрит поверх очков на соперника. – Что, не привёз?.. Куда туза притырил? Где дама хорошая? Ты кого перехитрить пытаешься, а?.. Лесной карманник, – шутит дед. – Я, говорит, лесной карманник. Дубиной по голове бью, деньги сами сыпятся.
Проигрывать не любил, но и сильно не балагурил, забывал быстро.
В шахматы любил играть с достойными соперниками. Если услышит, что кто из арестантов в шахматы горазд, зовёт.
– В шахматы играешь?
– Да так, дед… давно не играл.
– Ну, фигуры передвигать можешь? Пойдём, – достаёт доску, прячет две пешки. – Отгадывай… Ага, белые мне, чёрные тебе.
Расставляет фигуры, поправляет очки, руки кладет на бадик, думает… фигуры переставляет характерно, тремя перстами. Если выигрывает, поёт что-то, если проигрывает, причитает.
Как-то раз играл Пионер с Пашей штангистом. Того расхваливали как Каспарова. Пару партий сыграли.
– Говорили – чемпион. А я не пойму, чемпион ты или шпион? На чемпиона, вроде, не похож… – посмотрел дед на пацанов.
– Ладно тебе, дед, – смеётся Паша. – Может и шпион… что уж тут, зато работаю чисто.
– Я думал чемпион, оказался он шпион! – веселится дед. – А где тот пацанчик? – спрашивает у молодёжи.
– Какой пацан?..
– Ну тот, который армяна обыграл из десяти партий. На армяна тоже говорили – чемпион, оказался он шпион. Слабенький, чифирит только и курит много.
Дед приходит ко мне в проход.
– Ты где, сынок, пропадал? – смотрит приятельски.
– На больнице был, дед, на шестёрке.
– Пойдём, фигуры подвигаем… Хорошо играешь? – смотрит серьёзно. – Давай, посмотрим.
Начали играть… Я проиграл одну партию, потом вторую. Дед доволен, напевает что-то, шутит.
– Сдаюсь, дед, всё… – встаю я из-за стола, и на всю секцию говорю. – Сильно играет Пионер, не выиграешь у деда!
Пионер захлопывает доску, бормочет что-то, потом подзывает меня.
– Сынок, не поддавайся, когда играешь. Понял? Если уважаешь соперника, не поддавайся. Здесь так – у картишек нет братишек. Я, может, искал сильного, злого противника. А ты в поддавки играть надумал, расстраиваешь старика.
– Ладно, дед, понял, – говорю я.
Не ожидал, что так воспримет, но дед огорчился.
– Хочется видеть молодняк дерзкий, бойкий, который нас превзойдёт. Порадует старшее поколение. Смелее будет, находчивее. – Начинает вспоминать старину, былых воров, фраеров, пацанок, как было тогда…
Его лицо просветляется. По щекам текут слёзы, а он говорит, не останавливается, машет рукой, говорит и плачет. Сентиментальный становился Пионер с годами.
Сидит как-то Пионер на шконке. Настроение хорошее, играет М. Круг, песня «…Па-да-ба-да-ба-да-ба-дам… мадам…»
Солнечный день бьётся из предзонника в зарешеченные окна.
Дед слушает музыку, дирижирует руками и подпевает:
– Мадам, мадам.
Молодёжь сидит в соседнем проходе, чифирят, курят. Пацанчик показывает глазами.
– Гля… гля на деда, – смеётся.
Все смотрят на Пионера. Дед видит, что привлекает общее внимание и ещё сильнее входит в образ – дирижирует и подпевает.
– Дед, а, дед… Круг тебе нравится? Круга уважаешь, Мишку? – спрашивает весело пацанчик.
Борисыч, не переставая дирижировать, отвечает:
– Я Ивана Кучина уважаю.
– А Круг что?.. – удивляется братва.
– А Круг – хулиган, – отвечает дед и продолжает кривляться.
– Как хулиган, дед, почему?.. – не поняли пацаны.
– А есть же у него песня: «Он нёс тебе розы, а я ему съездил от всей души с левой крюка!» – пропел Пионер и сделал характерный жест рукой.
Все захохотали.
– Ну-у дед! Красиво подвёл.
Шалман продолжился, проход затарахтел дальше, кто о чём.
Я подумал: «А ведь дед принципиальный какой. Это же просто песня, уличная песня, а нет… Врезать крюка в подъезде за цветы – хулиганский поступок, и прошляк это не приемлет. А песня действительно хорошая».
Когда Пионер слушал Круга, он часто плакал и не стеснялся слёз своих. Это была его жизнь: плохая, хорошая. Война, тюрьма, пятьдесят лет лагерей, Ростов, Москва, Воронеж, вся Россия.
По освобождению Пионера, в двухтысячном году, из Воронежа приехала братва встретить деда из лагеря. Повезли в город на дорогой иномарке, посадили на переднее сиденье пассажиром. Едут, всё хорошо, свобода! Дед на дорогу смотрит, на водителя, на спидометр, пытается скорость разглядеть… снова на дорогу, и спрашивает:
– Коля, ты куда меня везёшь?
– Что, дед? Не понял? – отвлекается от дороги Коля.
– Ты куда меня везёшь? Говорю. На кладбище, что ли?!.. Не гони сильно!
Вот такой был Пионер, Борис Борисыч. На самом деле, можно было бы роман написать про его жизнь, яркий был человек.
Как-то показывал Пионер фотку, где они с Олегом Плотником в 11-ой камере на тубкоридоре. По нынешним меркам плохого качества фотка, но дед ценил и берёг её.
В 2001 году, летом, по сарафанному радио сообщили – упокоился Пионер. Всем лагерем поминали старого прошляка, вёдрами чифир варили.
Мусора приходили.
– Что, Пионера поминаем, да? Когда дед преставился? А-а, понятно… – не мешали, уходили.
Пришёл в барак заместитель начальника по безопасности, подполковник Пастухов, на маршала Жукова похож, коренастый, властный мужик. Посмотрел на проход Пионера: тот же аквариум, тот же стол стоит, только шконку убрали, никто не лег в этот угол.
– Пионеров угол? Почему нару убрали, достойных нет? Сколько Пионер воровал? Больше пятидесяти лет, – ответил сам себе и пошёл на выход.
Прошли годы, свобода, другой мир.
Когда слышу песни М. Круга, ком к горлу подкатывает. Ноет в груди, больно бывает сердцу, пережившему это. Жалко молодость, время потерянное. Жаль Боцмана, Пашу Китайца, всех людей пострадавших в этой системе. Жаль самого Круга.
Виктор встал и пошёл курить на балкон. Он прослушал мой рассказ обречённо, как сказку из неизвестного ему мира. Зато Кала слушал внимательно, с интересом, ему-то была знакома атмосфера и у него горели глаза. Он не любил рассказывать про свои «командировки», но я знал, что прошёл Кала немало. Бывал на крытой (тюрьма особого режима) в Ельце. А это говорит о многом.