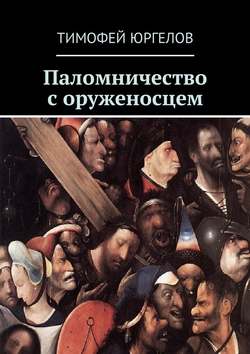Читать книгу Паломничество с оруженосцем - Тимофей Юргелов - Страница 2
Часть первая
Глава первая
ОглавлениеВсе началось с возвращения в свою квартиру странного жильца.
Хотя сразу никто ничего такого не заметил: ну что могло быть необычного в Андрее Зубове, которого все знали с детства. Потом он, правда, надолго пропал: поступил в военное училище, затем где-то служил, воевал, сидел, говорят, в тюрьме – и вот вернулся домой, сорокапятилетним и поседевшим. Вернулся он один, без семьи. В каком-то покоробленном пиджаке, с вытертой сумкой через плечо. Его тут же узнали по вьющемуся чубу, по усам, по раздвоенному утолщению на кончике носа, по черным наивным глазам, однако поздороваться из-за обычного замешательства никто не решился. И пока в сидевших за доминошным столом металась неуверенность: точно он?.. конечно, он… или не он?.. – Андрей молча прошел мимо, задержался еще перед входом в подъезд, отыскивая что-то в сумке, поднялся на второй этаж и заперся у себя в двух комнатах, доставшихся ему в наследство от бабки с дедом.
Дом наш и двор ничем особенным никогда не выделялись: такое же обывательское болото, как большинство дворов и домов на свете. Вся тихая улица застроена ветхими, похожими друг на друга, окрашенными охрой двухэтажками, с окнами-фонарями, с белеными проемами и сухариком под карнизом, с нелепыми завитушками пузатых балконов. Тому, кто попал сюда с шумного проспекта, на задворках которого мы живем, она покажется, скорее, чистой, чем грязной; уютной, чем унылой. Приятно пройтись по тротуару с побеленными бордюрами и кленами, услышать чью-то игру на баяне, позвякивание посуды – особенно тихим вечером, когда за тюлем и штофом зажигаются люстры и телевизоры.
Сначала все решили: ну вот, еще одного жизнь угомонила, привела в родную гавань. Наверно, Андрей и сам так думал, потому что сразу занялся тем, чем и должен был заняться: стал наводить порядок в квартире. Из его окон доносился стук молотка и другие звуки, подтверждавшие, что там идет ремонт. Бабки сдержанно ворчали: вот, мол, еще один «стукатун» завелся. Во двор он выходил только для того, чтобы вынести на помойку тряпье и рухлядь, оставшуюся после стариков. Иногда останавливался покурить с друзьями детства, но был немногословен: больше слушал, чем говорил. О себе ничего не рассказывал, на все расспросы отшучивался или пропускал их мимо ушей. И вообще уносился куда-то мыслями: засмеется вместе со всеми, а потом спросит, о чем речь. Или прямо посреди разговора повернется и уходит, ускоряя шаг. Видно, здорово его жизнь шандарахнула, думали друзья детства, выпуская ему в след струйки дыма.
Вскоре он совсем исчез, и стук прекратился. Заходивший к нему по-соседски Сява рассказывал, что он лежит на диване и читает «старинные книги» – целая груда их навалена у него посреди комнаты. Видимо, начал разгребать стариковские залежи (кто-то вспомнил, что он интересовался: принимают сейчас книги в буке или нет) – и зачитался. Зарос щетиной, на столе в кухне грязная посуда, засохшие лужицы чифира, горки пересушенной заварки, мирно пасущиеся тараканы. «У самого глаза, как у бешеного таракана, и усы торчком», – рассказывал Сява. «А что за книжки он читает?» – спрашивали у него. «А я хуй его знает! – мура какая-то, и написано по-старинному». – «Божественные?» – «Да нет вроде – хрен поймешь! По ходу, у него того… – И Сява стучал себя по темечку, раскрыв рот, чтобы получился „пустой“ звук: – Хи-хи, га-га – гуси летят»… – «Может, его на войне контузило?» – предположил кто-то. – «Нет, в зоне дубинка по чану прилетела. Видали шрам на лбу? Спрашиваю: откуда? Да в зоне, говорит, дубинкой от контролера прилетело». – «А за что сидел, не рассказывает?» – «Не-а. Что-то у него с женой вышло. Крутит-вертит: „за черепки“, говорит, посадили». – «За „черепки“ столько не дают». Словом, все еще больше запуталось.
Андрей уже успел привыкнуть к родной квартире после первого, похожего на шок, впечатления, когда все показалось микроскопическим и убогим. Дома у Андрея в далеком детстве перебывал почти весь двор, и с тех пор тут мало что изменилось. Темная прихожая с вешалкой из рогов оленя вела в комнату, центр которой занимал круглый стол под абажуром.
Облезлое трюмо в простенке, будто затянутое изморозью, отражало обстановку парящей над полом, в более светлых тонах, чем в действительности, ─ таков был оптический эффект. Бабушка говорила, что это – «венецианское стекло, дорогая вещь», даже сейчас Андрей, глядя в него, чувствовал смутное благоговение. Здесь же находился комод с висячими ручками, которые когда-то притягивали, как магнитом. Собственно, притягивали не они, а то, что хранилось в запертых от него ящиках, ручки же словно вобрали в себя отсвет загадочного содержимого и хотя бы отчасти заменяли обладание им. Их бряцание действовало дедушке на нервы, и это, возможно, была еще одна, тайная, цель его упорства. «Ну что, нашла коса на камень?» – смеялась бабушка, глядя, как возвращается зареванный внук к комоду, там затихает и, посмотрев испытующе на деда, начинает поднимать и отпускать литые, узорчатые подковки. Теперь на комоде пылились шкатулки, пудреницы, коробки из-под конфет, склеенная фарфоровая балерина, пожелтевшая вышивка (то, что казалось когда-то таким заманчивым и значительным) – все очень ветхое и мизерное – уже ничье. (Всякий раз при взгляде на эти осколки чьих-то смешных привязанностей у Андрея начинало тупо, словно от удушья, ныть сердце.) Здесь были так же фотографии погибших родителей; дед в буденовке и шинели до пят, с деревянной кобурой на боку; он же с бабушкой, молодые и старые; снимки Андрея, детские и в курсантской форме. Эти, в рамках, стояли там всегда, но появились и новые. Очевидно, Андрей нашел их в альбоме, когда разбирал книжный шкаф. С твердых карточек смотрели военные, в эполетах, с закрученными кверху усами: дамы в шляпках и кружевах – они были без рамок.
В зале также находились синее кресло с рыжим следом от утюга; «новый» диван («новый», потому что был куплен лет тридцать назад, когда он вырос из детской кровати); сервант, вытертый до основы ковер и неисправный телевизор. В спальне, с изъеденными молью до прозрачности портьерами, стоял секретер, железная кровать, на которой умерла бабушка, и тот самый книжный шкаф, почему-то пустой: вся их небольшая библиотека исчезла – осталась только кипа старых журналов, книги по фортификации да несколько потрепанных романов. Вообще, из квартиры пропало много знакомых с детства вещей, не нашел Андрей орденов деда, его серебряный портсигар, фотоаппарат. Словно кто-то чужой залез, переворошил, разорил родной уклад, – возможно, этим чужаком и была смерть.
В последние годы бабушка жила на одну пенсию и, вероятно, все продала (оказавшись в заключении, Андрей больше не имел возможности помогать ей). На это намекала и тучная соседка, с кислым, холодным, как из могилы, дыханием. Она словно принадлежала к другой породе людей: не намного выше Андрея, но крупнее его в два раза. Это соотношение сохранялось во всем: нос крупнее в два раза обычного носа, пальцы толще обычных пальцев. Даже волосы, кустом росшие из похожей на чернослив, бородавки под носом, напоминали, скорее, карликовое дерево, чем волосы. Ее муж, с хитрыми, трусливо-веселыми глазками, с прилипшими к потной лысине прядями, был не так велик: всего раза в полтора больше Андрея. Зато дети обещали во всем превзойти родителей: рядом с их шестнадцатилетней дочкой Андрей уже выглядел, как ребенок.
Андрей зашел к соседке за ключом от подвала. «А мы уж не чаяли: вернется аль нет хозяин. Хоть кто-то теперяча за стенкой будет шебуршать! Бабулечка тихая была, я ей каженый день то за лекарствами, то за молочком… Купишь, бывалоча, а денег не возьмешь. А то просто зайдешь попроведать: Григорьевна, как здоровье?..» – «Андреевна», – поправил Андрей. – «Ну а я что, не знаю, что ли? Это у меня свекровка – Григорьевна, тоже старушечка, вот я их и путаю запостоянку. Я первая и запах учуяла. Своему говорю: никак мышь под полом издохла? Нет, говорит, это в подъезде воняет. Понюхали – от вас! Батюшки, – всплеснула великанша без всякого выражения. – Открыли: а она – господи Иисусе! – зелененькая, как огурчик, и не раздулась совсем: сухонькая была старушечка да и… Ну что говорить». Великанша приложила кулак к глазам. Андрей поблагодарил за заботу и спросил, где похоронили бабушку. «Деньги гробовые она все мне отдала – все чин чинарем исделали», – заверила его соседка. Вернувшись домой, он вспомнил, что точно такое собрание в желтом переплете, как за стеклом видневшейся из зала великанов стенки, было раньше и у них. Когда он снова зашел, чтобы вернуть ключ, книг на месте уже не оказалось. Впрочем, Андрей был рад и тому, что осталось.
Замок на двери чуланчика (каждый жилец имел свой чулан в подвале) был сорван, внутри все перевернуто вверх дном. На полках в пыли рядом с кружками от донышек (по-видимому, там стояли банки) можно было различить следы чьих-то огромных лап, тоже уже затянутые пылью. Кроме мешка с высохшей картошкой, связок газет и журналов, в сколоченном из досок ларе Андрей нашел старые книги. Сначала он хотел выбросить их вместе с другим хламом: большинство было испорчено плесенью и мышами, – но решил просмотреть. Открыл наугад одну – ни название, ни автор ничего ему не говорили. Держа подальше от глаз, прочел абзац, захлопнул и бросил назад в рундук. Подумал… Сложил книги в два мешка и отнес домой, там свалил возле дивана. Достал другую книгу, тоже раскрыл на середине – отложил, сходил за найденными в комоде очками, по всей вероятности, бабушкиными, в мутно-розовой оправе, почти детскими. Привязал к ним резинку, так как дужки не доставали до ушей, натянул на затылок. Снова уселся с прямой спиной, с книгой на коленях и – зачитался.
Перелистнув назад, взглянул на титульный лист и усмехнулся: «Марк Аврелий – не еврей ли?» Затем снова открыл и стал читать уже с начала.
Прочитав одну книгу, он принялся за другую. Очевидно, библиотека подбиралась кем-то по определенному плану, тут были: Платон и Сенека, Ларошфуко и Паскаль, Менцзы и Торо, Федоров и Толстой, десятка два книжек «Единения» и «Посредника» – всего около полусотни книг. Было здесь несколько томов «Естественной истории», а также Брем и Фабр.
Желтые, шершавые страницы отдавали сладковатым запахом тленья. Все издания начала века, с «ерами» и «ятями», что затрудняло чтение: казалось, они написаны на каком-то смягченном диалекте: «твердые знаки» в позиции мягких, на конце слов, заставляли спинку языка выгибаться к небу. Попалось несколько книг по-французски. Много было испорченных: покоробленных, с ссохшимися страницами. Их он отложил для починки.
Кому принадлежали книги? Деда трудно было заподозрить в интересе к литературе такого сорта; бабушка, пока совсем не состарилась, читала только романы. Андрей решил, что они остались от двоюродного прадеда, младшего из братьев бабкиного отца: он один в семье не служил, все прочие были офицерами. Его маленькая карточка, единственная сохранившаяся, тоже лежала в шкафу среди других фотографий. С нее смотрел молодой человек в косоворотке, бородка клином. Лицо его было несимметрично, с выраженными фамильными чертами, свойственными этой ветви их рода: раздвоенный кончик носа, удивленные брови, выдающиеся скулы, грустные черные глаза. Андрей вспомнил, как бабушка рассказывала, будто у него была богатая невеста, но он ее бросил, оставил университет и приехал сюда к своему брату, ее отцу, – подальше от гнева родителей. Было это незадолго до революции. «В семье не без урода», – вставлял обычно, резкий в суждениях, дед. После разгрома Колчака он поселился в одной из коммун духовных христиан на Алтае, дальше его след теряется. Как книги оказались в их семье, почему сохранялись в ней (хотя не слишком бережно: скорее всего, это дед сослал «баптистскую» литературу в подвал). Возможно, он был вынужден срочно уехать и бросил их здесь. Однако это были лишь предположения, Андрей даже не знал его имени, вернее, забыл, так как бабушка рассказывала, кого и как звали в семье. После ее смерти выяснить о нем что-либо еще было, по-видимому, невозможно.
Ничего похожего он до сих пор не читал. Андрей вдруг увидел другой, незнакомый мир, в котором все очевидные истины были не очевидны, и даже, напротив, – вовсе не истинны. Большинство статей было не лишено проницательности и ума, а главное – искренности: они будто обращались к нему, Андрею Зубову, и его собственное «я» начинало звучать в унисон им. Казалось, это он сам открывает совершенно новый, до него неизвестный, взгляд на вещи. И еще: только он брал в руки книгу и прочитывал первую фразу, внутри все отрадно замирало, на душу спускалась тишина: смолкала тревога, жгучие воспоминания и все безумие прошедших лет. Он словно окончательно возвращался домой, к самому себе, в то радостное детское состояние, которого давно уже не было, – и вновь чувствовал себя чистым, великодушным, готовым любить и прощать, но любить уже той новой любовью, о которой писалось в этих книгах. Порой он поднимал лицо к потолку, чтобы сдержать слезы, особенно когда говорилось о смирении и самопожертвовании, – как человек с непомерным самолюбием он оказался очень чувствительным к подобным вещам, – например, на разговоре Франциска Ассизского с братом Львом или в сцене суда и казни Сократа. Добравшись же до какого-нибудь обличительного места, он вспыхивал, мысли его неслись, Андрей не успевал додумывать их до конца, в груди звучал набат (удвоенный крепким чаем) – он начинал размахивать руками, бросая отрывистые, невнятные фразы в сторону зеркала, за которым ему виделся – пока еще туманно – какой-то новый противник. И вот он уже представлял себя не то странствующим учителем истины, окруженным толпой учеников, не то духовным борцом, победно всходящим на костер. Непременно как-нибудь так должно было окончиться его подвижничество. Впрочем, спроси его, за что и с кем он собирается сражаться, он вряд ли смог бы ответить, так как все это было «одно брожение неопределенности», как позже выразился известный в городе ученый.
Если страницы были испорчены, он прилагал все старание, чтобы восстановить текст: отпаривал над чайником, пробовал разные составы (вычитанные в найденном там же «Домоводстве»), осторожно губкой сводил плесень – и, напевая, отбивал на столе пальцами чечетку, когда книгу удавалось спасти. Иногда он не понимал, о чем там говорится, несмотря на то, что текст не был испорчен. Например, он никак не мог взять в толк, почему окружающий мир – это наше представление, и что означает утверждение, будто люди «разделены лишь телами». В таких случаях он поступал, как все новообращенные: считал темное место иносказанием. И так всегда: с чем он был солидарен, то понимал буквально; если же разногласие с его опытом и здравым смыслом заходило слишком далеко, значит, это – иносказание, непонятное ему, скорее всего, в силу личной серости. И тут же противоречие как бы переставало существовать, он просто не замечал его, хотя легкий след беспокойства все же оставался. Напротив, наткнувшись на показавшееся ему глубоким высказывание, старался его запомнить, а потом стал выписывать в выцветшую тетрадку, которую нашел в письменном столе. Тетрадь была наполовину заполнена бабушкиным почерком, он перевернул ее и начал писать с конца.
Во дворе окончательно решили, что он «съехал». Даже те, кто раньше заступался за него, теперь с улыбкой, недоуменно пожимали плечами. Его продолжали по старой привычке уважать за феноменальную физическую силу, однако признаки помешательства становились все более очевидными. Сначала он только выскакивал на балкон, с всклокоченными волосами и невидящим взором, устремленным куда-то в просвет между домами, лихорадочно курил и снова исчезал в глубине комнаты – хватался, наверное, за книги. Потом начал выходить во двор и заводить «философские разговоры». На первых порах его слушали. «Он же десантура, – пытались объяснить произошедшую с ним перемену одни, – может быть, в небе что-нибудь такое увидел?» – «На дне стакана он увидел!» – безапелляционно возражали другие. Вскоре, однако, своей категоричностью он настроил против себя даже защитников и нажил двух непримиримых оппонентов.
Оба были отъявленные негодяи: первый – скупщик краденного и ростовщик, второй – сутенер. Происходило все следующим образом. Андрей выходил во двор, садился с краю на скамейку, и словно ждал, когда последует вызов. Первым начинал обычно Виталик, скупщик краденого – он закончил ветинститут и слыл эрудитом. И вот подмигнув остальным, он произносил рассудительным тоном: «Вся философия придумана ущербными людьми, кому с бабами не свезло. И, вообще, они были неполноценные, поэтому недополоучили чего-то от жизни. И вот, чтобы как-то самоутвердиться, они писали трактаты: заняли, короче, свою нишу. А нормальному человеку вся эта философия на хрен не надо». – «Ну да, конечно, Платон и Аврелий неполноценные – а вы полноценные! – загорался мгновенно Андрей. – Их потому, наверно, и помнят две тысячи лет, что они убогие». – «Такие же убогие и помнят. А мне оно на хрен не надо. Я нормальный, зачем мне этой мурой голову забивать». – «Какой-нибудь бык, нормальный, тоже, наверно, счастлив без философии!» – «Лучше быть быком и иметь стадо телок, чем каким-нибудь Аристотелем и дрочить в кулачок». – «В принципе, вы уже недалеки от идеала»… И т. д. и т. п. Они уже не говорили, а кричали друг на друга; удивленные жильцы высовывались из своих окон и с недоумением смотрели на двух наполовину седых мужчин, один из которых был с большим брюшком и живописно жестикулировал, брызжа слюной, а второй стоял, бледный, как мел, стискивая кулаки за спиной. «Наверно, Виталик опять зажал бабки и не возвращает», – думали жильцы. Вдруг Андрей умолкал и среди спора уходил домой. Виталик выразительно стучал себя по лбу, слушатели понимающе улыбались. Дома Андрей давал себе слово не поддаваться больше на провокации, но проходил день-другой, и все повторялось сначала. Споры становились все ожесточеннее – это были уже не споры, а сплошная ругань. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы наступившие холода не разогнали компанию по домам.
На что он существовал, никто не знает. На работу его не брали – поговаривали, будто, несмотря на судимость, ему удалось выбить какую-то пенсию. И почти всю ее он тратил на книги, потому что с новой книгой под мышкой его видели часто, а куртка на нем была, кажется, еще школьная, болоньевая, совсем не по сибирской зиме, – все, что осталось от его прежнего гардероба. На голову он натягивал одну на другую две вязаные шапки. Отпустил бороду и волосы до плеч: так теплее – и экономия на лезвиях, объяснял он любопытствующим. Впрочем, им никто уже не интересовался: к нему успели привыкнуть как к дворовому дурачку.
Всю зиму он просидел затворником и появился во дворе снова лишь в начале апреля. Бороду и усы он к лету все-таки сбрил, а волнистая грива осталась. Ее он стал забирать в хвост на затылке.
Однажды великанша приняла его за вора. «Вы хто?» – напустилась она на Андрея, столкнувшись с ним на площадке. – «Сосед ваш», – отвечал Андрей, пытаясь открыть заевший замок. – «Нет, я жильца отседова знаю – вы не он… Сашка! – закричала она и вцепилась Андрею в плечо. – Звони в милицию!» – «Как это я не он… то есть не я? – опешил Андрей. – Вы, наверно, меня без бороды и усов не узнали?» Насилу все разъяснилось. «Ох, – жаловалась она сплетницам, – и соседа же бог послал: то с бородой, то с косой!.. Шлындает целыми днями по комнате: тудым-сюдым, тудым-сюдым! И все бормочет чё-то – ничё не разберешь… А то как возопит-возопит: вы де гробы крашеные! – и чем-то так и шваркнет об пол. Может, он наркоша какой или извращенец? Цельный день у него на плите чайник кипит. Не ровен час квартиру спалит или еще чего хуже учудит – такой друг»…
За зиму Андрей только утвердился в своем помешательстве, однако все увидели, что хотя «крыша у него съехала и адреса не оставила», но в вопросах, которые не касались «философии», он сохранил трезвость суждения. Виталик как человек, сведущий в медицине, и тут все разъяснил: «Так обычно и бывает у психов: рвет у них крышак на чем-то одном, конкретном, а в остальном они вполне нормальные люди».
Однако Андрей и сам начал замечать за собой странности в последнее время. С ним стало случаться нечто из ряда вон выходящее, что-то вроде припадков, пугавшее его самого. Это были минуты необычайной остроты не то мысли, не то зрения (потому что и мыслей никаких особенных не было): все окружающее представало вдруг в странном свете – и не свете даже, а в каком-то отсутствие значения. А скорее, в новом скрытом значении, которое говорило об отсутствие старого. «Припадок» мог застигнуть его на улице, и тогда он останавливался среди снующей толпы, словно пораженный чем-то. (Вероятно, кто-нибудь из знакомых видел его в этот момент и рассказал во дворе, потому что репутация сумасшедшего за ним закрепилась как раз с того времени). И сразу привычные с детства предметы – троллейбусы, пешеходы, дома – все такое обычное, простое, нормальное, что и думать об этом не стоит, иными словами, такое несомненное, самое что ни на есть очевидное, что иного и быть не может, – все это вдруг утрачивало именно значение нормальности и самоочевидности. А без него оно становились пустой оболочкой, собственно говоря, ничем – странным и страшным. Например, руководствуясь своими новыми убеждениями, он считал, что нет ничего совершеннее человека с его телом и разумом – навстречу же ему бежали прямоходящие ящеры, с круглой головой и щупальцами на конечностях. Нос – недоразвитый хобот; рот, вообще, что-то отвратительное: красное, плотоядное, вооруженное плохими зубами… Хотя, думал он, если приглядеться, любое животное может показаться необычным – взять зайца или слона. Но хуже всего был человек… Может быть, меня нечистый соблазняет, думал иногда Андрей, но тут же с усмешкой прогонял нелепую мысль. Мгновения эти настораживали (и в то же время приподнимали над обыденностью), они вступали в противоречие с новыми взглядами, почерпнутыми в основном из книг, и он не мог уже не замечать этого внутреннего разлада, – словом, все это надо было как-то разъяснить.
От деда Андрею досталась ржавая «победа», пылившаяся в железном гараже под окнами. И вот ему пришла мысль навестить своего школьного товарища Валеру Козырчикова, который жил в деревне. Во-первых, чтобы разъяснить мучившее его противоречие, во-вторых, ради какой-то жажды духовной общения и, в-третьих, просто потому что погода стояла необычайно теплая и хотелось поскорей вырваться из пыльного, загазованного города. Про Козырчикова рассказывали, будто он стал чем-то вроде гуру, к нему ездят разные кришнаиты и йоги со всей области, приезжают даже из других городов. Как его найти, объяснил ему одноклассник Миша Сладков (с Валерой же они учились в параллельных классах).
– А удобно вот так, ни с того ни с сего, заявиться? – спросил Андрей у Миши.
– Почему нет? Все туда ездят… К тому же вы с ним в один зал ходили… – в своей невозмутимой, успокаивающей манере отвечал тот.
– Ну что я там ходил, – возразил Андрей (имелся в виду спортивный зал).
Поселился гуру в трехстах километрах от города, на границе тайги и лесостепи, в деревне с названием Ершовка – он справился по карте, – расположенной на берегу извилистой, похожей на кардиограмму, речушки, что разделяла две природные зоны.
И вот ярким майским утром он вышел во двор в дедовском галифе, в красной майке и в домашних шлепанцах, с перетянутым на затылке хвостом. Замок на гараже был вроде бы целый – сам он туда так и не наведался: как засел за книги, так про все забыл. Вспомнил вновь о машине, когда засобирался в деревню.
Из глубины сараев раздался хриплый вопль петуха. Гаражи примыкали к лабиринту сараев и голубятен, сколоченных из досок, ржавой жести, агитационных щитов. Кроме петушиного крика, оттуда доносилось кудахтанье, воркованье, хрюканье и тяжеловесная возня, от которой сотрясались стены других строений, а характерная непереносимая вонь подтверждала, что там обитает также крупное животное.
Андрей отпер гараж и вытолкал из него синюю «победу». Обошел вокруг, провел пальцем по пыльной двери, остановился перед пустой фарой, присел заглянул под бампер. Покурил. Открыл салон и стал выкидывать сваленный туда хлам. Затем достал из-под капота аккумулятор и поставил рядом с кучей старья. Со скамейки поднялись трое парней и, захватив початую полторашку, подошли к гаражу.
– Хлебнешь пивка? – предложил один из них, протягивая пластиковую бутылку. Андрей отказался, а тот продолжал: – Майор! Есть почти новый аккумулятор как раз для вашего «парша». Недорого.
Андрей почесал плечо и сказал:
– Ну, тащи – если не ворованный…
Один из пивунов за его спиной постучал себя по лбу.
Ближе к вечеру горбатое чудище выпустило облако черного дыма и затарахтело к удивлению всего двора. Пивуны снова окружили машину, но ничего не сказали: слившимися со щеками пунцовыми глазками они заворожено следили за сотрясающимся мотором. Андрей, похожий уже на мавра, в черной с красным оттенком майке, вылез из-за руля, прикурил сигарету, оставив на ней масляные отпечатки, ― зажал ее между двумя спичками. Отступил на шаг и присоединился к созерцателям, в глазах его отразилось мрачное торжество. Затем он попросил одного парня сесть за руль и выжать несколько раз педаль газа – «победа» надтреснуто взревела. Сам же вытер о тряпку указательный палец (из черного тот стал сизым), сунул в выхлопную трубу – и сдвинул озабоченно брови.
Продавец аккумулятора, покачиваясь, сказал:
– Давай напишем здесь: би эм дабл-ю, – И он на пыльном капоте неверным пальцем вывел «BMW», потом закричал: – Где дядя Толя?
Местного художника «дядей Толей» по какой-то еще детской привычке называли все, выросшие во дворе, – даже те, кому было уже за сорок. Сейчас он спал в палисаднике под елочкой, повесив на ветку очки. Кто-то пошел за ним, надел ему очки на нос и привел к гаражу.
– Нет, – сказал другой любитель пива, – пусть это будет «мерс» – нарисуй звезду, как на «мерине»…
– Напиши здесь «молния», – показал Андрей на дверь, вытирая руки тряпкой.
– Ну что это за название! – огорчились «пивуны».
– Нормальное название.
Тут же в гаражах нашли у кого-то баночку с белой краской и кисточку. Дядя Толя, который отхлебнул ярко-желтой жидкости и хотя говорить еще не начал, однако уже мог понимать, что говорят другие, нетвердым, но размашистым мазком молниевидно вывел вдоль одного и второго борта заказанное слово. После этого ему дали еще раз приложиться к «полторашке», он зашел за сараи и больше не возвращался. «Талант не пропьешь!» ─ сказали парни и отправились за пивом.
Мимо проходили девушки в коротких юбках и шортах, с маленькими рюкзачками за спиной. Одна из них, дочка того самого одноклассника Миши Сладкова Даша, поздоровалась и с расширенными глазами спросила:
– Дядя Андрей, это что, ваша машина?!
Подружки ее захихикали, оглядываясь на перепачканные бицепсы.
– Это не машина – молния! – пробормотал, краснея под слоем моторного масла, Андрей.
– Какой ужас! – воскликнула Даша, они снова засмеялись и прошли мимо.
«Молния… Вот болван! А… нам все равно: наступать или отступать – лишь бы кровь лилась», – такая поговорка у майора была. Он провожал глазами длинные, белые, сверкающие на солнце ноги. Даша была гибкой и тонкой, но развита уже, как взрослая женщина. Черные глаза, словно две пытливые изюмины, глядели внимательно и насмешливо.
А на улице – весна. Она повсюду: в дрожащих зеркальцах молодой листвы, в горьком запахе тополиного клея, в ослепительных одуванчиках, в мелькании двух желтых капустниц, гоняющихся друг за другом. Только из убитой, отравленной на метр в глубину машинным маслом земли под ногами не пробивается ни травинки. «Молодой перебесится – старый никогда. У самого дети в институтах учатся – а тебя вона куда потянуло…» – ворчал под нос Андрей, собираясь домой.
Она жила напротив, и он мог видеть ее в окне чуть ли не каждый день. Порой, когда никого не было дома, Даша ходила по квартире нагишом. Она танцевала, разглядывала в зеркале, приподнявшись на цыпочки, свой зад; выделывала балетные «па» или тянулась к носку, закинув ногу на пианино, – и все это на глазах у Андрея. И часто в тот самый момент, когда он обдумывал какую-нибудь сентенцию, вычитанную у моралистов. Сентенция тут же вылетала из головы и никак не хотела туда возвращаться. Он с минуту следил за девушкой, затем, словно очнувшись, хватал две двухпудовые гири, приседал с ними и уходил в ванную обливаться холодной водой.
«Если правое око соблазняет тебя, вырви его и брось от себя; и если правая рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя… А если и то и другое соблазняет одновременно? – размышлял Андрей, обтираясь перед зеркалом полотенцем. – С чего начать?..»
Отъезд он наметил на следующее утро, в воскресенье.