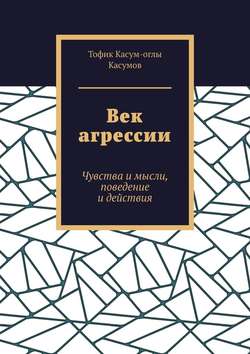Читать книгу Век агрессии. Чувства и мысли, поведение и действия - Тофик Касум-оглы Касумов - Страница 5
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Агрессия как таковая и Век агрессии
Оглавление* * *
В силу реальности Века агрессии в первом приближении говорит уже апофеоз самого понятия «агрессия», которое прочно вошло в обиходное сознание и заняло устойчивое место на «языке» чувств, мыслей и мышления. И всё потому, человек чаще сталкивается со словом «агрессия», чем с явлением (действием) агрессия. Он узнаёт о многих видах агрессии посредством понятия «агрессия», а не опытным путём. Агрессивные события, которые образуют поверхность глобальной агрессии, также становятся достижимыми на основе родового понятия и ключевого слова «агрессия».
Более того, как имя существительное агрессия способствует широкой практике глагола, прилагательному и наречию. А крепость этого понятия в своей основе была выверена в веках, что также должно свидетельствовать о его «живучести». Ведь понятие «агрессия» – это одно из немногих мыслимых имён, не обветшавших во времени, оно и сегодня не изнашивается от частоты словопрений и дискурсов, а только множится новыми значениями, ибо продолжает расти во мнении как необходимое и должное. Не отрываясь от своей сути, слово оставляет за собой возможность захвата новых территорий непосредственной практики и отношений. Например, агрессивный менеджмент, агрессивная реклама, агрессивное лечение, агрессивное молчание, агрессивное вождение и пр., говорят об этом. И такая всеохватность, конечно же, не связана с благозвучием слова «Агрессия»; оно имеет свой резон в явлении, которое называет. Причём в таких проявлениях и нюансах, что впору говорить о судьбе агрессии быть с человеком в его крайностях его выражения. Некогда выработанное насильственной практикой, агрессия стала воплощением всего деструктивного в образе жизни людей. Не отрываясь от своих истоков, агрессия принимает новые виды, называть разные формы разрушительности, сохраняя первоначальное имя. Но что лежит в её истоках, каков её изначальный вид?
Как данность, безотносительно своего имени, она предстаёт неким ресурсом энергии, предназначенным использоваться инстинктивно и большей частью по злому умыслу. Мы об этом судим, исходя обычно из поведенческих проявлений, выделяя здесь как правило отражение и нападение. Нам также известно, что эти особенности были присущи агрессии во все времена и они своеобразно видоизменяли её по мере происходящих изменений в жизни людей. И что именно Нападение смогло «достроить» этот ресурс до агрессии, придавая ей новые виды и смыслы по назначению. Факторами этих изменений агрессии должным образом служили сами отношения людей, обусловленные чаще всего потребностями и взаимоисключающими интересами. В период дикости и много позже безымянная агрессия могла выражаться реактивно, в основном как инстинкт, добавляя силы и ярости естеству. В такой агрессии первоначально не было особого смысла, во всяком случае человек не осознавал её как цель и не мог предвидеть и рассчитать последствия своей агрессии. Таковой и поныне остаётся инстинктивная агрессия и в частностях, усиливая реакции и остроту проявления защиты и гневливости человека.
Но также очевидно, что путь становления агрессии, то, как она задавалась в своих реалиях, был органически связан с преднамеренностью и имел смыслы. И что именно преднамеренность была во многом мотиватором и побуждающей силой агрессии, выражая волю, интерес и желание вкупе. Так, аккумулируя их ситуативно вместе с чувствами, агрессия могла закрепляться в социальности, представая в многообразии своих действенных форм.
По мере усложнения общественной и коллективной жизни, широкого развития не только государственного властвования, но и помимо него группового и межличностного, а также оценочного положения вещей, которые выражают преднамеренность и служат желанию иметь, агрессия утверждается уже как постоянно действующий социальный фактор. Социальность способствует росту полей агрессии, развивает её всеохватность, участвуя, таким образом, в обновлении и возвышении агрессии. Ведь по стечению многих социальных обстоятельств и обусловленных ими метаморфоз самой агрессии, а также личностных переживаний назревающих глобальных проблем, происходит то, что агрессия выдвигается уже на передние планы жизни, чтобы играть роль вековой значимости. И здесь важное место отводится развивающимся надличностным сущностям агрессии, привносимых в сознание. Разработке этого положения будет уделяться особое внимание, согласно нашему пониманию существа вопроса о веке агрессии.
Заметим также, что в новом статусе агрессия не стала признавать поступательного шага в своём развитии и какой-либо «очерёдности». Такая агрессия, востребованная и нацеленная на масштабность исполнения, могла только ворваться со своим «уставом» в век, который ещё шёл, и фактически начать вести отчёт Века агрессии, выдавая свой облик усилением агрессивных значений и смыслов технологий, возвышением субъективности мировосприятия и сродни с ними актуальных агрессивных чувств и переживаний. Подобное осмысливание и чувствование действительности находит выражение в культурных образцах, в культивировании помыслов, чувств и агрессивных действий. Агрессия утверждается в медийном пространстве как объективно существующее, и продолжает обогащаться за счёт привлечения новых субъективно различимых аспектов. Так Век агрессии начинает целостно складываться в действенном существовании и своём обрамлении. Здесь наполнение агрессией многих жизненных квот (частей), изменённые состоянии самой агрессии и личности, поступающего агрессивно по должному, будут местами скапливания ингредиентов, которые интегрируются в целостность Века агрессии. Но как агрессия в жизни людей и обществ смогла обрести смыслы века? И что это за век «по делам своим», в чём его отличие?
Выделим три глобальных смысла агрессии, дающие понимание существования Века агрессии. Во – первых, агрессия, опираясь на политику, выражением которой являются войны, а также на терроризм, обретает смыслы глобальной значимости. Во – вторых, уже будучи составляющей множественных индивидов, агрессия приобретает уже смыслы всеохватности и всеобщности. Наконец, в – третьих, это смыслы, связанные с изменёнными состояниями агрессии, когда агрессия становится надличностной сущностью.
Эти смыслы говорят, что Век агрессии в сущностных чертах есть век глобальности агрессии, отражаемый в сознании, которая подпитывается надличностными сущностями агрессии, и в состоянии ситуативно воспроизводиться каждый раз в реальности. Это век который утверждает культовые признаки агрессии, и живёт по ним; когда индикатором «зрелости» является повышение квоты межличностной и межгосударственной агрессии. Это век, когда смысловые определённости находят себя в разрушительности, в нагнетании страха и особых переживаний. Век, когда растёт политическая разбалансированность, конфликтность и непризнание незыблемости межгосударственных границ. Сюда же отнесём феномен глобализации агрессии, её рост в медийной среде и в интернете. Все эти и другие характеристики жизни и деятельности вековой значимости в едином обрамлении и предстают как Век агрессии во времени и пространстве. Такое композиционное видение позволит говорить о Веке агрессии как многогранном объекте и рассматривать его актуальные аспекты в виде единицы анализа действительности.
Век агрессии актуален сам по себе в силу обуславливаемой напряжённости и действенной вражды, как и то, что эта актуальность будет усиливаться и обрастать смыслами при выделении ключевых аспектов рассмотрения. Приоритетными здесь представляются аспекты, связанные с изменёнными состояниями агрессии, глобализацией медийности и смысловыми напряженностями в мире множественных индивидов. Именно они во многом задают тон и оправдывают собственное название «Век агрессии».
С этой точки зрения в целевой заданности подчеркнём общую предметность Века агрессии как субъективно-объективного явления. Станем выделять сущностные характеристики Века агрессии с акцентом на агрессию, наметим основные пути и способы познания. Прибегнем и к образному, художественному постижению Века агрессии в действительности. Всё это для начала будет представлено в виде своеобразного абриса, наброска, как лаконичное описание исследовательских особенностей Века агрессии. Без подробностей и логического обоснования, последние будут приведены позже и по разделам.
Исследовательский абрис Века агрессии, композиционно станет задаваться и обрисовываться в виде рисунка, с тем, чтобы можно было на этой основе создать картину Века агрессии, развернув схваченнос в абрисе.
В таком целеполагании данная работа предстанет первой попыткой понять до некоторой степени основы становления и существования Века агрессии. Назвать его характерные черты и отличительные особенности, помеченные практикой людских отношений и усилением взаимосвязей агрессии, чувств и чувствований. Выявить тревоги и опасения, которые привносит Век агрессии в жизнь людей, и как это бывает схвачено в мыслях и чувствовании. Сказать и про то, будет ли нынешняя востребованность агрессии, несущая повальное зло, иметь такое же всеобъемлющее продолжение.
Мы исходим из реальности существования Века агрессии, от взрывоопасного пульсирования его составляющих, неустойчивости и изменчивости субъективных связей. Усваивая значение двух ключевых слов, выражающих в своей связке объектные отношения, различаем агрессию, которая имеет индивидуальное значение, что определяется её ролью в сущностных характеристиках Века агрессии. Последнее, не в пример объективным связям века, привносится во множестве субъективными ситуациями.
Обосновывая актуальность сложившейся целостности в его зрелом виде и смысловой определённости, стремимся постичь предельности смыслов, значимые для становления и существования Века агрессии. Как то, что обретало смыслы в изменённых состояниях. При этом полагаем, что предельность смыслов есть его объяснительный принцип. В такой предметности связываем общие проблемы изучения Века агрессии как он есть и что будет с ним наперёд, в контекстах составляющих и их смысловых отношений.
Всеохватность и множественность, масштабность и глубина проникновения агрессии в повседневность – эти признаки и характеристики Века агрессии определяем в конечном счёте как факт принятия жизненной максимы, которая гласит – «Когда агрессия становится определяющей силой индивидуального значения, когда растёт её всеохватность, то этому должно отвечать подобным образом, чтобы соответствовать миру людей во множестве». Именно так усиливается и расширяется общая культура и практика агрессивного. Ибо с объективно – субъективной заданностью происходит воспроизводство и развитие множества напористых людей, как реальных носителей агрессивного. Таким образом утверждается универсальность агрессии в жизненных средах; возрастает её значимость в сфере политических и межгосударственных отношений. Всё это не может не вести к утверждению человека агрессии в глобальном плане.
В целях осмысления сущностного в становлении всеобъемлющей и универсальной агрессии, с необходимостью обрисовываются содержательные моменты агрессии, взятые также в контекстах прошлого и настоящего. Они даются в русле вопросов: как метаморфозы агрессии усиливали её роль в жизни людей? Почему чувствование агрессии, и связанные с этим переживания, становятся довлеющими в Век агрессии? Будет ли продлеваться смысловая заданность агрессии как аргумента силы в межличностном общении, в противостоянии групп и государств. Сохраниться ли агрессия как необходимый оплот суверенитета государства и внутреннего порядка. Иными словами, будут ли люди исходить из существующих смыслов миропорядка, основанных всецело на силе и напористости.
Но как в таком случае следует понимать смысловую целостность Века агрессии? Какой смысловой образ здесь можно предложить? Как представить всё это образно, скажем в виде предметного описания картины? Какие элементы, фрагменты станут выражать его суть в реальности и как они предстанут в метафизических связях между собой?
Такие вопросы, к Веку агрессии как объекту изучения имеют разные уровни познания и связаны с целедостижениями не одного порядка. Они ставятся по пути к цели, сменяя также и методы познания, о которых ещё будет сказано. Однако не подлежит сомнению, что глобальные прогностические модели у нас не предвидятся, не будет и хитроумных выкладок, объемлющих целое. Мы нацелены на то, чтобы полнее уразуметь вначале смыслы Века агрессии как они есть и могут быть представлены в образах, а главное, что они проясняют в реальности самого века. И таким образом, сделать скрытые, нетематизируемые смыслы «для меня», отчасти тематизируемыми «для нас».
Постигая уже смыслы самой агрессии, мы также станем осмысливать её сущность и существование во взаимосвязях с другими чувствами в значении Века агрессии. И это будет один круг проблем, назовём его «Век агрессии в смыслах и значениях». Другой круг включает проблемы, связанные с изменяющимся «телом агрессии», которое питается агрессией войны, агрессией терроризма, агрессией криминала и коммуникативной агрессией Именно это тело находится в основании, являясь образующей Век агрессии, его содержание и существование. Назовём этот круг «Метаморфозы агрессии и составляющие Века агрессии». Эти два круги совмещаются и мы полагаем, что в таком виде они могут выступить уже в качестве единого проблемного поля, которое будет расширяться и застраиваться отдельными «Домами проблематик». Мы будем расширять эти совмещённые круги каждый раз новыми проблемными вопросами, доведя их до конфигурации полей проблем и знаний.
В развитии поставленных проблем, рассматриваемых нами как начало развёртывания проблемных полей «Века агрессии», следовало разработать концептуальную схему «Век агрессии». Это позволило бы органично подбирать понятия для описания Века агрессии в целостности и посредством составляющих. Выявлять смыслы агрессии в значениях века, хотя понятно, что избежать повторов здесь не удастся полностью. Ведь смыслы агрессии таятся в чувствах, непроясненных мыслях, они бывают утоплены в поведении и действиях. Именно посредством этих составляющих смыслы агрессии в своём единении и достигают значений века. Поэтому важно наперёд прояснение того, какой предстаёт каждый раз агрессия в контекстах чувств и мыслей, в поведении и действиях, и как агрессия бывает связана с переживаниями века.
Но где мы находим признаки смысловой определённости агрессии вековой значимости? И что это за признаки? Связано ли это будет с «низами» общественной жизни, задаются ли они в высших эшелонах власти, в политических кругах? Или, быть может, они сопряжены с изменёнными состояниями самой агрессии, её метаморфозами, вызванными переменами в мире людей? Сказать на это, что всё воедино, поначалу может и не удовлетворить пытливого читателя. Ведь должно же быть что-то одно, какой-то признак, знак, что говорит о Веке агрессии. Наконец, какой-то свой «каменный топор», символизирующий искомый век. Однако как бы то ни было, но речь должна идти о переломных отношениях между человеком и агрессией, об изменённых состояниях, связанных с возрастанием значимости агрессии как таковой.
Достижение этих целей определят содержание и методы книги о Веке агрессии.
Наш общий путь намечен от целокупного образа Века агрессии к смыслам и от них уже пойдут «тропиночки» (вопросы), которые должны вывести на поля обоснованных знаний о Веке агрессии. В путь дорогу мы отправляемся, имея общее представление о Веке агрессии, то, что он есть, и берём с собой два ключевых слова: «век» и «агрессия», которые нуждаются в первую очередь в разъяснении и наполнении их аналитическим содержанием. Вот с понимания этих ключевых слов и начнём широко и в логических связях излагать наши представления и размышления о Веке агрессии.
Век агрессии может быть представлен как целокупный образ – реальность «в себе», которая высвечивается смысловыми оттенками образов разной выраженности и чувствительности, изменяющихся во времени. Ведь смыслы бывают приспособлены к разности перспектив восприятия, замечают философы. И здесь речь может также идти о смысле Века агрессии, зарождение которого метафизически скрыто в изменённых состояниях агрессии. К этому предпошлём ещё одно общее замечание Ролана Барта (1915 – 1980) о том, что «… вокруг окончательного смысла всегда потенциально клубится некая туманность, где зыбко колеблются другие возможные смыслы; то есть смысл почти всегда может быть интерпретирован». (Ролан Барт. Мифологии. М., 2008. С. 293.).
Одновременно это может также рассматриваться как установка о множественности смыслов, их соотношении и значимости в отношении становления Века агрессии. Сошлёмся здесь и на Поля Рикёра (1913 – 205), который ставит проблему множественности смыслов в герменевтике – науке о правилах толкования. (Поль Рикёр. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 2002. С. 102.). Когда же смыслы начинают толковать в массах, то они предстают различимыми, множественными и противоречивыми, исходя из опыта, общих и личных представлений. Но как это бывает связано с пониманием смысла вообще, с тем, как он есть? Попытаемся ответить.
Смысл сам по себе без обиняков и смысл в конкретном виде постигаются на основе вопросов к сущности вещей, действованиям по жизни, а также происходящему вокруг нас и в мире. Но уже в ответах сам смысл предстаёт как нечто мыслимое, то, что приписывается вопрошаемому, имея ввиду также полезность, целесообразность и функциональность. Здесь, смысл как произведённый продукт сознания, находится, как бы в стороне, но в то же время в должной мере отвечает за их присутствие и выражение. Смысл мыслится свободно, как идея, образ и цель, чтобы приблизиться и слиться с сущностью вещей.
Однако на деле людей интересуют приземлённые обстоятельства, то что происходит «здесь» и «сейчас» в самих явлениях, не доходя «до сущностного». То есть, по существу смысл задаётся в субъективном плане. И такое представление смысла раскрывается уже в вопросах: «зачем всё это», почему», «какой в этом интерес», «что это даёт» «какие цели преследуются» и пр. Всё это ведёт к пониманию смысла в интересах личной целесообразности вещей, действий, и по большому счёту может определяться широко как вопрос о смысле жизни. В таком понимании смысл века сам по себе не может интересовать обычного человека, разве, что философа. Тогда мы должны говорить о философском смысле века и начинать спускаться вниз от идей к реальным вещам, к действиям людей, чтобы понимать смыслы происходящего в своей целесообразности, оставаясь в границах века.
В то же время и сам век, будучи формально выделенным отрезком времени в своём временном потоке может многое сказать о жизни людей, об их нравах, чаяниях и думах. Поэтом в границах века сама сущность вещей, действий во времени, не может не выражаться в событийности реального, связанного с изменчивостью и фактичностью. Для нас это также вопрос о том, как чувства, и в первую очередь чувство агрессии, отзываются во времени? Но это и вопрос о том, как агрессия во многом становится и стала выразительницей времени рассматриваемого Века агрессии?
В таком раскладе вопросов смыслы агрессии могут уже интерпретироваться в массах, а возможности, связанные с глобальной агрессией, станут скорее предметом особых тревог и переживаний немногих. Исходя из всего этого можно сказать, что смыслы агрессии предстают множественными в сознаниях, они изменчивы, противоречивы и тесно связаны с чувствованиями.
Тогда о чём устойчивом и противоречивом нам могут сказать различимые по значимости смыслы Века агрессии как новой реальности? Когда бы его становление жёстко связывалось с переменами в самой реальности и выдвижением агрессивной реальности на передние планы жизни. А смыслы бытия в своём движении могли бы быть доведены до определения перемен реальности в становлении Века агрессии как самостоятельные сущности – смыслоагрессии. Здесь правомерными будут последующие вопросы о реальности (о смыслоагрессии будет сказано в шестом разделе Вводной части). Что такое реальность? Как понимать реальность, в которой мы живём, и что разуметь уже под агрессивной реальностью? Из каких признаков такой реальности надо будет исходить в контекстах Века агрессии? Наконец, в каких связках можно представить реальность и агрессию, а также различимые смыслы перемен, которые представлены в целостности Века агрессии?
Обратимся поначалу к Бергсону (1859 – 1941), который различал две реальности – «разнородную» и «однородную». «… одна – разнородная реальность чувственных качеств, а другая – однородная, т. е. пространство. Именно вторая реальность, ясно воспринимаемая человеческим рассудком, даёт нам возможность отчётливо различать что-либо, считать, абстрагировать и, быть может, также говорить». (Анри Бергсон. Собрание сочинений. Том первый. М., 1992. С. 92.). Выделение двух таких реальностей, и рассмотрение «однородной» как пространства для абстракций, без отрезка времени, т. е. вне границ Века агрессии, служит иным целям и может говорить нам о многовариантности рассмотрения реальностей.
Мы также станем различать две реальности действительности, взаимосвязанные в пространстве и времени, но на началах, отвечающих логике наших суждений о Веке агрессии. Так, одна реальность как таковая есть среда обитания, в которую человек помещён. Она даётся человеку как необходимая и чувственная по естеству самой жизни. И без неё никак. Другая – социальная реальность, она соткана и попеременно воссоздается обществом взаимодействующих людей для совместного существования и развития. Ей присущи рассудочное и чувственное, образное и смысловое. Это мир людей и мир идей, матрица желаний и общая направленность движений, ныне задаваемых глобальной модой на показное жизнеутверждение силой. Описывая Век агрессии мы, конечно же, будем прежде всего исходить из наличности объективно-субъективной реальности мира людей. Признавать, что человек принадлежит двум реальностям: первой, по естеству вещей и жизни, второй – как к «рукотворному» в действительности. И разуметь, что реальность Века агрессии создаётся людьми и опривычивается согласно их образу жизни, образу мыслей и образу чувствования. И если в предшествующие века агрессия была укоренена в укладе жизни, то в Век агрессии она перемещается в сферу стиля жизни, становится действенной в поведенческих просторах. Такие перемещения агрессии происходят и в сфере уровня жизни, усиливая напряжённости и остроту борьбы, что в целом ведёт к ухудшению качества жизни.
Таким образом, характерными признаками уже агрессивной реальности, которая развивается и оформляется на основе социальной реальности и повсеместно актуализируется в Век агрессии, будет интенсификация и напористость самой жизни, напряжённости и возросшая плотность чувств, чувствований и эмоций. Агрессивная реальность свидетельствует о разноплановости и постоянстве агрессивных проявлений. Она сродни существу, которое живёт, развивается и может изменяться вместе с социальной реальностью, сохраняя и наращивая свою агрессивность. Что будет также означать фактическое уплотнение агрессивной реальности за счёт развития внутренних связей и структурных образований. В этом смысле индивидуальная агрессия станет сопереживаться с коллективной агрессией и выражаться по нарастающей как в в этнической, так и политической форме.
Отсюда следовало бы обратиться уже к эмпирическому опыту, характеризующему агрессивную реальность и вместе в нею Век агрессии. И здесь мы можем видеть, что на индивидуальном уровне агрессия выступает как самостоятельное и вполне спланированное событие, но она может быть и спонтанным «событием в событии», и омрачить первоначальный смысл события. Что говорит о противоречивых смыслах реальности, где спонтанность агрессии рассматривается уже как событие, в значении отрицательного смысла. Так, свадьба есть, безусловно, позитивное и радостное событие, но гости в пьяном угаре могут проявлять агрессию, вплоть до драки со смертельным исходом. Это может произойти и на вечеринке друзей. Такая фактичность говорит о непредвиденных для таких случаев актах. А также свидетельствует о вероятностной многоликости агрессивной реальности, сотканной из элементов и частей социальной реальности. И тогда агрессивную реальность можно будет представить как множество вероятностных социальных площадок, на которых разыгрываются агрессивные действия. Словом, как было отмечено выше, фактология реальности агрессивного ширится и предстаёт разноликой и разноплановой в своей действительности. Но мы не станем в череде фактической агрессии искать сущность явления.
Ведь надо понимать, что фактичность, неоспоримо свидетельствующая о существовании агрессивных явлений, нам не скажет о сущности агрессии. Она показывает видимое, единичное, но не целокупное как единое целое. Последнее нам не дано видеть. Но абстрактное образов и символов объединяет видимое и невидимое, выражая действенность реального в смысловых образах. В них мы находим то, что скрывает от нас реальность агрессии «в себе», или полагаем, что находим, и делаем это реальностью «для себя», как то, что стало определяющим в реалиях и дало название «Век агрессии».
Чтобы отдать должное абстракции и создать необходимую теоретическую основу становления Века агрессии, примем изменения, перемены и изменённые состояния за исходные принципы анализа. И в качестве реально действующего фактора перемен, связанного с пониманием развития основных характеристик Века агрессии, назовём в первом приближении кризисные изменения в мире и переживания, влекущие за собой утрату и необратимость чего-то устойчивого в жизни. Подчеркнём, что кризисные изменения, обуславливающие перемены, не могут не сопровождаться глобальными переживаниями как знаковыми Века агрессии. При том, что если изменения – это процессы по большей части количественного роста, будь то положительного или отрицательного свойства; то перемены выступают скорее результатами этих изменений, уже качественного характера, обуславливающие восприятия и представления, образы и смыслы. Поэтому количественные изменения не всегда могут однозначно говорить о качестве перемен. И значимые изменения, «освящённые» и спущенные сверху, могут вести к кардинальным переменам. Но что есть изменение, и как мы станем его трактовать в контекстах перемен, связанных с Веком агрессии.
Обратимся в этой связи к одной примечательной мысли Джона Дьюи (1859 – 1952) об изменениях вообще. «Повсюду, где есть изменение, есть неустойчивость, – пишет он, – а неустойчивость служит доказательством чего – то материального, доказательством несуществования, недостаточности, неполноты. Такова логика связи между изменением, становлением и умиранием, с одной стороны, и не- бытием, конечностью и несовершенством – с другой». (Джон Дьюи. Реконструкция в философии. Проблемы человека. М., 2003. С. 77.).
Конечно же, нельзя отрицать и многих положительных сторон в изменениях и отвергать традиционный взгляд на изменения в философии. Но в условия кризисных изменений такое понимание будет вполне уместным для становления Века агрессии. Где значимым в изменениях выступает «глобальный» человеческий опыт агрессивного, различимый как чувства и мысли, действия и поведение. И в таком контексте станем различать перемены, связанные с сумрачными переживаниями. Более того в век с кризисными изменениями, катаклизмами и сопереживающими их смыслами по поводу агрессивного, на периферии сознания людей могут возникать и смутно осознаваться предчувствия чего-то надвигающегося, влекомое быть может даже чувством заката жизненных миров. В то же время у нас пока нет оснований полагать, что существует особое переживание агрессии, которое выделяется в ряду других. Скорее эти переживания будут связаны с беспокойным сознанием, чувством тревоги и страха, на который накладывается информация об общей агрессивной угрозе, реальных возможностях ядерной войны. Однако эти переживания не являются центром переживаний человека, но Век агрессии это время когда такие переживания усиливаются и развиваются.
Продолжая рассматривать изменённые состояния, дополняя их необходимыми понятиями, попытаемся постигать единство Века агрессии в образах целого, где век и агрессия, будут выступать функциями конкретных образов. Укажем здесь на три момента, которые в своей связке будут свидетельствовать о Веке агрессии.
Во – первых, то, что агрессия, осуждаемая всегда как способ действий и выразитель поведения во зле, тем не менее, становится востребованной на всех «площадках жизни», и «доростает» до значений века. Она обретает статус долженствования, и вписывается тем самым в существующий социальный порядок.
Во – вторых, это нарастающая сила повторяемости и устойчивости агрессивного, восходящая к институциональному, начинает особо тревожить и пугать. Вызывает массу отрицательных эмоций, переживаний, сравнимых по накалу страстей, разве, что с болезнетворными проявлениями. И сюда же следует отнести «больную совесть» у власти имущих и политиков, доводящих такие чувства и настроения до угнетающих состояний. Известное выражение Сартра о «метафизическом позоре бытия» было бы здесь вполне уместным относительно целостности и выраженности Века агрессии как предмета наших размышлений и суждений.
В – третьих, агрессия, притягивая и подчиняя себе весь негатив людских отношений, начиная с вероломства и лжи, становится центром зла.
Исходя из этого можно начать задаваться вопросами и отвечать. Как свести все выдвинутые положения к одному основанию, когда реальность Века агрессии сопряжёна различными элементами; и при этом не утратить значений и смыслов самого века как единой реальности. Как не утопить проблему века в фактичности – эмпирии нарастающих злодеяний, в шквале жестоких убийств, войн, и терактов? И не показать как данный век стал возможным, какие силы оживились, и нарастив свою мощь, стали определяющими в его становлении? Не следует также забывать, что есть ещё вопрос бытийности: какими смыслами полнится Век агрессии и в какой мере мы можем его причислить к реальности, которую успели уже себе представить?
Что из намеченного сразу можно обговорить в достижительных целях, и на какие пути можно будет выйти, вопрошая на основе самого названия «Век агрессии». Но тогда каковы будут познавательные возможности названий, зная о том, что в философии значение именования есть вопрос дискурса. Ведь философы Фреге, Рассел, Витгенштейн утверждают, что наименование вещей должны соответствовать их фактологическим описаниям, в то время как американский философ и логик Сол Крипке (1940 г.) им возражает в своей книге «Именование и необходимость». Он утверждает, что названия сами по себе ничего не объясняют, они являются лишь средством передачи факта существования во времени.
Как видим, одни авторы исходят из тождества наименования и фактологического описания, но Крипке утверждает о самостоятельности существования, о его независимости от именования. Тогда возникает вопрос: о передаче какого факта существования во времени может идти речь, когда наименование ничего не объясняет? Разве факт именования не должен указывать на то, что есть и что это «есть» надо объяснять. И не будет ли это тогда тем, что наименование задаёт и указывает путь к объяснению, служит, если хотите, подсказкой, а не только «средством передачи факта». В нашем же случае Век агрессии не только название, но и целокупный образ реальности, состоящий из двух взаимосвязанных составляющих, которые на многое указывают сами по себе и в связях.
Вот на этом нам лучше закрыть скобки дискурса, и исходя из наших целей и задач начать задаваться вопросами, чтобы потом уже объяснять то, что существует. Тем более, что наши вопросы, собственно, будут о двух понятиях, вошедших в название «Век агрессии». Это вопросы о том, как сопрягаются в названии образ и смыслы и есть ли в образе то, что можно отнести как к агрессии, так и к веку? Как агрессия (действие – смысл) формирует образ века? И если уж по Крипке, то какое из двух понятия является средством передачи факта существования во времени. Каким образом на такой основе можно будет приступить к созданию контекстов, выражающих суть и содержание Века агрессии и начать обрисовывать его смыслы? Ведь именование делает проблему века предметом описания и объяснения, указывает на то, как в «одной связке» представлены эти два ключевых понятия?
Агрессия, как подлежащее суждения в контексте Века агрессии, есть субъект, то, что характеризует век. Субъектом здесь является и сам век, охватывающий и выражающий своё содержание как определяемый Век агрессии в совокупности своих составляющих. А образ и смыслы сопрягаются целокупно, имея то общее, что связано с сущностью агрессии. В таком понимании агрессия выступает как нечто действующее и формирующее, а век своим содержанием и общим духом жизни будет скорее условием, выражающим такое в целостности. Если мы находим агрессию и век в таких взаимосвязях и на это направляем свой познавательный интерес, то это уже будет единый объект и предмет нашего рассмотрения. Однако описание и анализ такого объекта непременно потребует своего «языка». Поэтому начинать надо с подбора понятий, позволяющих описывать Век агрессии, выделять его признаки, значения и смыслы. Здесь важно прежде определить смысловой горизонт и далее продолжать поиски значений и смыслов уже в широком плане, углубляющих понимание сути предмета.
Горизонт в общем понимании есть нечто ограничивающее что – то одно от другого и видимое на расстояние. В познании это пределы восприятий и знаний в какой – то области в отношении к целям. Познание отодвигает, расширяет и открывает новые горизонты. Когда мы говорим о смысловом горизонте Века агрессии, то имеем ввиду ограничение тех смыслов, которые указывают на вековую значимость агрессии, и служат импульсами для агрессии в её дальнейшем воздействии на характер века.
Смыслы указывают на невидимое в реальности, что позволяет понять и осмыслить в целостности происходящее в действительности. По Делёзу, – … «он также является границей, чертой, сочленением различия» … «Смысл всегда предполагается» … (Жиль Делёз. Логика смысла. М., 2011. С. 44.). В Век агрессии смыслы выступают как сущности агрессивных действий и переживаний агрессивного.
Развитие этих исходных и других положений в контекстах Века агрессии потребует от нас рассмотрения вначале родового понятие «век», и то как, по – разному могут изучаться века.
Век сам по себе есть исчисляемый годами «отрезок времени» с присущими ему атрибутами и веяниями во времени и пространстве. Время, отмечает Дюркгейм, «есть отвлечённая и безличная рамка, которая обрамляет не только наше индивидуальное существование, но и бытие всего человечества». Э. Дюркгейм. Социология и теория познания. В кн. «Хрестоматия по истории психологии». М. 1980. С. 213. И если время выступает как нечто собирающее и упорядывающее от «числа к числу», то пространство предстаёт как нечто вмещающее и указующее место. Каждый век сам по себе существует во времени, в силу начертанного человеком, но отведённое время завершается и наступает новый век. Однако завершение века совсем не означает решение всех проблем, они могут быть и преходящими.
Время, как длительность и последовательность событий в пределах века, имеет самостоятельное значение для понимания их связей и смыслов. «Я – то, что есть время. А то, что есть время, выступает как определённое место в развитии». (Карл Ясперс. Духовная ситуация времени. В кн. «Призрак толпы». М., 2008. С. 31.) Здесь общим моментом определения заданности и направленности событий, и моего вчувствования самого века будет «Дух времени».
Полагают, что над веком витает Дух времени, определяя общие грани и силу ответных действий человечества на вызовы. Это идеи, мыслительный настрой и поверья, укладывающиеся в ментальность века. Но это и господствующие взгляды и мнения, дошедшие до единичного в поступках, действиях и поведении. «Время такое» и надо этому соответствовать, скажут по этому поводу, оценивая и возможно оправдывая, поведение. Перефразировав гегелевский конструкт о «ступенях развития», скажем по нему, что век есть формирование духа в образе происходящего, непосредственной природной действительности. Такой Дух связывает и ведёт к единению времени в мире, а болезнь Духа, к его увяданию – распаду связей времён. Состояние Духа времени во многом связано с «качеством» человеческого духа, в котором важная роль принадлежит силе воли.
Дух времени имеет широкие связи с дыханием человечества, которое в «возвратном порядке» может действовать на него, привнеся собою как оздоровляющие, так и угнетающие начала. Дыхание человечества слагается из дыхания людей, которое есть «актуальный» обмен между внешним и внутренним. В этом обмене участвуют факторы внешней среды, чувства и разум.
О пространстве века скажем так. Это вместилище, общая «сцена века», где мы находим всё происходящее во времени и пространстве как месте. «Пространство», – отмечает Шпенглер, – как и «мир», есть только непрерывное переживание бодрствующего человека». (Освальд Шпенглер. Закат Европы. Новосибирск, 1993. С. 240.). Без пространства нет времени, ему не будет места, чтобы разместить всё то, что есть в потоке времени. Но без времени нет и пространства, ибо в таком случае она будет безжизненной и мёртвой. Во времени мы находим характер и нравы века – «О времена, о нравы», – говорил Цицерон, – а в пространстве – суть происходящих действий. Единство времени и пространства обеспечивает совмещение характера и сути, их соответствие друг другу в границах века. События протекают во времени, осуществляются в пространстве (месте) и бывают уже произошедшими в прошлом конкретного века. События же, прояснённые значимыми смыслами, запечатлеваются в континууме века.
Как понятие периодизации исторического времени, век призван свидетельствовать о сопричастности людей во времени и пространстве, рассматриваемых в пределах культур и истории. Исходя из этого различают не только рубежи веков, но также начало, середину и конец того или иного века. В историографической выраженности век предстаёт уже как время, схваченное в образе жизни, облике вещей и летописном ряде событий: исторических фактов и достижений.
В границах веков осуществляется поколенческий переход, и этот факт частично объясняет вместе с «опривыченным"сохранность и обыденность повторяющегося облика повседневности. «Простому глазу», который видит такое в мелькании дней и годов, границы веков могут быть стёртыми и неприметными, а содержание веков не различимыми. Ведь наступление нового века не отмечается как таковое, не выделяют обычно люди и прожитое в этот век. Но на деле есть сущностные черты и особенности, отличающие века, и они получают своё историческое толкование и собственное имя в ряду других. По этим сущностным началам века группируются в триаду, которая охватывает Древний мир, Средние века и Новое время. Но это может быть и эпоха по примеру, скажем, той же эпохи Возрождения, которая объемлет века, то время, когда возрождалась античная культура.
И всё же как изучаются века минувшие, будут ли различимы подходы при изучении века в прошлом в сравнении с настоящим? В чём суть основных подходов и целей? Можно ли на основе одной интегральной составляющей, характеризовать объёмность нынешнего века, его «лицо»? Или это будет лишь срез, указывающий на социальные и психологические свойства? Но что тогда есть Век агрессии, исходящий от интегральной составляющей агрессия как таковой? И какие черты и особенности в таком случае станут определяющими?
Века, отдалённые в прошлом, изучают на основе «вещного мира», и это во многом традиционно для исторических наук. Но можно говорить и о способе постижения века, основываясь на институциональных изменениях в жизни обществ. Так, если этнографы относительно века описывают обиход, предметы быта и хозяйства народов. И здесь интересы лежат в «старине» артефактов прошлых веков, что позволяет предметно исходить из форм и особенностей поведения этносов, «застывших» в вещах. То социологи по большей части «в настоящем», и исходя из действенных форм поведения, прослеживают изменения институционального характера в жизни обществ. В таких контекстах будут иметь место и философские обобщения, и плавные переходы к социально – психологическим зарисовкам поведения и настроения больших масс. Так, прослеживая в анализе изменения институционального порядка, обрисовывая мир событий, выражается целостная картина понимания века.
В создании такой картины века, «схватывания» в нём сущностного, с необходимостью, а то широко и полно, используются образы и художественные ассоциации. Как правило, они результат представлений, в которых мы находим попытки образного постижения каких – то устойчивых явлений, черт и признаков в жизнедеятельности века. Придав таковым поимённо метафорическую выразительность и заострённость называют век. Такого рода социологические и психологические зарисовки, отвечающие сущностно – смысловому в своей полноте «социальному портрету века», ассоциативно закрепляются в названии века. Например, век тьмы и мрака, мятущийся век или век озарений, а то и век потрясений.
И ещё об изучении века, но уже сугубо как предмете воображаемого. Так, века пытаются мыслить как возможные миры прошлого в «чистом виде», полагая, что такое останется и может послужить описанию необходимого. Того, что было в данном веке скрытно – потаённого, потому, что так было помыслено. Такая воссоздаваемая археология мысли могла бы способствовать расширению возможностей для новых суждений. И это, скорее, так, ибо мысль, лишённая опор, будет всё же лучше, чем когда она, вообще, отсутствует и нет движения.
Вот те ключевые моменты в изучении веков, на которые мы сочли возможным указать, и они как задаваемые ориентиры, будут нам полезными в достижительных целях.
Теперь более полно о Веке агрессии, который мы станем рассматривать не на основе вещей, застывших во времени, и свидетельствующих о том, что «было». А различать и разуметь как мир смысловых соотношений, мир определённого времени, мир данностей и метаморфоз. Мир, в котором происходит смена и формирование нового «Смыслового образа» и «Смыслового горизонта», когда чувства и мысли сами уподобляются «артефактам» как предметы изучения в своих связях и определённости. Это и есть становление Века агрессии.
Смысловой образ создаётся языком. «Только этот Язык, – пишет Хайдеггер, – не просто язык, который мы себе представляем… Мы видим в звуковом и письменном образе тело слова, в мелодии и ритме – душу, в семантике – дух языка». (Мартин Хайдеггер. Время и бытие. М., 1993. С. 203.). А в образе Века агрессии мы отмечаем, с одной стороны, тело зла, которое несёт разрушения и переживания агрессивными действиями, а с другой – чувства и предчувствия, вызванные тревожными ожиданиями уже глобальной агрессии.
О действенности и реальности смыслового образа во времени говорит смысловой горизонт, значимость которого в Век агрессии возрастает, что было обусловлено изменениями личности, в условиях кризиса доверия, переменами смыслов жизни в людских отношениях, когда на поверхности бытования всеобщим становится безразличие и равнодушие. Наряду с этим происходят перемены и межгосударственных отношениях, изменяется природа самой агрессия и реальной становится ядерная агрессия, что приводит к возрастанию беспокойства людей по поводу их существования в целом.
В результате таких перемен создаются смысловые ситуации, возникают беспокойные состояния, которые ведут к усилению значимости чувств и чувствований как переживаний и сопряжений в отношении агрессии. Однако, говоря словами Сьюзен Лангер …«сила, управляющая этим веком, всё ещё остаётся силой ума, импульсом, направленным к символическому формулированию, выражению и пониманию опыта». (Сьюзен Лангер, Философия в новом мире. М., 2000. С. 261.).
Дальнейшее рассмотрение становления и содержания Века агрессии потребует от нас обобщения интеллектуального опыта в пределах нового горизонта и привлечения концептов, выражающих их смыслы. Так, исходя из общего настроя в изучении веков и нашего видения проблемы (как особенного) определяются рабочие понятия и смысловые эпизоды Века агрессии. При этом переход от одного эпизода к другому, рассматривается как возрастание значимости отношений «человек и мир агрессии», ставших основанием Века агрессии и условием формирования нового смыслового горизонта.
Смысловой горизонт Века агрессии – это умственное видение просвета, зазора между традиционным (то, что было и есть) и новым (то, что вело и ведёт к становлению Века агрессии). Он вбирает реальности между повседневным и изменёнными состояниями и предстаёт в единстве расширяющегося опыта тоски и унылости, тревоги и страха, а значит чувствований и мыслей, выраженных в сумеречных тонах, которые навеяны усиливающейся агрессией. Такой горизонт не может играть цветами радуги, его цвета багряный и чёрный. И это характерно времени, когда агрессия нависает над людьми, и по существу неволит их поведение.
Здесь бытийствует идея жизни, которая выражается по – разному в чувствах, помыслах и действиях. В своей действительности такое образование различимо при довлеющей роли одного из названных элементов, или как некое, хаотично – сплошное движение, что выносится на видимою поверхность поведения. Но это может быть и некий актуальный синтез, определяющий цели и ядро поведении, и тогда их направленность и устойчивость во времени станут характеристикой образа жизни. Именно такой образ жизни и становится упреждающим в Век агрессии.
Описывая реальности Века агрессии следует помнить, что: «Из знаков и символов мы ткем нашу ткань «реальности», – как справедливо мыслит американский философ Сьюзен Лангер, в своей работе «Философия в новом ключе». Это важно для понимания целостности и общей картины Века агрессии, ведь воочию мы не видим «сам Век», а приводим лишь «беспокойные факты» и умозрительные вещи, упреждающие их развитие. И это лишь примеры фактичности существования значимой реальности, характеризующей Век агрессии, но они ещё не дают гештальт (целостную структуру). Чтобы эта «фактичность работала» на восприятие целостности Века агрессии, и таким образом «закрыть гештальт», необходимы в первую очередь всеобъемлющие образы и символы. Такие смыслы на поверхности жизни производят как сами события массового порядка, так они выносятся посредством переживаний ожидаемых событий, а не причинность, которая может глубоко утопать в реалиях.
В таких смыслах и значениях будут обрисованы картины, когда более полно и выпукло станут выступать чувственные элементы, черты и признаки иерархического ранга, определяющие в фокусе «лицо» данного века. При том, что чувствования как переживания каждый раз будут по – разному сопрягаться с разумом, силой и влечениями.
Век агрессии – это время, когда внешняя жизнь человека, состоящая из отношений с миром вещей, и внутренняя жизнь как особое отношение человека с самим собой, резко сближаются. Они сближаются «… ибо внешность и внутренность есть лишь отношение между образами». (Анри Бергсон. Собрание сочинений. Том первый. М., 1992. С. 172.). Однако они становятся актуальными для человека, посредством чувств и переживаний, обусловленных страхом агрессии. Такие переживания будут не из эмпирического опыта – они предполагаемые по ситуации. Но, не смотря на то, что такие переживания рождаются из полагаемого, они существуют как мысли и остаются во времени. И уже как коллективно – предполагаемые откладываются на чувствительной поверхности социального, выражая сущностное в судьбе Века агрессии как совокупности событий агрессивного порядка. В жизни общества это закладывается и развивается как социальная чувственность и тяга к агрессии.
Индивидуальному чувствованию, испытываемому от реальных отношений и вещей на практике и в большей мере коллективной чувственности, испытываемых посредством представлений и предположений, принадлежит особое место в миропонимании и мироощущении происходящего. Ницше отмечал базисную роль чувственности в крайних состояниях. «Понимание трагического ослабевает и усиливается, – полагал он, – вместе с чувственностью». Таким, охваченным чувственностью недоброго от предполагаемых агрессивных действий и предстаёт Век агрессии, ибо чувство агрессии является не чем иным как желанием действовать агрессивно, а чувствование агрессивного в страхе, бывает замешано опять же на необходимости быть агрессивным по ситуации. В каждом из предполагаемых действий, выбор в принципе остаётся за агрессией. И тогда не будет уже опрометчивым с нашей стороны считать, что Век агрессии есть мир чувственности и действий агрессии, в отличие от шопенгауровского мира воли и представлений, хотя пессимизм этого философа, был бы здесь вполне уместным.
Усиление связей между выделенными переменными внутри их совокупности и во вне, позволяют рассматривать новые ключевые аспекты понимания роли и предназначений агрессии в мире людей, и в этой связи следует уже говорить о выстраивании матрицы агрессивного поведения.
Человек есть существо матричное, он всегда в своих действиях и поступках незримо бывает, как бы, втянут в «матрицу» представлений и смыслов, и это происходит инстинктивно и бессознательно. В Век агрессии такое становится зримым и во многом осознаваемым явлением, что сопрягается со становлением беспокойной матрицы агрессивного поведения. Её суть связана с противостоянием, с одной стороны, индивидов (активное меньшинство), как носителей устойчивых агрессивных чувств и агрессивных мыслей, что должным образом выливается в агрессивное поведение. С другой – растущими ожиданиями большинства людей агрессии, которые сопровождаются переживаниями, страхом, тревогой, что также оборачиваются в разной форме агрессивными действиями, вплоть до аутоагрессии. Противостояние сторон устойчиво ведёт к возрастанию эмпирической и рациональной агрессии, и в то же время происходит иррациональное сращивание элементов «противостояний». Возникает объект, воспроизводящийся как своеобразная социальная матрица агрессивного напряжения и поведения в обществе.
Данная матрица есть сопряжение силовых связей агрессии, объективированных противостоянием выделенных сторон агрессивного. В ней есть две части: «Разрушение» и «Переживание». Уже в таком виде социальная матрица агрессии стала данностью в обществе, в неё практически погружён каждый человек по жизни и обстоятельствам. В силу этого такую матрицу агрессии будем считать основным выразителем понимания и принятия сущности агрессии и важной составляющей Века агрессии.
Приняв такие характеристики и соображения за основу, можем сказать, что Век агрессии начинается с усиления ауры агрессии в обществе, с порывами агрессивных деяний, с рисками и возможностями новых агрессий, которые глубоко чувствуются и переживаются в потоке сознаний. И что толковать Век агрессии надо исходя не из историко – этнографических описаний артефактов, а философско – психологически, на базе рефлексии нарастающих переживаний. Ибо для такого века не мир вещей, и в меньшей мере мир технологий, а скорее мир чувствований (мирочувствие) будет актуальным. Здесь также не помешает нам изначальной веры и твёрдости в высказываемые положения, чтобы расширить пространство свободных размышлений и суждений о Веке агрессии. Ибо такие положения не будут подкреплены ни фактически, ни до конца выверенной аргументацией, но они нам необходимы для целостной картины, помимо образа и художественных ассоциаций.
Исходя из таких предположений и не прибегая в полной мере здесь к рефлектированию, мы станем различать Век агрессии не столько в плане количественного роста войн и преступности в мире, нисколько не снижая при этом их роль во зле, а сколько в плане приращений чувствований в сознании, говорящих о неотвратимости агрессии «рядом», «везде», а также «глобально», в масштабе всей планеты. И это в действительности так, пусть и в разной мере. В жизни каждого такие переживания могут находить свой путь к сознанию, ибо человек больше опасается того, что ещё не произошло, когда осознаёт его неотвратимость в своих чувствах и переживаниях. Эти чувствования в массе своей есть не что иное как болезненные вибрации духа, свидетельствующие о его надломленности и угнетённости. Будучи реально эмоциональными реакциями на неопределённости, они всё теснее вплетаются в социальную жизнь.
Эмоциональные состояния, вызванные к жизни расширяющейся агрессией, будут неуклонно подтачивать жизнестойкость, делать неустойчивым корневое в жизни людей. А неосознаваемые страхи в жизни станут осознаваться как страхи агрессии. Поэтому связи между агрессией и веком, выраженные в чувствовании зла и тревоги, мы станем относить к основанию и сути Века агрессии. Они отражают существующий настрой и указывают на общие смыслы социального самочувствия и поведения. В единстве таких чувствований и мыслей Век агрессии предстаёт как «сгустков» особых переживаний, связанных со страхом. Такие чувствования действующей агрессии становятся воспроизводимыми центрами напряжённости и тяжести Века агрессии.
В данном раскладе переменных было бы заманчиво предположить, что в Век агрессии активному агрессивному меньшинству удалось навязать большинству вид переживаний, связанных с агрессией. И что эти чувствования агрессии, вызванные обволакивающей аурой агрессивности, дали свои «всходы» – агрессию большинства, и что эти перемены легли в основу складывания Века агрессии. Однако не станем спешить, чтобы не впасть в дурную «одномерность» или однобокость. Ведь мир людей многомерен – многомерен и Век агрессии. Тем более, что ожидать, одномоментно, рождение каких – то кипящих страстей уже массового порядка, а также изощрённых форм и логической продуманности агрессии, нам не приходится.
Если агрессия меньшинства есть рациональная агрессия в достижении желаемого, то агрессия большинства, выражаемая спонтанно, будет сродни агрессии языческого мира (сила и защита). Но это и индивидуальные состояния сознания, предшествующие агрессии. Как разные потоки агрессивного во времени и пространстве, они отличаются по смыслу, своими объёмами и разрушительной силой. Сталкиваясь и смешиваясь, они образуют половодье агрессии, которое разливается в мире людей, выходя за берега традиционного понимания возможностей агрессии. И это уже воочию сам Век агрессии, где агрессия меньшинства является вбросом «образцов», смешиваясь с массовым сознанием, они, образцы агрессивного, принимают свойства матрицы века.
В то же время нельзя не видеть, что агрессия как таковая сохраняется в обычной жизни, она только перемещается в поле «подражания» и механизм её воспроизведения значительно упрощается для большинства. Ведь воля и желание могут уходить на задние планы, когда в мире есть подавляющее следование агрессивному по образцу и подобию. Притом, что воля активного меньшинства не будет соответствовать представлениям большинства, что также будет усиливать их различие.
Агрессия меньшинства даёт образцы достижения желаемого, посредством агрессивной силы, а агрессия большинства – это образцы агрессивного, которые произрастают по большей части через протестное, замешанное на обидах, тревогах и страхах. Эти образцы агрессии есть сущности сознания, которым ситуативно следуют на практике. Последнее есть выбор, и скорее это уже не будет выбор большинства, учитывая сказанное об угнетённости духа, способного выразиться и в ярости.
Отсюда мы станем придерживаться той мысли, что важным признаком Века агрессии будет «панургово» следование агрессивному по образцам, актуализированным уже в коллективных сознаниях, в сознании большинства людей. Такие образцы агрессии будут сопереживаться изнутри. К этому подталкивает и внутреннее отношение к миру, когда растёт общая гнетущая напряжённость при явном спаде уверенности в безопасности жизни. «Человек начинает ждать агрессию как реакцию на проблемы». (Гордон Олпорт. Становление личности. М., 2002. С. 155.).
Здесь следует подчеркнуть особую роль меньшинства в возросшем потенциале и «зрелости» уже реального осуществления ядерной агрессии, когда даже технический сбой, неполадки в системе отслеживания, могут привести к ядерной войне. Её начало, возможно, что и отдалённо, будет связано с конкретными политиками, но продолжать такую войну в ответ будут и другие, которые также готовили её по сути. Данный ход событий не кажется сюрреалистичным в Век агрессии, ибо возможности ядерного удара и всякие просчёты от его последствий уже в реальном режиме времени обсуждаются в нарративах политиков мира. Удастся ли человечеству избежать самоуничтожения – это вопрос Века агрессии. Здесь физический смысл агрессии в её высшей точке – ядерной войне, отсылает к экзистенциальным смыслам переживаний её возможности.
Такому в Век агрессии способствует и наращивание всеохватной информационной агрессии и агрессивных практик. Агрессивная информация имеет разные источники и калейдоскоп обновляющихся материалов, сюжетов, фактов, где действующим лицом является «Человек агрессии». Она разделяется на фактическую (СМИ о практиках агрессии) и риторическую агрессию (угрозы в адрес противника). Эти элементы во многом задают и усиливают извне эффект «панургово следования» агрессии. когда происходит тотальное вбрасывание агрессивных сущностей образцов поведенческих актов – в сознание людей. Тотальность включает в себя и примеры индивидуальных вбрасываний агрессивных сущностей.
Продолжая характеризовать Век агрессии в целом, нельзя не отметить и тот факт, что на сторону всего «мертвящего» перемещается так называемая литература и искусство, когда авторы пытаются, как бы, в противовес унылости и однообразии существования, придавать поведению агонизирующие некрофильные смыслы, отрицающие живое и провозглашающие страсти по неживому. Когда, к примеру, должное «обладание» мёртвым, единение с трупом, достигается насилием и жестокостью в извращённых формах. Здесь, судя по всему, речь должна идти о явной патологии, но авторы исходят из манифестации человека, страстного до всего неживого и смердящего. Видимо, в пике Века агрессии такие манифестации будут абсорбироваться как творения продвинутых…
Вместе с тем признаем, что на поверхности вещей жизнь продолжается, и она сохраняет свою «обычность» и практику «старых» форм агрессивного. Такая обыденность даже может высвечивается радужными красками, вопреки усилению агрессии в мире. Но надо понимать, что это видимость, как остатки былого, не захваченные в полной мере действительностью происходящего. Ибо в своей целостности Век агрессии предстаёт как мир людей, в котором довлеют агрессивные чувства и переживания, помыслы и деяния. И если агрессивное во времени века крепчает и сливается в соответствующее настроение, которое тяготеет к зову зла, то в мире людей развивается многоголосица агрессий, имеющих личностное начало зла, опять же в зловещей связке со временем. Это не может не говорить о «круговороте» и воцарении сил зла в агрессии как таковой при умалении сил добра в мире, и о том, что агрессия во многих своих видовых отличиях становится непосредственной действительностью зла. А значит и Век агрессии уже вступил в свои права, оставив позади века оптимизма и разума. И это означает, что расширяясь неумолимо в свой век, агрессия всё шире углубляется в сознание людей, захватывая и укрепляясь на новых «высотках» зла в человеческих отношениях.
Если подытожим сказанное, то получим в первом приближении, что Век агрессии есть:
– атмосфера напряжённости и чувствований агрессии, которая «подпитывается» как ожиданиями агрессии разного вида и уровня, так и готовностью быть агрессивным;
– утверждение Человека агрессивного, с соответствующими чувствами, мыслями и набором образцов агрессивного поведения, индивидуалистические начала которого не мешают ему в оценке агрессивных ситуаций признавать и действовать в купе с социальным и коллективными представлениями о них. Социальная жизнь вбирает в себя такие сущности как Быть, Желать и Иметь, с нею связан выбор человеком пути – дороги. Иметь отбирая, отнимая – это путь Человека агрессивного, который не может не завораживать, беспокоить и напрягать обычных людей;
– глобальные возможности межгосударственной агрессии, связанные с использованием ядерного оружия, и в данном контексте разнузданность агрессивной риторики политиков;
Однако такой «набросок» фрагментарных «картинок» Века агрессии, не может считаться целостной картиной, без своих сущностных оснований. При этом мы исходим из того, что Век агрессии нельзя объяснить лишь причинностью, его также нельзя «втиснуть» и связать одной какой – то логикой. Ибо Век агрессии шёл и складывался своим внутренним чередом, испытывая происходящие в истории людей изменения вместе с агрессией. Это реальность сама по себе, данность, которая может переживаться в глубине сознания по – разному. Поэтому мы можем вначале подступиться к нему через образ агрессии, и близких к нему по смыслу составляющих как Века агрессии. Они будут извне свидетельствовать о его реальности во времени.
В целом же предстоит как можно полнее определиться с путями поэтапного и ступенчатого раскрытия самой агрессии на основе сущностных переменных и реалий жизни. Показать, что могло привести к расширяющейся агрессии, её всеохватности? В какой мере и как это изначально было связано с природой человека, и в какой повинна уже сама социальная жизнь, с её катаклизмами и пертрубациями Какова здесь роль межгосударственных отношений и политики вседозволенности? И многое другое, о чём будет ещё сказано.
Чтобы уяснить поставленные вопросы в соответствии с историей и логикой возрастания значимости агрессии и подступиться к выявления сущностных начал складывания Века агрессии в преемственности, нам следует исходить из того, что агрессия вплетена в существование всего бытия, в вещное бытие человека. Считать агрессию онтологической действительностью, силой, вечно пребывающей и подвергающейся изменениям вместе с человеком. Признать выделение этой силы из общего инстинкта выживания и сохраняющей с ним связи как протоагрессию (преддифференцировнную агрессию), а также последующие её метаморфозы в агрессию разделяющуюся (до социальную), в агрессию дифференцированную, социальную. И далее, на подъёме уже, в агрессию вековой значимости, агрессию множественности и «публичности»
Определяя вечно пребывающую агрессию в жизни людей, необходимо принять и то, что изначально, в те далёкие от истории времена, могла быть только общая жизненная данность в форме бессознательной силы и энергии инстинкта выживания, который актуализировался, главным образом, голодом и страхом. В потенции такой инстинкт неосознаваемо, стихийно, таил в себе будущую агрессию, не имеющую ещё своего наименования. Так вот эта безымянная сила, будучи частью инстинкта выживания, служила скорее не злу, а жизни, тому, чтобы человек мог выживать в опасных для него условиях. И что с вступлением человека в отношения, где достижительные цели могли превалировать над необходимыми для выживания, могла выделиться сила из общей данности уже для других целей и получить собственное имя по первому действию – нападению, вступив, таким образом, на путь зла. Видимо, отсюда можно было бы начинать писать историографию агрессии. Но мы вернёмся в наши дни и зададимся вопросом: как агрессия и другие переменные представлены в раскладе Века агрессии? И продолжим рассматривать сам Век агрессии целостно, обрисовав его вначале как сущее. Уделим больше внимания бытийности агрессии, как образующей данный Век, и, соответственно, выясним устойчивые выраженности агрессии в контекстах разных чувств, мыслей и в её «родной» стихии (криминал и война).
Агрессия как инстинкт выживания роднит человека с животным миром, но человек выходит за пределы биологических потребностей, и мало – помалу обретает свои социальные черты и характеристики, что не могло не сказаться на разветвлении и развитии самой агрессии. Выживание же сохраняется как принцип жизни, как то, что лежит в основании, и остаётся объективной функцией в отношении к которой незримо протягиваются связи не только потребностей, желаний и интересов, но и чувств с мыслями. Именно в таком раскладе утверждается имя «агрессия», в котором было схвачено всеобщее содержание смысла «иметь» и «быть». И именно так агрессия, являясь под собственным именем, и в большей мере тем, что есть по существу, развивается по жизни агрессией разрушений, всеяволий и захвата, чтобы господствовать, иметь и владеть.
Надо полагать, что так по существу складывалась линейная история агрессии, и также ныне вырисовывается её социальная историография, которая могла бы писаться историками под диктовку захватнических войн. И похоже, что эта история приблизилась к чему – то очень важному и масштабному. Ибо по прошествии веков, насыщенных агрессивными деяниями, мы наблюдаем апофеоз агрессии в мире, когда над повседневной агрессией, которая может начаться с дискурса субъективности, агрессией частых военных вторжений и разрушений, нависает вызревающая агрессия планетарного масштаба, в которой разрушительность всего живого и среды обитания является определяющей. В Век агрессии мир становится заложником ядерных держав в их борьбе за лидерство.
Планетарная агрессия как возможность и сценарный ход апокалипсиса ядерной войны, а также другие виды агрессий, получающие в разной мере энергию зла, и в ней же сохраняющие свою целостность, составляют мыслимую сущность Века агрессии. Это позволит по принципу всё воедино и всё целостно высказать обобщающее суждение о Веке агрессии и принципах его существования. Век агрессии есть новое качество во взаимосвязи закономерного по естеству агрессивного и многих человеческих усилий, выделенное как особое звено в летосчислении машинно – индустриальной и информационной эры. Такой век складывается в свою актуальную целостность на фоне качественного ухудшения человечества, когда агрессия становится неотъемлемой частью событийности в мире, его выражением в жизненных ситуациях и повседневности. Существование Века агрессии принципиально связано с мерой вовлечённости большинства людей в тенёты агрессии активным меньшинством. Об этом говорит и укрепление связей между внутренним (агрессиум) и навязываемым извне (надличностные сущности агрессии). Агрессиум и надличностные сущности как кодовые признаки Века агрессии будут рассмотрены позже.
Исходя из сказанного можно будет полагать, что агрессия достигает мыслимых пределов, и что теперь человечество является носителем агрессивного. Как верно и то, что ныне человечество само по себе является субъектом агрессии, потому как оно агрессивно в отношении природы и в отношении духовности. И если время от времени на теле человечества возникали злокачественные опухоли, которые в горниле войн устранялись, то в Век агрессии они разрастаются во множестве, неся в себе потенции к самоликвидации человечества как целостности.
Так это и есть, скажут нам, понимание основ становления и существования Века агрессии?
Если да, означает ли это то, что агрессия в новой качественной определённости живёт в каждом, во всех и во всём, что она находит наглядное и устойчивое выражение в действиях личности, коллективности, народности и государственности, объемля тем самым множественных индивидов в агрессивных проявлениях. И что с видовой множественностью связан один из важнейших критериев существования Века агрессии. И что такой «всемирный охват» даёт нам понимание Века агрессии как такового из самого себя, и это же позволяет структурировать век, выстраивать и говорить о неотъемлемости его составляющих, в их связях с агрессией. Так ли это?
Наш ответ по существу не будет исходить только из научного способа познания, ибо Век агрессии надо брать во всех формах, а не только теоретически. И тому есть разные объяснения, но главное то, что сама предметность носит общий характер, явно не формализованного свойства, а понятие «Век агрессии» по сути родилось и закрепилось в свой публицистичности скорее как политическая метафора. Не ставилась и сама проблема научной разработки Века агрессии как предмета, который был бы логически выделен и обоснован. Поэтому вопрос сущности Века агрессии не может быть выражен одной логической формулой, он остаётся до некоторой степени открытым, вопросом для размышлений, а то и вопрошаний, опираясь изначально на метафизику. В такой ситуации поначалу можно ходить вокруг да около, и выбирать значимый предмет возможных размышлений, исходя из образа и общих представлений. И уже обоснование предметности должным образом, могло бы вести к установлению и обобщению логически связанных понятий и описывать Век агрессии в целостности.
Общим же моментом здесь надо полагать будет и то, как менялась эпоха, историческая и социально – культурная обстановка и какие метаморфозы претерпела сама агрессия, чтобы попытаться, как сказал бы философ, увидеть Век агрессии в горизонте бытия. И тогда первым делом может встать вопрос о выборе достоверных критериев, о том как они отражают изменения основных переменных, чтобы в соответствии их друг другу можно было довериться не только образу агрессии, но и узреть контуры Века агрессии. Об образе агрессии скажем особо, но позже, а пока продолжим разговор об общих критериях, оценивающих те силы, которые изменились, что повлекло за собой усиление агрессии. Так, рационализм и индивидуализм как изначальные основы данной эпохи сохраняются, но это уже не те движущие силы, что были вначале и создавали новые формы жизни, связанные с верой в человека, способного противостоять злу, в своих устремлениях к добру и мирным делам. Именно с такой верой человечество и смогло пережить две мировые войны. Человек мира смог победить человека агрессии и вырвать мир у войны.
Сегодня характерным будет безверие в человека, когда рационализм съёживается до личностных интересов, а творческое в индивидуализме диктуется по большей части необходимостью и умением обустроиться вопреки и даже за счёт других. И чтобы утвердиться и застраховаться в своём единении с рационализмом, и быть успешным всегда и во всём, индивидуализм выражается множественностью, изменчивостью и враждебностью своих позиций. Отсюда можно было бы понять почему усиливается чувство жизни, и в творчестве, замешанное на агрессии.
Действительно, находясь в общем потоке жизни, испытывая вместе с нею все жизненные пертурбации и изменения, агрессия смогла по необходимости выделиться и придать жизни свой окрас и громкое звучание уже в ином своём состоянии. При этом агрессия оказалась функционально значимой и актуальной не только как яростное начало, разрушающее изначально естество миролюбия и должный порядок, ведущее к разрыву человеческих связей и отношений; и далеко не только в быту и повседневных людских делах. Агрессия становится всеохватной и всеобъемлющей силой, её власть начинает простираться и утверждаться в значениях века. Такая агрессия грохочет в мире как позывная труба «одной ноты», которая может противостоять всей полифонии оркестра, заглушая и нарушая симфоническое целое.
В таком случае мы вправе уже с уточнённых позиций задаваться нашими вопросами в широком плане. Что происходит, как объяснить такую агрессию уже в масштабах века? Каким образом смогла так усилиться агрессия? В какой мере это связано с переменами в общественной жизни? Как при этом меняются жизненные устремления людей, их чувства и помыслы? И можно ли обо всём этих изменениях говорить как основаниях для складывания по жизни Века агрессии? В этой связи возникают и такие вопросы. Имеет ли Век агрессии единую структуру или он есть фактичность различных видов агрессий, не связанных между собой и с каким – либо единым общим условием. Выражает ли Век агрессии более высокую ступень агрессии, оставаясь сама неопределённой в своей целостности и мыслимое посредством отвлечения от видовых свойств агрессии.
К поставленным вопросам предпошлём также одно предположение и связанное с этим изменения агрессии. Так, если бы и существовал закон об агрессии «не быть выше людей и действовать по горизонтали, а не вертикали», то в Век агрессии этот закон явно нарушался бы, ибо агрессия действует по вертикали, она становится надличностной сущностью и завладевает помыслами и поведением человеком. Подобное происходит в результате «перегрева» общественных отношений и связей, интересов и конфликтов в глобальном масштабе, что и вызывает «парниковый эффект агрессии», повсеместную устойчивость и уместность в активизации агрессии. Такой «взгляд» мы можем условно принять и держать его в голове пока не приблизимся к разговору о сущности агрессии. Ведь об агрессии можно говорить как о явлении, о том, что мы видим. Но истинное бытие агрессии в её сущности, о которой можно лишь вопрошать. Вот об этом, и не только, будут наши полевые зарисовки, суждения и размышления.
Начнём с того, что есть и действует, с того, что став действенным составляющим в сфере современной политики, овладев чувствами и помыслами людей в массах, агрессия обрела широко востребованный характер в мире. Ныне агрессия есть достижительное средство приращений и возвеличений, в основе которых лежат интересы, амбиции и вседозволенность. Она также является атрибутом вторичной (мягкой) силы, возможной для разрешения, а лучше имитации участия в национальных спорах и межгосударственных конфликтах, неприкрыто отстаивая интересы на одной стороне. В таких пределах агрессивная действительность как необходимость всегда и во всём, может устойчиво удерживать вверх над разумным, лишь призванным быть как должное в действительности. Поэтому агрессия как сила не слушает возражений разума, она сама по себе есть вседозволенность.
Такая агрессия, оттеснив сопротивляющиеся ей чувства, одерживая вверх над миролюбием и разумом, делается явно ощутимой во многих планах жизни, что и возвышает её в значениях века. Образно говоря, происходит то, что в старые меха агрессии вливаются качественно новые агрессивные силы, но в этот раз меха не лопаются, как в случае с вином. Наоборот, старые меха укрепляются и становятся шире, а сама агрессия – много сильнее. В реальности Века агрессии такое может означать то, что Эго – миролюбивое и Эго – осторожное уступают Эго агрессивному во всём. А разумное начало «для меня», «для нас», сведённое к набору и сочетанию мыслей при принятии решения «как поступить», «что делать», становится повсеместно гибким, если не колебательным, и в итоге всё же склоняется к оправданию и принятию агрессивных действий.
Надо понять, что агрессия не может не принадлежать миру, и что форма её существования в Век агрессии абстрагируется от человека как сущность, нависающая над ним. Но, очевидно, и то, что агрессия также не может существовать без человека как её носителя внутри и вовне в поведенческих актах. Поэтому агрессию надо понимать как зримую и незримую, как фактическую и сущностную, как нечто существующее внешне, так и внутренне. Понимать как вещь в себе, недоступный опыту, и как феномен, существующий в пространстве и времени. Именно на основе таких критериев должны будут связаны составляющие Века агрессии. Раскрыты их связи и взаимосвязи, обеспечивающие становление и складирование Века агрессии как целостности.
Итак, как можно было понять из сказанного, мы начали с того, что Век агрессии есть целокупный образ и подчеркнули необходимость выявления общих смыслов и смыслоагрессии проблемного характера. Указали и на метафизические вопросы, ибо Век агрессии есть во многом проблема экзистенции человека. Сам Век агрессии предстал в сложном и противоречивом сочетании социальной и агрессивной реальности. Такое понимание легло в основу теоретизирования поставленных проблем и вопросов.
Было определено, что Век агрессии складывается в условиях происходящих в мире перемен, возрастания напряжённостей и обособления людей в противостоящих мирках, в силу непомерно выраженного индивидуализма. Эти перемены требовали от человека способностей быстро и агрессивно реагировать на изменённые состояния. И каждый раз такие поступки могли по значимости приравниваться к какому – либо событию. Так, в общем потоке событийности насыщались смыслоагрессии, обеспечивающие жизнестойкость агрессии «для меня» и «для нас». Поэтому понятие «Век агрессии» охватывает прежде всего смыслы и сущностное, происходящее в агрессивных отношениях. А сам Век агрессии предстаёт как время насыщенное, а точнее «начинённое» смыслоагрессиями.
Ограничивается ли такое время лишь опытом действий агрессии, или значим только опыт века, но может есть и запредельное, выражающееся в сущностном агрессии. Всё это исключительные исследовательские моменты, уточняющие профиль и значения Века агрессии.
Наблюдая такие изменения не только из самой агрессии, но и то как она осуществляется в пограничных контекстах, представляется важным установление связей в «разбросах увиденного», а это проявления чувств, мыслимого и сами действия, чтобы можно было охватить Век агрессии одним общим взглядом и понять как сущностное, так и механизмы задействования этих процессов. В этом отношении утверждаются новые аспекты и общий абрис Века агрессии как начинание для постановки конкретных целей и задач, выработки в целом исследовательской материи (суждений, размышлений и аргументов). Век агрессии в познавательных целях предстаёт в чувствах, мысленно в образах и воображении. Конструкции с этими элементами строятся с учётом особенностей индивидуального восприятия и коллективных представлений.
При этом мы считаем, что причинное объяснение, когда одно положение вещей является причиной другого, могут иметь составляющие, и то в каких – то пределах, но не сам Век агрессии. Ибо по существу Век агрессии есть истечение зла от единичных поступков, и уже как целостность он скорее всего складывается сам по себе, в соответствии с духом времени, с практикой агрессивных ситуаций, агрессивными устремлениями и характерными переживаниями. Но если всё же искать и находить причинность в контекстах Века агрессии, то следует не столько говорить о причине действия, а сколько о причине цели, связанной с метаморфозами самой агрессии в условиях задействования определённых факторов как данности. Здесь дух времени есть совокупность характерных проявлений жизни, выраженных в языке, поведении и мышлении. В процессе воздействий сознаний на сознание, дух может говорить на языке агрессии, и определять по меньшей мере существование трёх форм агрессии, с характерными признаками. Это ожидаемая агрессия (состояние тревоги), желаемая агрессия (захватнические установки, месть) и реальная агрессия (сами агрессивные практики). Мы особо различаем агрессию и как надличностную сущность, независимою от человека и наделяющего его образцами агрессивного поведения, но об этом позже.
В Век агрессии названные формы складываются и вызревают тогда, когда выстраиваются определённым образом различные элементы, становясь в своих связях, предпосылками друг для друга и в таком уже качестве его составляющими. То, как всё это проявляется в очертаниях целостности самого века во многом принадлежит фактической стороне, но интерпретация уже всего происходящего должным образом имеет авторское происхождение. И здесь имеющиеся предположения вне фактического, с элементами воображаемого и художественного, возможно и оспариваемые, могли быть вызваны только пониманием необходимости создания целостной картины Века агрессии. В то же время следует признать, что всегда остаётся «нечто» как субъективно – объективное, и оно всё время ускользает в силу «тайн» трансцендентного, а также изменчивости во множестве, и не даёт схватить себя не только в понятиях, которые призваны выражать и пояснять, но даже словами одномоментной плоскости. И тогда остаётся одно – ввести персонаж и посредством его поведенческих проявлений попытаться что – то уяснить в этом «нечто». Ведь Век агрессии противостоит индивиду, и такое состояние практически становится одним из источников его воспроизведения как мира смысловых соотношений.
Производство смыслов есть действия множественных индивидов в обществе. Отсюда понимание того, что для переломных моментов агрессии, выступающих как типическое, есть смысл ввести персонаж множественного индивида и рассматривать его как выразителя субъективно – объективного в Веке агрессии. А под множественностью индивида понимать тождественное себе единство различных качеств и проявлений. Ибо индивид «во множестве» есть носитель тех или иных качеств. Занимая положение в группе и обществе, он предстаёт многовариантным в своих интересах и действиях, реагируя каждый раз на обстоятельства своей жизни. Когда же этот персонаж начинает «перебирать» свою жизнь и возможности в достижительных целях, то может осознать их нестыковки в самой реальности, в которой он есть. Придя к такому пониманию через обиды и треволнения, но пересилив отчаяние, ощетинившаяся воля в желании, обречена будет искать встреч с агрессией, чтобы начать действовать и изменять существующее. Так, в истечении переживаний множественных индивидов, доходящих до агрессивных актов, выражается самая массовидная форма агрессии, которая в очертаниях века предстаёт как обыденная. В совокупности именно такого рода единичных актов, ведущих к выбрасыванию отрицательных энергий, и будет ощущаться общая аура Века агрессии.
В единстве и развитии с аурой борения, определяемых в этом ключе данностью сознаний и действий, Век агрессии в совокупности своих сторон предстаёт устойчиво как рост отклоняющейся повседневности в сторону раздражительности, отчаяния и зла на пути к свершению агрессии. Усиление названных начал на такой основе будет означать, что агрессия есть куда расти в свой век, имея для этого собственную почву субъективности, как части бытийности, на которой чувства могу брать вверх над рацио.
В таком понимании субъективное бытие Века агрессии с множественным индивидом как главным персонажем, станет краеугольным камнем наших размышлений, как бы мы от него не отдалялись, и как бы не стали интерпретировать частные вопросы для их понимания. Когда речь, скажем, пойдёт об общем и частном в различении чувств и мыслей или политической агрессии, с развязыванием войн. Здесь важно и то, что содержание субъективного бытия, его изменения помимо поведенческих актов, также схватывается в основных понятиях. Это означает, что такие понятия как «агрессия» и «повседневность» сближаются и подходят к границам понятия «агрессивная повседневность». Данные положения призваны указывать на общую направленность и тенденции. Но в коей мере они также могут говорить о векторе движений жизненных процессов, о тональности различных событий и пр.
Однако, не смотря на сказанное о Веке агрессии, остаются многие вопросы, требующие разъяснений, прежде всего в отношении агрессии вообще. Так, почему погружение явлений в повседневность становится отклоняющимся не только в самом широком, всеохватном понимании, но и как таковое в смысле зла. А наполнение и единение частиц зла в мире людей, ведёт к усилению зловещей плоскости бытия. Ведь такое было и в прошлом, есть и в настоящем. Почему же рождённые чувствами и мыслями потоки вражды и насилия, гневливости и безрассудства, злости и раздражительности, нападок и разрушений обретают в общей заданности устойчивость постоянных сил и становятся интегральными свойствами Века агрессии. При том, что в условиях господства личностных чувств и мыслей, они могут иметь уже различные смыслы и значения в поведении множественного индивида, перебирающего жизненные ситуации и свои возможности.
Ясно, что образующим действенные начала, и смещение различных сторон жизни и поведения, и в целом оформляющим и выражающим сам век, будет агрессия. Но и агрессия же ведь всегда была. Видимо, происходит что – то другое, сущностное в становлении Века агрессии, и это должным образом определяется как суть изменений воспроизводимости самой агрессии в значении века, в единстве с различными силами. Это будет самой общей постановкой проблемы Века агрессии, требующей также разработки путей достижений и выявления действий различных переменных и механизмов. Поэтому в своей целостности агрессия будет в первую очередь рассматриваться как социальный и психологический феномен – предмет внешнего наблюдения и исследования. Ибо особенность такого феномена во плоти имеет в развитых формах чёткость субстанционального существования агрессивного.
В то же время видимость сущности агрессии, как основы явления, скрытно, оно не является очевидной, ибо агрессия сама по себе есть ноумен – предмет чистой мысли, когда сущность постигается умозрительно. То есть, извлекается метафизически и разрабатывается как субъективная сущность агрессивной мысли, как то, что есть изначально в авторских видениях и подлежит чаще всего уточнению и развитию. Однако в своих грубых формах сущность признаётся как причина, то, что порождает агрессию, и как свойство, то, что является атрибутом и характеризует агрессию в её проявлениях. Изучение агрессии на основе названных факторов давно уже стало традицией и имеет своих именитых авторов.
Но при всём этом актуальность момента связана здесь будет не столько с названными формами сущности агрессии, и тем более с авторскими разночтениями, а с метаморфозами сущностей агрессии. Обретения ими новых смыслов и значений, с чем во многом мы станем связывать понимание и рассмотрение Века агрессии. Ведь именно они (разветвлённые сущности) по существу обуславливают в агрессии качественную и количественную определенность и делают её в настоящем образующей Век агрессии. Разговор обо всём этом будет ещё впереди, вначале скажем об общем раскладе теоретизирования, о том, как это нам видится.
Итак, зачтём, что агрессия принадлежит как миру явлений, так и как миру сущностей, основы явлений. И в такой данности и метафизической определённости она интересна в первую очередь поведенческим наукам и философии, а в контекстах века интерес будет совместим и станет шире за счёт социальной психологии и права. Если же мы признаем нарастание Века агрессии драмой человечества, и станем использовать художественный метод познания, то вполне оправданным будет в развитии возможностей «художественности», представлять агрессию и в качестве реального персонажа в мире людей, и глобального – в контекстах мировых событий. Тогда речь может идти и о всепожирающей агрессии, которая в свой век грозится «дорасти» до масштабов и основательности действий, весьма опасных и непредсказуемых для человечества. И это быть может ядерная война, которую допускают политики. Сама природа и особенности развития агрессии ныне служат тому порукой и делают такое практически возможным. Поэтому интерес к феномену агрессия как к тому, что было всегда (вечно пребывающая агрессия), к тому, что есть – агрессия как образующая век, и к тому, что ещё будет (продолжение или завершение Века агрессии), имеет весьма широкие полномочия и перспективы. Причём важно будет в Веке агрессии видеть как прошлое, так и будущее агрессии. По своему интересен будет и событийный ряд в «Ядерном клубе», где агрессия сама по себе предстаёт действующим персонажем. Для этих и сопутствующих целей разрабатываются аналитические понятия, привлекается образ вечно пребывающей агрессии, а также предлагаются аргументы и авторские суждения.
Мы станем исходить из того, что Век агрессии как он есть в своей действительности – это жизненные миры и множественные сознания, в которых наличествуют характерные поведенческие действования во зле, устойчивые в вековом измерении. Зло в тандеме с агрессией как персонажем повсеместно одерживает вверх, вытесняя добро от насущных дел; и если добро ещё сохраняется, то скорее всего для досужих разговоров о благе. Практикующее сознание не может не исходить из этого, воздавая должное агрессии в массовом порядке.
Обретение агрессией смыслов, значений и силы образующей век, закрепление её маркирующей роли в жизненных мирах, происходило в результате многих профильных изменений социального и психологического порядка. Одновременно имело место укрепление силы агрессии в политике и ослабление роли международного права. Всё это приводило повсеместно к установлению всевластия агрессии и безнаказанности агрессора, воцарению агрессивного климата и настроя. Как и того, что в результате усиления криминала и коррупции, наступления крайней бедности в жизни людей, происходила смена обиды, тревоги и страха на агрессивные чувства, активизация зависти, замалчивание и устранение стыда и совести, что не могло не вызывать агрессивные мысли и действия. Отсюда Век агрессии в своей целостности предстаёт уже как мир чувств и мыслей, действий и поведенческих актов, выражаемых и выстраиваемых в конструкциях и контекстах агрессии. А это уже характеризует массовость агрессивного образа жизни людей, их коллективные представления и мыслеформы, отвечающие существованию Века агрессии. Когда всё тело общества может приходить в возбуждение особого свойства, и это свойство есть не что иное как готовность нападать, чтобы разрушать. Свидетельством тому будет также массовое возрастание речевой агрессии на опережение на всех уровнях жизнедеятельности.
Но что всему этому предшествует и способствует? Как надо понимать само бытие Века агрессии? Какие видоизменения в жизни людей, в их чувствах и помыслах к этому привели, и как по – новому стали складываться отношения и связи агрессии с человеком? Почему жестокое агрессивное действие становится устойчивым ядром агрессивного поведения, а совесть при этом безмолвствует? Почему международное право не работает должным образом и пасует перед Большими государствами? И, наконец, чем может завершиться такой век? Будет ли он иметь своё продолжение или завершится, и каким образом будет не сложно догадаться.
Эти вопросы постановочные, они указывают на существование горизонта, отграничивающего область незнания от знания. В наши задачи входит осветить сколько – нибудь поставленные вопросы, доведя их до постановки и рассмотрения вопросов о полях, поэлементных состояниях Века агрессии. Например, агрессивные чувства достаточно самостоятельны и значимы, чтобы рассматривать их как поле Века агрессии. Также поясним, что поставленные вопросы призваны объемлить бытие Века агрессии, поэтому ответы должны привести к пониманию и истолкованию смысла его бытийности, где определяющими станут поля агрессии, поля нападок и сражений. Однако вначале мы лишь коснёмся предлагаемых ответов и наметим основные направления к агрессивным полям.
Общим местом для понимания начал Века агрессии будет то, что мир стал окончательно превращаться в хаос и разнобой. И всё потому – что по большей части сталкиваются интересы людей сами по себе, практически без всяких соответствий разумному, без каких – либо на то возможностей и обоснований. Установка «иметь» и «преуспеть» довлеет над человеком, определяя агрессию как необходимую составляющую всей личной жизни. В мире таких жизненных ориентаций агрессия может только усиливаться и как единое, действенное в многообразии, и как видовое единство в своём множестве. Но сам Век агрессии, который мы станем обрисовывать не только как глобальное явление, наступает уже в результате структурных сдвигов универсального порядка в едином агрессии. Это разрушает устойчивую архитектонику человеческой агрессии, которая складывалась веками, и продолжает включать такие переменные как инстинкт, желание, интерес, воля, аффект и защиту. Структурные сдвиги, о которых мы ещё будем говорить, вовлекают в производство агрессии энергии, которые ранее не использовались и те, что стали вновь возникать в обществах хаоса. Так трансформируется агрессия в своём многообразии и множестве, и так она становится «вровень» с названными переменными, и уже как активное начало может определять поведение человека сама по себе. Это основной критерий, признак по которому можно будет судить о становлении и бытии Века агрессии, который говорит о возрастании властвующей роли агрессии в поведении человека.
Для представления элементов Века агрессии в целостности и единстве, мы станем привлекать различные контексты и понятия. Их можно уподобить множеству фрагментов, своего рода пазлам, собрав которые можно получать картинки проблемных полей Века агрессии. Ибо в контекстах важно будет различать смыслы и значения, которые позволят структурировать и поэлементно описывать поля Века агрессии. Что касается роли человека то подчеркнём одну мысль, то, что раньше знали, могли и имели лишь немногие, теперь могут знать и желать иметь многие. Такие коллективные представления вызывают обеспокоенность, тревогу, напряжённость и агрессию в элитарных кругах, а в массах – готовность быть агрессивными.
Мы подошли к тому, чтобы сказать о самой агрессии как таковой. Какие понятия и связанные с ними контексты станут её выражать? Как они предстанут и что мы можем поместить вначале? Конечно, справедливо будет начать с того, что агрессии как таковая есть сама по себе, как и то, что она остаётся тайной и вечно пребывающей агрессией. И это будет скорее метафизический расклад, предполагающий философский контекст. Но в реальной действительности важно различать агрессию – феномен, и она может быть каждый раз представлена как явление и событие под своим «именем». Здесь следует говорить о социально – психологическом и политико – правовом контексте. Для научных целей необходимо будет уже обосабливать агрессию как исследовательскую материю, и это будет уже дискурсивный контекст. Контексты такого рода станут частью нашего исследовательского проекта.
Представленные понятия и контексты в рассматриваемых аспектах связаны между собой, они могут по смыслу входить одна в другую, выражая сущность агрессии. Однако всё это будет актуально и иметь значение, если данные понятия послужат нашим целям – пониманию Века агрессии как тотального врастания агрессии в мир людей, их образ жизни, разум и волю. Это когда во многих людских отношениях складывается и прочно устанавливается активное начало агрессии, что предполагает усиление самого феномена агрессии во множестве, которое достигается в результате изменений вечно пребывающей агрессии, а также причинно. Так или иначе эти процессы могут находить своё отражение и развитие в исследовательской практике агрессии, и подвергаться со временем материализации.
Исследовательская материя агрессии о которой теперь пойдёт речь, стала возможной в результате освоения «территории» первых двух видов агрессии, когда мысль вторгаясь в их пространства, делала неизведанное изведанным и представляла всё это в активе как формализованное знание. По мере укрепления исследовательской части атаки на неизведанное стали носить всё более задаваемый характер, что представляется не всегда эффективным для освоения новых территорий, особенно когда речь идёт о вековой значимости агрессивного. Ибо такая повторяемая соразмерность в действиях могла умалять то прорывное в понимании агрессии, которое сегодня может быть обеспечено сочетанием научных методов с художественным, что и было вначале, и находим мы это в работах З. Фрейда. Поэтому сообразуясь со сказанным упор будет сделан на научные разработки, касательно агрессии, на то, что мы назвали исследовательской материей, в сочетании с методами и особенностями художественного познания.
Материя агрессии в исследовательском плане могла бы быть представлена в двух частях, исходя из внутреннего характера, когда, в одном случае, решение проблемы связано как с особенностями наблюдателей (участниками исследований), так и исследователей; а в другом – по большей части с авторскими размышлениями и предметом. Над обеими частями по многом представлениям, ставших традиционными, должны будут возвышаться классические теории первопроходцев. Наш подход будет связан со второй частью – он плод авторских размышлений, с использованием различных истоков, имеющих как прямое, так и косвенное отношение к агрессии.
Обе части в статике предстают как опыт «исследованной агрессии», которая будет исследовательской материей, потому что здесь мыслительные процессы (субъективное), воспринимаются опредмеченными в результате объективации. При этом условность и предположительность выбора станут указывать на то, что границы между частями не жёсткие, и что выделенные части «подвижны», они могут пересекаться и взаимно дополнять друг друга. И что объективации субъективности происходили, в том числе, и на границах этих частей. Но вовлекаясь в новые мыслительные процессы объективации подвергаются вновь субъективности, что должно вести к обогащению проблематики агрессии, к постановке и решению новых задач. От того насколько успешно и динамично осуществляются мыслительные процессы «субъективного» и как протекают «объективации» будет зависеть степень разработанности проблематики агрессия. Именно так происходит обогащение территории и расширение исследовательской материи агрессия, к чему и мы хотели приложить свои усилия.
Теперь о самих частях. Выделим вначале фактическую часть, то, что было исследователями установлено в результате многих экспериментов и опросов, а потом документально «оприходовано» в положениях, «питающих» теории агрессии. Отличительным здесь будет то, что в основе таких действий лежит идея инструментальности, предполагающая разрабатываемую методику, которая позволяет формализованными путями выходить на результаты. Однако сама по себе фактичность результата работает в основном «одиночно» и на короткой дистанции, она в настоящем может объяснять какие – то нюансы, быть может даже далёкие от закономерного в агрессивном поведении. Но эти же россыпи «исследованной агрессии», взятые уже во множестве и под определённым углом, могут говорить не только об устойчивости агрессивного, но также свидетельствовать об активизации изменённых состояний агрессии, связанных с всеохватностью, и в таком качестве представлять интерес для более широких обобщений.
Среди авторов внесших вклад в изучение агрессивного с позиций фактичности и документальности, следовало бы выделить американского психолога Леонарда Берковица (1926 – 2016), чьи полевые исследования агрессии получили распространение и стали научным образцом. В его работах фактичность представлена буквально «на каждом шагу», опоясанная теоретическими выкладками. Но превалирует всё же какая – то документальность и сухость изложения. Берковец педантичен, он во всём желает подтвердиться и быть лаконичным, иногда и умаляя прорывное, то «не фактичное», что также должно присутствовать в теоретических суждениях.
Вторая часть из того, что было определено как «исследовательская материя агрессии», и можно сказать, что исследовательские практики – это, главным образом, авторские размышления о предмете, основанные на литературных источниках, но здесь должны быть и собственные взгляды, представления автора, данные в развитии теории агрессии. Сюда отнесём традиционные психологические представления, по большей части осмысленные в философских категориях, и те суждения, которые послужили развитию теории, объяснению актуальных аспектов агрессивного поведения. В этой части следовало бы назвать такого автора как Ролло Мэй (1909 – 1994), видного представителя экзистенциальной психологии. Мэй многокрасочен, его суждения много шире фактичности, которые к тому персонифицированы и наблюдаемы автором личностно.
Особый вид исследовательской работы – это написание и подготовка учебной литературы, в которой традиционно устойчивое приветствуется при дозированном изложении нового. Но соавторы книги «Агрессия» Роберт Бэрон и Дебора Ричардсон смогли так удачно сочетать традиционное и новое, фактичность и авторские оценки, что мы решили сказать о них в этой части. Действительно, им удалось систематизировать многие знания по агрессии за длительный период, и не без собственных рассуждений, изложить их в известном в своём учебном пособии. Вот такой мы смогли увидеть исследовательскую материю агрессии в целом и в обеих частях, и кратко обрисовать их задаваемость, то, что уже есть и может нам послужить.
Однако мы также должны будем заметить, что в данных текстах познавательных частей, и в фактической, и построенной на размышлениях, не ставится проблема Века агрессии. И не потому, что она не созрела. Ведь сами накопленные знания свидетельствуют об обратном. Они предметны и основательны во многих отношениях, и в том числе могут так или иначе предполагать ответы на вопросы: «как стал возможен Век агрессии», «какие были тому основания и предпосылки», что в коей мере должно быть представлено и в наших дальнейших рассуждениях о Веке агрессии как о реальности. Когда и само понятие «Век агрессии» стало с необходимостью выражать эту реальность как назревшую и актуальную.
Выражать то, что агрессия как крайняя форма проявлений вражды и негатива утвердилась в мире, и что она стала ожидаемой во всех сферах жизни. Без агрессии не обходится никакая политика. Без неё невозможно себе представить и криминал. Агрессия заняла устойчивое место в СМИ и в искусстве. Теперь она во многом занимает человека, когда и сами чувства следуют уже проторённой дорогой к ней, не дожидаясь особого случая. И тогда следует признать, что агрессия смогла также объединить многие чувства, подчинив их себе. И что такая агрессия будет успешно противостоять разумному началу и подавлять мораль. В таком понимании Век агрессии будет о том, что агрессия как утвердившаяся установка по жизни смогла прочно обосноваться в границах человеческих отношений. И что она готова не столько защищать, а сколько нападать. Так, утверждается новый онтологический статус агрессии, в котором она всё более перерастает свою «одноактную» причинность, оставляя её как таковую. Агрессия идёт к реалиям, чтобы стать самодовлеющей, подчиняя в отдаление волю и разумение.
Намечая первоначально такие черты в характеристике Века агрессии, мы станем его обрисовывать как всеобъемлющий объект, доступный познанию отдельными дисциплинами лишь фрагментарно. Ибо такую многомерность можно будет целостно охватить лишь философским взглядом, сущностно, используя при этом психологические, политологические и правовые инструменты. Ведь философ, исходя из очевидного, может и должен постигать высшие смыслы, всесторонне представляя развитие явления. И это будет уже философия о вечно пребывающей агрессии, о её метаморфозах, чреватых рисками для человечества и самой агрессии.
В постижении сущности агрессии могут быть использованы метафорические образы, что также должно способствовать в целом философским пояснениям составляющих века агрессии, а именно, содействовать выявлению сущностных смыслов чувств и мыслей, поведения и действий. Наш подход будет основываться на этих положениях, что в целом предполагает авторские размышления в области традиционных знаний агрессии, и те суждения, которые могут послужить пониманию метаморфоз агрессии, приведшие к всеохватности и всесилию власти агрессии в мире людей. Но это должно быть и «прорывное» в понимании природы самого Века агрессии, его состояний и что он несёт человечеству.
На этом пути следования следует наметить два основных маршрута, «отправные точки» следования. Это маршрут, ведущий к Веку агрессии, чтобы понять сам процесс вхождения в него. И маршрут на путях прорывного, в объяснении самой природы Века агрессии, отличительных черт и механизмов вековой значимости агрессии.
Итак, что будет отправной точкой размышлений о путях, ведущих к становлению Века агрессии? Будет ли это всеобъемлющая причинность, делающая агрессию всеохватной, сюда же можно было бы отнести и возобладание устойчивости механизмов самовоспроизводства агрессии, усилившие её самостоятельность и значения в жизни людей. Или это будет устоявшаяся мода на агрессию, когда установка на непомерное возрастание индивидуалистических устремлений в утверждении Я, усваивается во множестве агрессивного. Ведь не факт, что мы можем заимствовать сам дух агрессии, её образцы из нашего окружения, из СМИ, фильмов, романов и пр. Так что мода на агрессию как следование тому, что принято и дано в хождении могла бы иметь свой резон.
Но будет ли такой отправной точкой фактичность агрессии, поддающаяся собственной логике развития? Или это будет сама по себе агрессия, имеющая тенденцию к расширению за счёт своих составляющих: агрессивных чувств, мыслей, действий и поведения? Когда выражающее их слово создаёт бытие агрессивного мира, создаёт агрессивный мир, в основе которого быть может только вражда и разрушение. Поэтому было бы неверно не назвать здесь нависающую над человечеством тотальную агрессию, связанную с применением ядерного оружия во имя амбициозных свершений, и о чём всё настойчивее стали говорить политики, нагнетая непомерные страхи о неизбежности ядерной войны. Таковыми будут отправные точки о путях, ведущих к веку агрессии.
Теперь таким же образом можно попытаться определиться и с тем, что будет отправной точкой размышлений уже о самом Веке агрессии, который, судя по всему, наступил. Будет ли это та новая реальность, когда агрессия скорее «ведёт», а не «следует»? Когда агрессия не является только в состоянии аффекта, и не является только по воле субъекта, а в коей мере выступает вместе с субъектом, творящим агрессию. Произойдёт ли это по результатам изменённых состояний агрессии, или такой результат будет связан с сущностями агрессивных явлений, которые длительное время откладывались в мире людей и материализовались как агрессивные сущности? И что именно эти сущности обрели силу воздействий на человека, аккумулировав полноту агрессивных практик и став надличностными сущностями сознания. И что они реальны в своей действительности, а не служат символическими обозначениями.
Поэтому в субъективном плане Век агрессии следует рассматривать прежде всего как «постижимую реальность» в категориях вражды и зла. Это мир желаний и страха, находящихся под воздействием агрессии. Здесь агрессия ожидаема и проявляется не только сама по себе по ситуации. Она действенна и опытом сознания «как быть агрессивным», что надо «следовать агрессии», где всё это задают по большей части агрессивные сущности. Вот те отправные точки маршрутов, каждая из которых могла бы вывести на предметное размышление о Веке агрессии, размышления о путях, ведущих к нему.
Вместе с тем сразу подчеркнём, что наши размышления не связаны лишь с выбором одной отправной точки, как можно было это уже понять, и с каким – то одним маршрутом. Мы шли «наступая» и «отступая», полагая, что все выделенные точки так или иначе находят своё место в актуализации агрессии, а их смешивание, так называемый замес, связан будет уже с глобальным эффектом, свидетельствующим о вхождении в зрелый Век агрессии. Поэтому на данный момент речь может идти лишь о смещающихся акцентах, которые нагляднее будет выявлять и ставить уже в ходе размышлений, а не говорить об этом поначалу. А пока, чтобы начать движение обговоренных основ плана, назовём первопроходцев, которые закладывали основы теоретизирования агрессии, сделав возможными в том числе и наши размышления о Веке агрессии. Кто они?
Тот, кто хорошо знает литературу по агрессии, знаком с классическими работами, может сразу назвать их, именитых в своих областях теоретиков. Это в первую очередь З. Фрейд (основоположник психоанализа), К. Лоренц (основоположник этологии) и Э. Фромм (основатель неофрейдизма). Их вклад в разработку теории агрессии был во многих отношениях побудительным и отправным. Так, Фрейд вскрывает тайны агрессии, связанные с «неорганикой», Лоренц показывает инстинкт как корневое агрессии в животном мире, а Фромм по большей части обозначает социальное и политическое как важные составляющие агрессии. Сегодня, когда имеются различные другие теории, они остаются полноправными и действенными участниками исследовательских работ. Ведь новые теории агрессии не могли и не возникают без того, чтобы не вступить с ними в полемику и не обозначить своё отношение к их идеям.
Основной вопрос на который традиционно ищут ответ исследователи связан с истоками и причинностью агрессии, с кводдитостью как корневой причиной – используем в нашем контексте термин Владимира Янкелевича, автора книги «Смерть». Действительно, почему агрессия есть всегда, какие причины её вызывают и обуславливают? В качестве ответа первым делом называют инстинкты и враждебную политику различного рода групп, объединений, сюда входят и государства. За ними следуют изъяны (конфликты) социальной жизни. Имеются также прорывы в изучении организмической причинности (биологических составляющих агрессии) и выявлении генетических особенностей (обуславливающих агрессию наследственно). Мы обобщили и тезисно высказались о наиболее устойчивых представлениях. Попытаемся теперь всё это понять как некую связность эволюционного развития и сжато пересказать опять же в нескольких строках. И начать обосновывать своё видение природы агрессии как вечно пребывающей и выражающей себя в изменённых состояниях.
Пращур, древний предок человека, имел необходимое для существования и развития, в том числе и агрессию как инстинкт выживания. И всякий раз борясь с опасностями, имело ли это место при нападении или защите, агрессия могла во имя непосредственно самой жизни, неосознанно (реактивно) задействовать все силы. В такой неизменности агрессия представала на ранних этапах эволюции. Но по мере нарастания цивилизационных изменений, расширения сознания человека, развития чувств и мыслей, усложнения коллективных форм жизни, агрессия могла активизироваться и усложняться в свою очередь, принимая блуждающий характер. Вот тогда – то при наличии возрастающих интересов и желаний, агрессия стала целенаправленнее окрашивать чувства, пробуждать мысли и придавать действиям разрушительный характер. В таком раскладе инстинкт агрессии мог ослабевать, а сама агрессия выступать уже по большей части как социализированная сила, согласующееся с волей. Агрессия, «вместе с человеком» перемещается из мира, где господствовал хаотичный случай и действовали иррациональные силы в социальный мир, ядром которого является рациональный выбор. Так агрессия, будучи природной составляющей человека, устойчиво предстаёт в социальном мире уже действенной частью зла, наделённой свойствами и чертами личностного порядка.
Здесь социальное в противоположность до социальному, природному, определяет качественно новый уровень в отношениях, когда совместная жизнь людей задаётся набором институтов, культурных норм и ценностей, необходимых для сохранения её как целостности. Можно сказать, что в отношении к человеку социальное как целостность выступает материей, которая «окутывает» людей и задаёт им свойства, востребованные обществом. Человек с необходимостью овладевает этими свойствами, чтобы соответствовать общественной жизни. Однако выбор целей и достижительных путей – принадлежат уже человеческой субъективности. Встречающиеся трудности и сложности на пути, их преодоление, могут порождать импульсы агрессивности личностного порядка.
Субъективная агрессивность, обусловлена социальностью, она есть продукт совместной жизни людей, их взаимодействий, в которых утверждается Я человека, достигаются цели, удовлетворяются желания. Эти процессы протекают многопланово и в противостояниях. Они становятся далеко не безоблачными, когда возникают агрессивные чувства и мысли, ведущие к агрессивным действиям. Как единица агрессивности, личностная агрессия, в отличие от военной (множественной агрессивности), которая осуществляется одним государством в отношении другого государства, имеет место быть в обществе. Такая агрессивность, как правило, бывает характерна для индивидов, но её могут выражать также лидеры группы, состоящие из нескольких человек.
На этом метаморфозы субъективной агрессивности, выражающие сущность агрессии социального порядка, конечно же, не заканчиваются. В дальнейшем о таких метаморфозах мы станем уже обстоятельно говорить в контекстах самой по себе агрессии и как таковой, рассматривая по большей части предпосылки и механизмы становления Века агрессии.
Однако вопрос в том, можно ли будет с имеющимся багажом знаний и общих представлений, почерпнутых из истории развития агрессии, отправляться в новый путь, открывать другие аспекты, связанные с изучением Века агрессии? Полагаем, что да, но при условии упорядочения этих знаний на определённый лад и дополнения «багажа» новыми представлениями. Мы нисколько не оспариваем справедливость названных детерминант агрессии и видим в них устойчивые представления и смыслы. Что касается понимания связности и метаморфоз агрессии, то пусть это будет неким ориентиром на нашем пути. Вместе с тем согласимся, что проблематика Века агрессии потребует иных подходов, связанных с выявлением механизмов, которые обусловили переход агрессии в новые изменённые состояния, характеризующие собою целый век. Как к этому подступиться, с чего начать, а главное, как определить характерное в становлении Века агрессии?
Для начала оставим на время проблематику причинности агрессии и сосредоточимся на образе агрессии в целом, чтобы мысленно представить себе как вечность существования агрессии, так и изменённые состояния агрессии. Это должен быть образ – представление, символически олицетворяющий изменённые состояния как непременность вечного. Такой образ будет содержать в себе те постижения и смыслы, которые станут говорить о вечности существования агрессии и непременности её изменённых состояний в веках. А в своей основе выражать саму разрушительность как ядро агрессии, вобравших черты, которые были устойчивыми во все времена, являясь атрибутом вечного и изменённых состояний.
Здесь устойчивость разрушительного в веках должно говорить о вечном существовании агрессии. Устойчивое же проявление человеком агрессии – свидетельствовать о таком характере как агрессивность. В силу таких представлений говорит то, что человек меняется, изменяется его агрессивность, что не может не вести к изменённым состояниям в целом агрессии, выражающих её место в мире людей. Можно сказать, что агрессия, оставаясь вечностью как данность природы, будет изменяться прежде всего в связях с действиями и поведением людей. Выразить и представить подобное возможно будет лишь в образе «Человек агрессивный», оставляющий место и для предвидения событий, связанных с всевластием агрессивности в Век агрессии. Ибо свободное шествие по миру всевластной агрессии (агрессии для себя) чревато тотальными последствиями для человечества. И здесь впору будет говорить о вселенском пожаре.
Во многом подобные постижения, претворяющие агрессивность человека в символах вечной агрессии, мы находим у Освальда Шпенглера (1880 – 1936), автора знаменитого труда «Закат Европы». Шпенглер не входит в число теоретиков агрессии, и у него нет, насколько мы знаем, специальных работ в этой области, но ему принадлежит одно образное постижение, которое позволяет извлекать и строить уже соответствующий образ – инструмент. Это, как будет показано, даёт возможность схватывать предметность человеческой агрессии, использовать и развивать её в системе различных знаний, начиная с философии. Сам же Шпенглер основывался на интуиции и прозрении, когда полагал, что человек, как искра пламени жизни, борется против холода (смерти), и что агрессивность есть его сущность.
Соответствующий образ мы находим у Ницше (1844 – 1900), но даётся он много шире, и в стихотворной форме.
Что меня породило? Пламя!
Ненасытная, веками
Ум и душу жгла тоска.
Свет – вот всё, что расточала!
Прах – вот всё, что оставляю!
Пламя я! Наверняка!
(Ницше, Ф. Стихотворения. Философская проза. СПб,, 1993.С. 270.).
Если согласиться, что такой образ претворяет сущностное, и агрессивность есть сущность человека во все времена, а человек – часть универсального пламени жизни, огонь же понимать как символ жизни и страсти, то и агрессия будет частью этого пламени. Ведь человеческая агрессивность понятийно и содержательно связана с агрессией как видовое явление с родовым. Отсюда мы можем полагать, что сама агрессия есть сущее, которая является частью бытия, находится, как бы, рядом. И что бытие агрессии есть его явление, агрессия бытийствует, то есть действует в соответствии со своим бытием, внемля причинности и воле, желанию и необходимости. Во всех этих случаях агрессия будет находиться в связях с агрессивностью как сущее с сущностью в аристотелевском смысле, когда сущность рассматривается как ключ к сущему. Но философы также говорят о сущности как субстанциональном ядре сущего. Общим местом здесь можно будет считать то, что сущность есть путь к сущему, что сущность представляет сущее, содержит главное в понимании сущего (то, что и есть сущностное) и даёт возможность его познавать. В таком случае агрессивность (сущность) будет ключом не только к пониманию социализированной (современной) агрессии, но ещё и способствует постижению вечной агрессии как сущего. Сама же агрессивность, если продолжить метафору с ключом, будет иметь четыре «бородки», выступающие как агрессивное чувство, агрессивная мысль, агрессивное действие, агрессивное поведение. Вот в такой связности видится вечная агрессия с социализированной агрессией и её составляющими. О понятийных связях агрессивности с вечно пребывающей агрессией, их интерпретации в развитии и изменённых состояниях говорит образ «Человек агрессивный».
Примечательно, что в Век агрессии связи эти усиливаются, в том числе, и за счёт агрессивных сущностей, которые в индивидуальных сознаниях предстают как надличностные сущности. В своей действительности они во многом оттесняют инстинкт агрессии и делают практически излишним научение агрессии в семье и соответствующих средах. Человек, впервые совершающий агрессивное деяние всё равно станет действовать умеючи. Ибо надличностные сущности агрессии не столько «внемлют», чтобы являться, а сколько наличествуют в коллективных и индивидуальных сознаниях, готовые ситуативно осуществляться. Они обогащают социализированную агрессию, которая была обретена индивидом опытно, и в целом расширяют пространство социальной агрессии.
Такие надличностные сущности, характеризующие Век агрессии, во многом стали «реальностью в головах», благодаря также «неустанным усилиям» масмедия. И здесь же поясним, что агрессивные сущности как сущности общего порядка, производные от выбросов агрессии в мире людей, есть сгустки, которые в своём единстве предстают сцеплениями информативных и эмоциональных следов от агрессивных чувств, мыслей, действий и поведенческих актов (образцов). В сознании людей они преобразуются в надличностные сущности агрессии, которые могут активизировать и направлять агрессивное поведение. Становление и усиление роли надличностных сущностей агрессии в мире людей рассматривается как важная составляющая и характеристика Века агрессии.
Далее, продолжая изначальную мысль, отметим, что агрессивность как сущностное в мире людей есть особенное, которая доведена до единичного (агрессивность как свойство личности), в то время как агрессия есть всеобщее, часть общего бытия. В такой последовательности вырисовывается образ вечно пребывающей агрессии, являющейся далеко не только по необходимости. Пребывающей, потому, что её вечность связана с пребыванием в жизни людей, и складывается из таких элементов как человек, агрессивность и пламя жизни. Здесь огонь – это особая метафора. Мераб Мамардашвили (1930 – 1990) в своих лекциях по античной философии поясняет, что огонь"есть состояние держания мира, усилие; оно пульсирует – исчезает, вновь появляется, поэтому миры мерно сгорают и загораются». Подчеркнём, что огонь исчезает лишь в своих прежних состояниях во вне, а не вообще.
Всё это не может не относится и к изменённым состояниям агрессии. Ибо без «огня жизни» нет агрессии вообще, а без метаморфоз агрессии – нет и «изменённых состояний». Принципиальным будет и другое. Пребывая совместно с жизнью агрессия усиливается, структурно изменяясь, и это также выражается в том, что она утверждается как важный параметр (величина) характеристики коллективного сознания. Такой образ может быть объектом обладания ума, а не объектом ощущений.1 Он постигается и запоминается в связности своих составляющих как некая история в развитии.
Образ вечно пребывающей агрессии как бы находится в подвижке, он каждый раз охватывает изменяющееся в отображаемом объекте, при сохранении сущностных основ жизни. Ибо меняется человек, ширится и растёт пламя жизни, если подразумевать под таковым, цивилизационные изменения и конфликты, а вместе с ними разбирается и расчленяется на многие виды сама агрессия. Но общая идея триединства агрессии сохраняется. Это своеобразный символ, выражающий принцип всеохватности, принцип всеединства, как взаимопроникнутости и разделённости составляющих, и принцип постоянства деструктивного действия в образе вечной агрессии. Они раскрываются как сущностные начала в развитии агрессии. В этой связи станем утверждать, что естественная потребность человека выплёскивать энергию, прилагать усилия к изменению жизненных условий, заметно стала сводиться к выплёскиванию агрессии. Это ли не говорит о веянии уже Века агрессии, о том, что усиливается пламя жизни, и вместе с ним растёт и ширится агрессия в мире людей. И что образ агрессии, отвечая реалиям жизни, должен также отвечать инструментальности. Поэтому в наших достижительных целях, связанных с концептуальными построениями Века агрессии, образ вечно пребывающей агрессии был принят за основу в целом. И развит в частностях, с различением агрессии как самостоятельной надличностной сущности в категориях чувственного и мыслительного мира.
В концептуальной схеме Века агрессии понятию «надличностные сущности агрессии», далее «надличностные сущности» принадлежит особое место и роль. В коей мере такие сущности могут быть сопоставимы с идолами сознания, если обратиться к терминологии английского философа Фрэнсиса Бэкона (1561 – 1626). Основатель эмпиризма так называл ложные понятия, которые пленили человеческий ум. А мы станем понимать под ними сущностные остатки агрессивных явлений, которые в своём единении возымели силу над человеческим поведением далеко не лучшего свойства. Правда, само словосочетание «надличностные сущности», а мы будем им пользоваться на протяжении всей книги, может вызывать возражения в силу ряда причин, в том числе и философского характера. Но если принять его как «неклассифицированный остаток» (как нечто неправильное), по примеру американского философа и психолога Уильяма Джеймса (1842—1910), который так обозначал новые поля для широких исследований, и начать его содержательно, на основе логических суждений, «доводить до правильности», и таким образом встраивать в проблематику агрессии, то можно будет получить инструмент для разработки как общих вопросов «возвышения» агрессии до значений века, так и проблем уже самого Века агрессии, связанных с протеканием агрессии, превалированием тех или иных её видов, а также и возможностями спада значимости агрессии.
Все эти вопросы потребуют основательной разработанности понятия «надличностные сущности агрессии». И тогда уже можно будет классифицировать надличностные сущности, скажем, по видам. Например, «слепленных» от национального характера, где будет превалировать этническая агрессия, или в зависимости от социо- биологических предпосылок, где от личностной агрессии следует ожидать физического насилия и жестокости в «чистом виде». Такая классификация уже в расширенном варианте позволит предметно разрабатывать видовые различия агрессии в общей проблематике Века агрессии.
Итак, предпринимая попытки доведения введённого нами понятия до «правильности», отметим, что надличностная сущность в сознании есть некий внутренний след (остаток от агрессивных практик). Как образование она не имеет никакого отношения к астральным сущностям, её происхождение носит вполне земной характер, связанный с природой человека, действиями людей во вражде и злобе. Это то, что сохраняется от содержания агрессивных действий, вобравших в себя сответствующие чувства и мысли. Они имеет место быть в индивидуальном сознании, в коллективном сознании, а теперь уже и в глобальном сознании. Для производства таких сущностей в первую очередь необходима как сама «материя» агрессии, так и доведение её до сознания людей. Иными словами, нужна агрессия, как событийный факт (основная материя), её освещение в СМИ (придание событийному факту коммуникационной силы), развитость всех уровней сознания и пр.
В своём единстве данные составляющие предстают как некий отлаженный агрегат по ускоренному производству агрессивных сущностей. Возможно, что налаживание масштабности такого производства и послужило в значительной мере наступлению Века агрессии. Во всяком случае с разработкой понятия «надличностные сущности» связывается понимание главного вопроса Века агрессии – вопроса задействования механизма воспроизводства агрессии как самостоятельной сущности. Ибо в своей действительности агрессивные сущности самостоятельны и могут моментально овладевать чувствами и мыслями, являясь образцом, примером для агрессивных действий и поведения. Тем самым они также множат и расширяют возможности потенциальных субъектов агрессии. Потому как эти сущности в основном не затрагивают волю и могут действовать по большей части самостоятельно, например, как микробы, они же не нуждаются в разрешении, чтобы заразить. Разница в том, что микробы могут заразить тело, а агрессивные сущности воздействуют на сознание. Здесь следует иметь ввиду и «встречное движение» – желания субъекта быть похожим на некий образец, который, собственно, и задают агрессивные сущности. Видимо, с этим будет связано ослабление роли причинности в агрессии и возрастание её самостоятельности. Но откуда сами сущности черпают образцы, и как они становятся надличностными сущностями? Рассмотрим эти вопросы подробнее.
Агрессивные сущности получают своё развитие на основе агрессивных практик, а также с помощью СМИ, которые их тиражируют и распространяют как «горячие» новости и авторских фантазий в художественных произведениях. Важно также иметь ввиду, что составляющие агрессии (чувства, чувствования и мысли), их замес и метаморфозы, образуют тот первичный (сырой) материал, который в общем потоке агрессии участвует в производстве агрессивных сущностей. Откладываясь в сознании, агрессивные сущности сцепляются между собой. Таким образом они становятся более устойчивыми и «зависают» уже как надличностные сущности (образцы агрессии), пополняясь извне агрессивными практиками на постоянной основе.
Так, в кругообороте и подвижке образ вечно пребывающей агрессии и встраиваемый в него уже в наше время инструмент «надличностная сущность» предстаёт как целостность для объяснения и обоснования общих идей и разработок о Веке агрессии.
Обогащённый новыми представлениями образ вечно пребывающей агрессии может рассматриваться и как общий путь в достижении поставленных целей. В предметном плане это даёт возможность нацеливать его (образ) на осмысление агрессии в своей целостности, на воспроизводимость и постоянство её сущностных и поведенческих моментов. А главное, позволяет помыслить о том, что агрессия органически связана с жизнью, она насыщается ею, видоизменяясь и обретая новые формы. Агрессия этим сильна и искрометна, поэтому побороть её можно лишь погасив пламя самой жизни. Иными словами, агрессия неискоренима, она бессмертна, пока есть сама жизнь, но, правда будет и в том, что без агрессии жизнь не жизнь в своих началах и открытости.
В свою очередь метаморфозы агрессии, представленные как разлетающиеся искорки пламени жизни, могли бы дать нам понимание единичной и множественной агрессии, и связанных с ними проблемах. Ведь искорки сами по себе могут больно жалить в повседневности, и здесь мы имеем дело скорее с межличностной агрессией, но также верно, что от искры возгорается огромное пламя. Это может быть пламя войны и различных массовых выступлений, и тогда речь может идти о множественных формах агрессии вплоть до глобальной.
Но так ли всё происходит, как было нами расписано, и даёт ли пламя жизни свои искорки в виде агрессивных выпадов, делает ли она это неизменно? То есть, возобновляется ли она постоянно, в своём единении с пламенем жизни? Мы попытаемся обрисовать это в своих доводах и суждениях, и речь пойдёт в широком плане о составляющих агрессии в их сущностных проявлениях. На пути наших изысканий, мы будем иметь в виду образные постижения агрессии Шпенглером и наши добавления к нему, как образу вечно пребывающей агрессии, и в заключении покажем, насколько это оказалось действенным для концептуальных построений Века агрессии. А пока подчеркнём то неизменное, что агрессия как таковая всегда была присуща миру людей, человеческим отношениям, и проходила в своей действительности как действование, сопричастное злу и вражде. Развиваясь так по своей природе, она могла проявляться во взаимоотношениях отдельных лиц и групп людей, выражаться в действиях беспорядочной массы, быть частой или не частой в своих знаковых формах, таких как война, восстания, революции и терроризм.
В то же время заметим, что с агрессией никогда не связывали сущностное понимание века. Даже во времена длительных и кровавых войн она не характеризовала век как целостность, не была его собственным именем. Почему же сейчас мы заговорили о Веке агрессии? Что изменилось в мире людей и в человеческих отношениях? И что нам прежде может сказать наша повседневность, богатая на агрессию и насилие? Говорит ли она об изменениях природы человека, его ожесточении, и, как следствие, увядании социальности, или есть что-то иное, нам пока неведомое?
Для наших целей насущным будет то, как агрессия смогла оттеснить все другие виды действования и стать определяющей в характеристике века? Как в своей действительности она смогла стать актуальностью зла и вражды? Какие механизмы обеспечивают тандем общественного и личностного в агрессии? И не происходит ли такое потому, что уже не столько интерес, и не столько необходимость защиты, а сколько злая воля побуждает и активизирует агрессию. И что множественность таких выпадов усиливают власть самой агрессии, делают её самостоятельной силой вопреки человеку. И здесь нельзя не выделить роль СМИ как невольной обслуги злой воли и расширения тем самым агрессивных сил в обществе. Наконец, если правда, что миром правит необходимость, то сближение агрессии с ней делает её сильнее человеческой воли, ибо, как говорили древние, перед необходимостью преклоняются даже боги. И тогда уже воля скорее станет служить агрессии, при остаточном влиянии личностного (желаний и намерений).
К постановке вопроса о возрастании роли агрессии в таком ключе, того, что способствовало её становлению в значении Века агрессии и было вызвано усилением пламени жизни, образно говоря по Шпенглеру, мы пришли не сразу. Вначале был интерес к агрессии как таковой, и это вылилось в исследование ряда содержательных вопросов, связанных с определением природы агрессии как действования и выявления её связей со смежными чувствами. Выделялась также роль мыслеформ как силы мыслей и воображений; рассматривались и внутренние силы, ответственные за агрессию. Все это едино совмещалось и целостно выражалось в соответствии с традициями понимания агрессии как формы человеческого поведения, где фактическое содержание определяют нападение и насилие. Но фактичность сама по себе ещё не объясняет агрессию, она по большей мере указывает на её наличие, вид, сферы проявления и рост. Действительная же природа агрессии не проясняется, ибо она могла бы быть познана исходя из неё самой, априорно. И здесь следовало начинать с вопроса существования агрессии, с вопроса о том, что она есть как таковая и как она могла развиваться при любой цивилизации и в каждом обществе.
Поиск ответов заставлял выходить за границы традиционной причинности и взглянуть на явления шире. Да и по мере накопления совмещающего материала и утверждения традиционного постижения агрессии как атакующей силы «во имя чего-то», приходило понимание того, что агрессия есть нечто большее, чем «нападение» по чьей-то воле. И что агрессия как объективная и стабильная сущность не есть только «начало», что в своём развитии агрессия смогла даже стать чем-то «для себя». Такое происходило потому, что агрессивное в мире упростилось до обыденности, и агрессия смогла утвердиться в своём новом качестве всеохватности и устойчивого самовоспроизводства образцов агрессивности. Мы видим, что дружелюбная сторона жизни теснится и сокращается как «шагреневая кожа», в то время как агрессивность возрастает. Она растёт в своих мягких формах, как напористость, и в жёстких формах, как насилие. Эти действия вседозволенности в людских связях и отношениях и есть реальные признаки Века агрессии.
Ныне агрессии, противостоящей миру людей и развитию культурных связей, отводится гораздо больше места как силе разрушающей и утверждающей. Именно такой агрессии отвечают устремления индивидуализированных сознаний быть агрессивным или по меньшей мере казаться таковым. Отсюда можно было бы предположить, что агрессия стала ответом на любой «неудобный» вопрос, и что она есть способ разрешения проблемы всякого уровня. Однако это не совсем так, ибо решается не сама проблема, а лишь демонстрируется всё утверждающая и разрешающая агрессивная сила».2
Следует понимать, что такие упрощённые до обыденности практики делают устойчивыми множественность форм агрессии и доводят в целом существование агрессии до характерных значений и черт века. Соответственно, велик и диапазон проявлений. Агрессия проявляется как должное в частных повседневностях, в семейных распрях, но она также служит способом решения межгосударственных конфликтов. Философы всё это уместили бы в одной фразе, отметив непомерное возрастание онтологического статуса агрессии, что несомненно объясняет и наступление Века агрессии.
Таковыми будут наши самые общие исходные представления и доводы касательно установления связей между агрессией как данностью и поведением. Далее, в отношении видовых связей, мы станем различать агрессию индивида и агрессию общества. Агрессия индивида – это то, что есть «у него», агрессия общества – то, что есть «у нас». Для характеристики ядра индивидуальной агрессии мы станем использовать понятие «агрессиум» как единство биологического и социального (подробно об этом будет ещё сказано). Выразителем агрессии общества станет «общественная агрессия» (для обоснования этого понятия можно привести положение Аристотеля о человеке как общественном животном). В Век агрессии между агрессией индивида и общественной агрессией усиливается особые связи, которые обеспечиваются агрессией как надындивидуальной или надличностной сущностью.
Все эти связи преломляются посредством так называемой агрессивной культуры и особенностями восприятия действительности человеком. Под агрессивной культурой мы понимаем то, что производится самой общественной жизнью и становится способом выражения деструктивного поведения и действий, выраженных и чувствами, и мыслями. А вот особенности восприятия говорят о том, как мы осваиваем агрессию и всё то, что с ней связано, будь то наблюдаемые агрессивные действия или информация о них. В Век агрессии такие связи образуют общий план, при довлеющих значениях агрессии. Причинно – следственные связи агрессии остаются на вторых планах, образовывая специфические поля агрессивного. Существующие традиционные теории агрессии можно было бы отнести к изучению таких полей. Такие наработки позволяют, исходя уже из общего плана, рассматривать под заданным углом наиболее значимые характеристики агрессии и все те составляющие, которые выражают её развитие и особенности существования в век агрессии.
Продолжая наш путь – путь размышлений и обоснования концептуальных представлений о вековой значимости агрессии, нам предстоит в узловых местах углубляться и делать пояснения. И здесь первым делом нам понадобятся рабочие понятия «комплекс» и «трансформация». Понятие «комплекс» даёт представление об агрессии как целостности, а «трансформация» – указывает на преобразования агрессивного, выражающего суть века агрессии. Отметим также, что комплекс агрессии – это набор чувств, мыслей и образцов, которые выражают личностные и коллективные состояния агрессивного. Трансформацию же комплекса агрессивного в состояния всеохватности и вседозволенности мы будем рассматривать как сущностный процесс становления Века агрессии.
Далее мы станем различать агрессию структурно, как укоренившуюся предрасположенность к действию или готовность быть агрессивным. В такой предрасположенности природно-биологические составляющие агрессивного тесно переплетаются с социально-политическими обстоятельствами жизни. Более того, сама эта предрасположенность доводится и утверждается до обыденного в поведении людей. Образуется новое свойство общественного человека быть агрессивным во всём и всегда. Отсюда мы допускаем, что всеохватность агрессии как особенность человеческого поведения, доведённая до обыденных проявлений, и есть то, что окончательно утверждает её в границах века агрессии. Однако также будет верным то, что объяснение феномену «Век агрессии» следует искать на путях единения нового со старым и обеспечения целостности проблематики агрессии. Ибо как справедливо замечает К. Юнг: «даже самая оригинальная и самостоятельная идея не с неба падает, а произрастает на уже имеющейся, объективно заданной интеллектуальной почве, корневая система которой – независимо от того, хотим мы того или нет, представляет собой теснейшее переплетение».3
Переплетение традиционного понимания с новыми взглядами на агрессию, их единение в целостности подхода наших изысканий, будут рассматриваться на основе шести вопросов-утверждений. Мы их различаем как утверждения, которые побуждаются вопросительной составляющей для поиска новых утвердительных аргументов. Этим они отличаются от других вопросов, например, риторических, перед которыми не ставятся такие цели. С усилением же утвердительных начал, симбиоза традиционного (интегральность агрессии) и нового подхода (агрессия как надличностная сущность) необходимость в вопросительной части начнёт отпадать. Вот сами «вопросы-утверждения»:
– имеет ли смысл агрессия сама по себе, агрессия как данность вообще, независимо от своих форм и масштабов;
– может ли агрессия довлеть над человеком, не соизмеряясь с его желанием, возможностями и волей;
– является ли интегральность окончательной характеристикой в агрессии;
– какие механизмы способствовали становлению самостоятельных начал агрессии, сохранению её как надличностной сущности, расширению возможностей всеохвата в мире людей;
– почему не массовость убийств, санкционированных агрессивными войнами, а всеохватность агрессии, доведённая до обыденности в относительно мирное время, становится сущностной характеристикой Века агрессии;
– отчего в Век агрессии враждебные намерения действовать агрессивно, выражаются не только по воле, но и как необходимость во вне, надличностно.
Это вопросы о сущности и значениях агрессии, но это и утверждения об их данности. Применительно к Веку агрессии они должны в первую очередь определять то, в какой мере агрессия могла бы быть оправданием существования самой себя в мире людей, и тогда уже выходить на понимание того, в силу чего она смогла стать характеристикой века? Утверждения ответов не могут ограничиваться лишь сугубо познавательным любопытством, они должны иметь значения и протекать в русле развития новых аспектов теоретизирования агрессии.
Согласившись с тем, как надо рассматривать вопросы-утверждения, примем к сведению одно сущностное положение: то, что агрессия, будучи жизненной силой в веках, имеет все основания определяться в качестве фактора цивилизационного развития. И что достижения, скажем, в той же области военной техники и технологий не могли быть сделаны без учёта реалий агрессии. В то же время мы вправе будем усомниться в понимании смысла агрессии лишь из непосредственного опыта, ибо есть и иные познавательные возможности, представляющие предмет более выпукло и в отрыве от поверхности вещей. Однако подробнее об этом и умопостигаемом скажем позже, а пока отметим одно: если говорить о субъекте агрессии, который преследует свои цели, мыслит категориями захвата и разрушений, то «да», в таких контекстах, конечно же, видится «свой смысл» и «свой умысел», как захватнический интерес и своё оправдание агрессии. Более того, такая агрессия бывает сразу помещена в смысл, как сказал бы французский философ Анри Бергсон.
Но могла ли одна смысловая заданность субъектов агрессии, одни «интересы», взятые в своём множестве, придать в целом агрессии такую всеохватную силу и те значения, которые позволяют нам ныне ставить вопрос и говорить уже о Веке агрессии?
Изначально на такой вопрос у нас просто не могло бы быть ответа. Надо было думать и предметно размышлять об этом и других возможных обстоятельствах развития Века агрессии. То, как посредством генезиса было осуществлено раскрытие заданности агрессии, какие из них были выделены в качестве динамических образований, раскрывающих во взаимосвязях сущности века агрессии. Есть и развёрнутый ответ с различными экскурсами, предложенными в данной работе. А эти экскурсы, забегая вперёд, есть чувства и мысли, поведение и действия, которые и были вынесены нами в название книги. Думается, что именно эти составляющие и задаваемые ими в единстве объёмные характеристики агрессии в своём наступательном развитии и взаимосвязях послужили основой для становления Века агрессии, а именно: такой протяжённости жизни человечества, которая полнится всеохватностью агрессии. В развитие сказанного мы станем рассматривать эти составляющие как части целого, то есть целостности новой агрессии, и, таким образом, разместим их в концептуальной схеме «Век агрессии».
В основе разработки такой схемы лежат три аналитических понятия:
– агрессия как социально-психологическое и политическое явление;
– агрессия как сброс в социальное пространство;
– агрессия как надличностная сущность.
Первое понятие достаточно полно разработано в традиционной проблематике в части психологии, что должно также послужить нам опорой в теоретизировании новых аспектов агрессии. Другие два понятия мы вводим для разработки концептуальной схемы «Век агрессии». Но прежде изъяснимся по поводу того, с чего всё это начиналось, и что именно. считать как внесение нового?
В разработке Века агрессии как теоретической проблемы, нам важно было в первую очередь определиться с тем, что будет положено в основание предметности агрессии. Станут ли это, главным образом, количественные характеристики, и тогда мы должны будем в основном внимать статистике: столько-то убито с особой жестокостью, столько-то изнасиловано, а также исходить из разъяснений антропологов по поводу того, почему у народности «А» убивали чаще и без особой нужды (потому что они агрессивные?), в то время как у народности «Б» убивали меньше (потому что они не в такой степени агрессивные?). Всё это свидетельствовало бы о том, что, во-первых, согласно статистике, агрессии стало много больше, чем когда-либо было в мире людей. А во-вторых, что убийства когда-то и где-то совершались всё же с разной степенью частоты, скажем, у каких-то народов Африки. И тогда нам пришлось бы говорить, прежде всего, о причинно-следственных связях и сторонних факторах, вызывающих агрессию, что практически и имело место как факторный анализ в традиционной проблематике агрессии. Преимущества такого подхода очевидны, и они прежде в наглядности и фактичности исследуемого материала. Но одних этих «полезностей» скорее всего было бы недостаточно при объяснении феномена «Век агрессии», и мы не смогли бы по-новому взглянуть на проблему агрессии, оставаясь по-прежнему в границах традиционных подходов.
Если это так, то в таком случае надо будет в основании Века агрессии предлагать уже какие-то другие, качественные характеристики, придающие агрессии самостоятельное «звучание» и значимость. И эти качества, возможно, как и новые функциональные заданности агрессии, взятые предметно, послужат тому, чтобы выявить сущность Века агрессии и показать те преимущества подхода, которые могут придать новый импульс и разворот проблематике агрессии в современных условиях. Однако в этом случае уповать придётся прежде всего на абстракции и «схватывающие» представления по примеру древних греков.
И всё же, чтобы нам окончательно определиться с «основанием», протестируем подробнее возможности и пути теоретизирования Века агрессии. Их, как мы понимаем, всего два. В одном случае надо будет делать упор на само явление агрессии как видимое, привлекать в этих целях статистику, а также «добывать» необходимую эмпирию; в другом – исходить из сущности агрессии в значении века, как на невидимое, но доступное «схватывающим» представлениям. Какой вариант будет более приемлемым для размышлений и выводов при том, что эти возможности не являются взаимоисключающими? Речь идёт по существу об активности способов познания и расстановке акцентов.
Если судить по первому критерию, когда «много агрессии», то надо будет согласиться с тем, что Век агрессии остался в прошлом, например, в ХХ веке, с её войнами и применением американцами в Японии ядерного оружия. Но в истории войн найдутся и другие примеры, в которых было не мало агрессии. И каждый раз причины будут разными, где-то религиозными, а где-то и политическими, но быть может и чисто националистическими. Поэтому одни количественные характеристики, при всей их важности, не смогут нам объяснить сам феномен Века агрессии как единого. Ведь они будут скорее «указывать» и «свидетельствовать» о чём-то одном, фактическом, и при этом мало что говорить о сущности явления, что не может никак нас устраивать. Чтобы понять и объяснить Век агрессии, надо будет исходить из других оснований и путей. Это, прежде всего, пути совмещающего теоретизирования, и к ним следует подходить со стороны качественных определённостей в самой агрессии. Ибо Век агрессии предстаёт по большей мере как данность сущностей агрессии, разрабатывая их должным образом, можно будет объяснить как сам феномен, так и количественный рост агрессивных явлений.
Определяя это в качестве основы для развития проблематики Века агрессии не следовало отрываться от традиционного. Важно было из наработанного в теории агрессии использовать то, что в первую очередь отвечает и вяжется с пониманием вечно пребывающей агрессии, с её самодостаточностью. Агрессию надлежало отнести к тому кругу явлений, которые «основания самих себя содержат в себе» (М. Мамардашвили).Это и будет признаком вечности агрессии, в противном случае агрессии пришлось бы каждый раз дожидаться своей причинности, чтобы стать реальностью. Причинность следует за таким основанием, определяя особенное в агрессии, её видовые различия.
Мы попытаемся органически сочетая познавательные возможности прежде всего философии и социальной психологии, придерживаться такого понимания. Но для начала уясним себе, что представляет собой сама проблематика агрессии и какое место в ней займёт проблематика Века агрессии?
Проблематика агрессии – это разрабатываемая часть территории, которая очерчена как часть поля агрессии. В устоявшемся ныне виде она предстаёт областью знаний, которая тянется от психоанализа, имеет большую психологическую часть, продолжающуюся активно застраиваться в разных планах, и небольшие районы, отведённые социологии и праву. Также застраиваются новые районы под биологию и генетику, найдётся место и для эволюционной психологии. Понимая таким образом «область знаний» в буквальном смысле как застраиваемую территорию, мы попытались обрисовать разработанность проблематики агрессии.
Продолжая далее развивать «область знаний» как метафору, отметим, что в связи с ростом и усилением роли агрессии в мире людей, есть настоятельная необходимость в том, чтобы далее тематизировать Век агрессии, а значить появляется необходимость в застройке и обживании новых районов. Мы назвали нашу тематическую застройку «Вводная часть Века агрессии». Правда, в нынешнем положении вещей «Век агрессии» может всё ещё рассматриваться как метафора, которая в переносном смысле говорит о возросшей роли агрессии в жизни людей. Но речь идёт о том, чтобы словосочетание «Век агрессии» разрабатывать понятийно, как инструмент анализа всё возрастающей заданности агрессии в жизни людей, и наполнять это понятие конкретным содержанием. Поэтому застраивать вводную территорию проблематики «Век агрессии» необходимо будет основательно, начиная с закладки фундамента.
Наша главная цель и вытекающие из неё задачи состоят в том, чтобы принять посильное участие в такой застройке, подразумевая под этим теоретизирование новой, актуальной части общей проблематики агрессии, связанное, прежде всего, с проникновением в само явление и смыслы Века агрессии, в то, что составляет их сущность. Здесь мы исходим также из того, что агрессия имеет видимую часть, то, что нам является в агрессивных действиях (криминал, терроризм, войны и пр.), и то, что она находит своё выражение в агрессивной риторике (оскорбительные слова, воинственные выступления политиков в адрес своих противников и пр.).
Однако агрессия, и об этом следует сказать ещё раз особо, имеет и невидимую часть, то, что составляет её сущность. что она есть сама по себе и является смыслом её существования. Попытка проникнуть в сущность агрессии века и есть одна из наших насущных задач. Сошлёмся в аргументации такой позиции и наших суждений ещё раз на А. Бергсона, который видел задачу философии в том, чтобы проникнуть в явление, пережить жизнь, а не понять её, излагая в некоторых понятиях.
У нас же речь идёт о том, чтобы проникать в сущность агрессивного явления, как в саму сущность агрессии, определяя тем самым действительное существование Века агрессии, коренящегося в чувственном. Как было сказано, они у нас представлены как надличностные сущности агрессии, с актуализацией которых связывается всеохватность века агрессией. Иными словами, если мы хотим определить сущность агрессии, и то, куда «пропадает» после своего завершения агрессия, угасая как явление (действие), то мы должны будем выйти за мир явлений и погрузиться в мир предсказательного, взяв за основу понятие «надличностная сущность агрессии». Именно такие установки и представления будут значимыми и иметь перспективы для разработки новых аспектов теоретизирования агрессии как основы Века агрессии. В то же время следует иметь в виду, что вечно пребывающая агрессия в разные периоды будет иметь для этого свои исходные установки и перспективы.
Для периода дикости по всей вероятности исходными предстанут инстинкты; в общественное время таковыми будут социально – психологические детерминанты; а на стадии Века агрессии – станут превалировать надличностные сущности агрессии. Из этих исходных установок наиболее полно были исследованы социально – психологические детерминанты, что имело место в традиционной проблематике. Мы станем рассматривать эти установки по необходимости, памятуя о том, что предметом наших изысканий является освоение до некоторой степени Века агрессии в единстве его составляющих. Так, сочетая художественный метод с научным, философский подход с психологическим, социологическим и правовым, будут обрисованы составляющие, а также пути складывания Века агрессии, в котором всё более значимыми предстают надличностные сущности агрессии, властные над человеком.
1
См. Сьюзен Лангер. Философия в новом ключе. М., 2000. с.130.
2
Так, генеральный директор одной компании в Калининграде расстрелял из травматического пистолета сотрудника, требующего выплатить ему долги по зарплате. Тем самым он, как бы, решил одну проблему – выплеснул свою агрессию, и одновременно создал другую, заключающуюся в «отсидке» за содеянное.
3
Карл Густав Юнг. Феномен духа в искусстве и науке. М. 1992. С. 45.