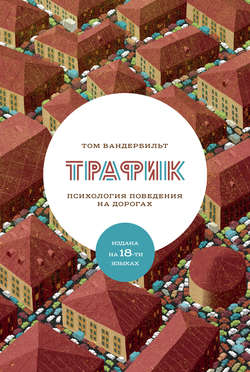Читать книгу Трафик. Психология поведения на дорогах - Том Вандербильт - Страница 4
Глава 1
Почему по соседней полосе машины всегда едут быстрее, или Дорожное бешенство
«Чего уставился?» Визуальный контакт, стереотипы и социальное взаимодействие на дороге
ОглавлениеДжордж: Этот парень игнорирует мой взгляд.
Джерри: Я всегда смотрю перед собой, хотя и ненавижу это делать.
Джордж: Посмотри на меня! Я человек! Я – это ты!
Из юмористического шоу «Сайнфелд»[15]
Кинофильм «Столкновение»[16] начинается с рассказа водителя из Лос-Анджелеса, описывающего сцену дорожно-транспортного происшествия. «В Лос-Анджелесе никто к вам не прикасается. Мы все спрятаны за стенами из металла и стекла. Порой мне кажется: мы настолько сильно скучаем по контакту, что врезаемся на дороге друг в друга, чтобы хоть что-то почувствовать». Это заявление кажется абсурдным, но в нем есть доля истины. Иногда мы сталкиваемся с гуманностью в дорожном потоке, и это производит сильное впечатление. Вы наверняка имели дело с классическим случаем взаимодействия при смене полосы. Вы ловите взгляд другого водителя, он пропускает вас вперед, а вы с искренней человеческой теплотой машете ему рукой. Почему эта ситуация кажется вам особенной? Связано ли это с тем, что на дороге все безлики, либо же дело в чем-то еще?
Джей Фелан, биолог, работающий неподалеку от Джека Каца в Калифорнийском университете, часто размышляет о трафике, разъезжая на своем мотоцикле по Лос-Анджелесу. «Человечество на начальном этапе развивалось в условиях, когда каждого окружало не более сотни человек, – говорит он. – У нас были те или иные связи со всеми, кого мы встречали». Хорошо ли этот человек к вам относился? Вернул ли вещь, которую попросил неделей ранее? Подобный способ общения носит название «взаимного альтруизма». Ты мне, я тебе. Мы поступаем так, поскольку нам кажется, что это когда-нибудь поможет нам «в пути». По мнению Фелана, даже тогда, когда мы едем по Лос-Анджелесу вместе с сотнями тысяч других безликих водителей, в глубине души мы продолжаем казаться себе жителями небольшой доисторической деревни. «Поэтому когда кто-то делает для вас что-то приятное на дороге, то вам кажется, что вы обрели союзника. И ваш мозг воспринимает это как начало долгосрочных и устойчивых отношений».
Фелан считает, что когда кто-то совершает хорошие или плохие поступки, то мы начинаем «вести им счет» в голове – причем даже в случаях, если шансы вновь встретить этого человека крайне невелики. Но наш мозг, который, как нам кажется, развился достаточно для того, чтобы справляться с масштабными социальными сетями{89}, получает довольно мощные сигналы от любого акта общения. Поэтому мы начинаем злиться из-за незначительных нарушений дорожных правил или чувствуем себя гораздо лучше после самых мелких проявлений вежливости. «Я чувствую, что на дороге происходит множество событий, – говорит Фелан. – Кто-то машет вам рукой, после того как вы даете ему перестроиться на вашу полосу. Мир начинает казаться лучше. Чувствуется, что в нем есть доброта и каждый готов позаботиться о другом». А как только вас кто-то подрезает, мир погружается во тьму. Теоретически ни первое, ни второе не должно значить особенно много, однако каждый раз у нас возникают сильные эмоции.
Эти моменты напоминают нам дорожную версию «игры в ультиматум» – эксперимента, который используют социологи для выявления степени взаимной справедливости в общении людей. В ходе игры один участник получает деньги и указание поделиться с другим участником, выбрав сумму по своему усмотрению. Если второй соглашается с предложением, то оба получают свои деньги. Если же он отказывается, то оба не получают ничего. Исследователи обнаружили, что люди обычно отказываются от предложений, составляющих менее 50 %, даже если это значит, что они останутся ни с чем. Финансовые потери значат меньше, чем чувство справедливости или неприятное ощущение от того, что проиграл кому-то. (Одно исследование показало, что люди, чаще других отказывавшиеся от предложений, имели более высокий уровень тестостерона{90}. Возможно, это также объясняет, почему я больше склонен, чем моя жена, вступать в контакт с людьми, подрезавшими меня на дороге.)
Именно чувство справедливости заставляет нас агрессивно преследовать машину, до того «висевшую у вас на хвосте». Мы делаем это в ущерб собственной безопасности (можно спровоцировать аварию или нарваться на человека, готового к драке) и невзирая на то, что, возможно, никогда в жизни больше не увидим того, кого пытаемся наказать. В небольших городках имеет смысл быть вежливым на дороге, ведь шансы встретиться вновь велики, а водитель может оказаться вашим знакомым. Ваш пример может заставить других отказаться от опасного вождения. Однако при движении по шоссе или в крупных городах не вполне понятно, почему водители так хотят помочь или, напротив, обидеть других; другие водители никоим образом не связаны с вами, и вы вряд ли увидите их вновь. Неужели мы обманываем себя, рассчитывая, что наш альтруистичный жест вызовет аналогичную ответную реакцию, либо же вежливость – наша вторая натура? Поведение на дороге – всего лишь часть более крупной головоломки, вопроса о том, как люди (которые, в отличие от муравьев, не братья и сестры, работающие на королеву-мать) умудряются уживаться друг с другом (невзирая на краткосрочные конфликты). Пока что ученые не смогли дать этому толкового объяснения.
Экономист Эрнст Фер[17] и его коллеги предложили теорию «сильной взаимности»{91}: «желание пожертвовать ресурсами во имя справедливости и наказания за нечестное поведение, даже если это приводит к дополнительным затратам и не обеспечивает человеку, склонному к взаимности, награды в настоящем или будущем». Примерно то же происходит с нами на дороге, когда мы пытаемся наказать кого-то за неправильные действия. В экспериментальных играх, участники которых должны внести определенную сумму в общий котел, лучший вариант развития событий – когда каждый добавляет свою долю. Однако для отдельно взятого участника выгоднее забрать часть денег остальных игроков (чем-то это напоминает поведение человека, который обходит длинную очередь машин, желающих съехать с шоссе, а потом вклинивается в нее в последний момент). Постепенно игроки перестают вносить вклады в общий котел. Сотрудничество заканчивается. Когда у них появляется возможность наказать других за то, что те не вносят свои деньги, после пары раундов большинство участников начинают делиться всем, что у них есть. Судя по всему, страх наказания помогает обеспечить сотрудничество.
Возможно (как предполагает экономист Герберт Гинтис[18]), в некоторых формах «дорожного бешенства» есть свои плюсы. Подача сигнала или даже агрессивное следование в хвосте подрезавшего вас человека, пусть оно и не соответствует вашим личным интересам, оказывается в интересах всего биологического вида. Сторонники «сильной взаимности» отправляют сигналы, которые заставляют потенциальных обманщиков сотрудничать; в трафике, как и в любой другой эволюционной системе, соответствие правилам обеспечивает «коллективное преимущество» для группы и тем самым помогает каждому отдельно взятому участнику. Бездействие повышает риск того, что нарушитель причинит вред группе хороших водителей. Когда вы гудели грубияну, то не думали о благе для своего биологического вида. Вы были просто злы, но ваш гнев при этом может оказаться альтруистичным{92} (и, подобно тому как курицы кудахтаньем предупреждают о приближении хищника, сигнал, который вы подаете угрожающему вас водителю, не отнимает у вас слишком много энергии). Так что, если вы поддерживаете теорию Дарвина, погудите в знак солидарности!
Какими бы ни были причины взаимодействия (эволюционные или культурные), наши глаза – один из главных его механизмов, а визуальный контакт может считаться самым важным человеческим навыком, который утрачивается при движении по дороге. Странно, однако, что люди, куда более склонные к сотрудничеству, чем наши ближайшие родственники-приматы, начинают вести себя в потоке совершенно иначе. Основную часть времени мы движемся слишком быстро – теряем возможность поддерживать визуальный контакт на скорости свыше 30 километров в час{93} – или считаем небезопасным глядеть по сторонам. Не исключено, что нам что-то мешает. Часто водители носят солнечные очки или стекла их автомобилей затонированы. (Да и хотели бы вы устанавливать визуальный контакт с водителем, сидящим в солнечных очках в машине с глухо затонированными стеклами?) Порой мы контактируем визуально через зеркало заднего вида, но такой контакт кажется нам слишком слабым и даже сомнительным (по сравнению со взглядом в глаза, «лицом к лицу»).
Поскольку визуальный контакт на дороге – это редкость, мы можем испытывать неловкость, когда он все-таки происходит. Доводилось ли вам вставать на красный свет светофора и «чувствовать», что на вас смотрит кто-то, сидящий в соседней машине? Скорее всего, ощущения были неприятными. Первая причина – кто-то нарушает присущие трафику границы личного пространства. Вторая – отсутствие видимого повода, поэтому вы подсознательно оцениваете, не придется ли вам обороняться или бежать. Что вы делаете, если замечаете, что кто-то на перекрестке смотрит на вас? Вполне обычной реакцией будет нажать на педаль газа. Исследователи дорожного движения просили помощника подъезжать на скутере к автомобилям, стоящим на перекрестке, и внимательно смотреть на водителей. Эти автомобилисты после переключения сигнала светофора ехали по перекрестку значительно быстрее тех, на кого не смотрел экспериментатор. В рамках другого исследования на водителей смотрели пешеходы, стоявшие на перекрестке. Результат был таким же{94}. Вот почему вам обычно не удается установить контакт со стоящим рядом водителем другой машины. Именно с этим связана основная проблема сетей для свиданий в пробках (позволяющих водителям обмениваться сообщениями анонимно). Большинство людей – не считая водителей Ferrari средних лет – не хотят, чтобы на них смотрели, когда они в пути.
Однако когда вам нужно, например, перестроиться из одной полосы на другую, визуальный контакт становится основным сигналом. Ведущий телевизионного шоу «Сайнфелд» Джерри Сайнфелд был прав, когда посоветовал своему гостю Джорджу Констанца, рассказывавшему о том, как он безуспешно пытался перестроиться на нью-йоркской улице и размахивал руками, следующее: «Думаю, что им недостаточно руки. Они должны увидеть человеческое лицо».
Многие исследования подтвердили, что визуальный контакт в значительной степени повышает шансы на сотрудничество в различных экспериментальных играх. Удивительно, но при этом глаза не обязательно должны быть настоящими. Исследование показало, что присутствие нарисованных глаз на экране компьютера заставляло людей отдавать больше денег другому, невидимому им игроку{95}. В рамках другого эксперимента ученые разместили фотографию глаз над кофейным аппаратом в комнате отдыха. Человек, желавший налить себе кофе, должен был положить в копилку определенную сумму{96}. Через неделю изображение глаз заменили фотографией цветов. И так несколько раз. Оказалось, что в недели, когда над аппаратом висело изображение глаз, люди стабильно платили больше. По некоторым данным, сама форма наших глаз, содержащих больше склеры («белой части»), чем у самых близких к нам приматов, как раз и призвана развить сотрудничество среди людей{97}. Белки помогают нам «привлечь внимание других», и мы становимся особенно чувствительными к направлению чужого взгляда{98}. Младенцы будут без особых проблем следить за вашим взглядом, но вряд ли станут отслеживать ваши движения, если вы закроете глаза и будете просто мотать головой из стороны в сторону{99}. По мнению некоторых ученых, глаза помогают нам показать, что́ нам нравится на самом деле. Визуальный контакт также подтверждает: мы не верим в то, что нам будет причинен вред, если раскроем свои намерения.
Бывают случаи, когда мы не хотим сообщать о своих намерениях. Именно поэтому некоторые игроки в покер надевают темные очки. Это также помогает объяснить и другую игру – вождение машины в Мехико. Символ сложности трафика в Мехико – так называемые topes: лежачие полицейские, разбросанные по всему городу, как таинственные земляные насыпи какой-то древней цивилизации. Эти устройства чуть ли не самые крупные по размеру среди себе подобных. Благодаря этому они очень эффективно гасят негативные импульсы водителей-чиланго (жителей Мехико). Горе тем, кто не успел снизить скорость перед этими насыпями до минимума. Старые автомобили застревают в них, после чего их откатывают на обочину и превращают в придорожные киоски по продаже всякой всячины.
Вряд ли topes можно назвать единственной проблемой дорожного движения в Мехико. Существуют еще и secuestros express, или «экспресс-ограбления», когда преступники наводят оружие на водителей, остановившихся на красный сигнал светофора, затем едут с ними к ближайшему банкомату и заставляют снять все наличные с карты. Часто преступник нервничает куда больше своей жертвы – так утверждает Марио Гонзалес Роман, бывший офицер безопасности в посольстве США, которому довелось побывать в роли жертвы такого ограбления. В данной ситуации крайне важно сохранять спокойствие. «Большинство погибших в подобных инцидентах посылали преступникам неверные сигналы, – объяснял он, передвигаясь по Мехико на VW Beetle 1976 года выпуска (который в Мексике называют vocho). – Вы должны облегчить работу преступника. И если ему нужна лишь ваша машина, то считайте, что вам повезло».
К счастью, экспресс-ограбления случаются в Мехико довольно редко. Чаще водителям приходится иметь дело с другой проблемой – бесчисленными перекрестками без светофоров. Решение вопроса о том, кто поедет первым, а кто уступит, превращается в своеобразный социальный балет с неясными правилами. «Порядка никакого нет, кто приехал первым, тот и прав, – рассказывает Агустин Барриос Гомес, предприниматель и политик, ехавший вместе со мной по району Поланко в своем потрепанном Nissan Tsuru, выглядевшем несколько простоватым для статуса его хозяина. – Мексиканские преступники обращают пристальное внимание на вашу машину и другие признаки вашего благосостояния, например часы. В Монтре я ношу Rolex, а здесь предпочитаю Swatch». На каждом перекрестке он немного замедлял ход, проверяя, что будут делать водители, подъезжающие слева или справа. Проблема заключалась в том, что машины подъезжали к перекрестку в одно и то же время. В какой-то момент Гомес решительно рванул вперед, вынудив остановиться BMW, ехавший наперерез. «Я сознательно не смотрел ему в глаза», – твердо сказал он, проехав перекресток.
Визуальный контакт очень важен для преодоления перекрестков без разметки в Мехико. Стоит вам посмотреть на другого водителя, и он подумает, что вы его заметили и готовы пропустить. Если же вы не смотрите на соседа, то возлагаете все бремя ответственности на него (при условии, что он вас заметил), а это позволяет вам проехать первым (вы даете понять, что не имеете представления о его существовании). Всегда есть вероятность, что водитель смотрит куда-то еще. В случае Барриоса Гомеса социальная цена остановки будет большей для BMW, находящегося выше в социальной иерархии, чем старый Nissan Tsuru. Кроме того, для BMW материальный ущерб будет серьезнее в случае, если он не остановится и произойдет авария. Водители, не желающие сотрудничать на принципах «взаимного альтруизма», не смотрят по сторонам или притворяются – они стараются глядеть прямо перед собой. То же происходит со многими нищими, которых можно встретить на перекрестках в Мехико. Им гораздо проще просить деньги, не устанавливая визуального контакта с прохожими{100}. Именно поэтому не только в Мехико, но и в других городах многие водители в ожидании нужного сигнала светофора смотрят строго вперед.
Разумеется, ежедневная поездка на работу имеет мало общего с хитроумными стратегиями времен холодной войны, однако каждый раз, когда к перекрестку без разметки и знаков подъезжают две машины, возникает определенная игра. Теория игр, согласно определению экономиста и нобелевского лауреата Томаса Шеллинга[19], представляет собой процесс стратегического принятия решений, имеющий место (подобно случаям ядерного противостояния или движения на перекрестке), когда «два или более участников должны принять решение, имеют свои предпочтения относительно желательного исхода и определенное знание относительно доступных другим участникам вариантов действий и их предпочтений. Исход зависит от решений, принимаемых обоими участниками или всеми участниками, если их число превышает два»{101}.
В дороге возникает масса подобных моментов импровизированного принятия решений и балансирования на грани войны. По мнению Шеллинга, одна из наиболее эффективных, хотя и рискованных стратегий теории игр предполагает использование «асимметрии в коммуникации». Один водитель, подобно Барриосу Гомесу в Мехико, становится «недоступным» для принятия сообщений со стороны и таким образом исключает себя из числа участников, которые должны пересечь перекресток первыми{102}. Подобная тактика может быть довольно эффективной, если вы готовы рискнуть своей головой ради того, чтобы следовать стратегии, применявшейся во времена холодной войны. Например, пешеходам часто говорят, что для перехода улицы на нерегулируемом перекрестке (без светофора) крайне необходим визуальный контакт, но как минимум одно исследование показало, что водители значительно чаще пропускали пешеходов, когда те не смотрели на приближающуюся машину{103}.
Водители на перекрестках руководствуются довольно сложным набором мотивов и предположений; некоторые из них связаны с дорожным движением, другие – нет. Ученые показывали участникам одного исследования фотографии с изображением перекрестка, к которому приближались два транспортных средства (находившихся от него на одинаковом расстоянии). У одного был законный приоритет, а у второго – нет. Кроме того, второй водитель не знал, воспользуется ли своим правом первый. Участников эксперимента просили представить себя на месте водителей. Им нужно было предсказать, кто «выиграет» право приоритетного проезда при условии действия различных факторов: наличия или отсутствия визуального контакта, пола второго водителя, а также типа транспортного средства – грузовик, внедорожник или обычная небольшая легковая машина. Роль визуального контакта была поистине огромной. Большинство участников считало, что при его возникновении водители, имеющие право приоритетного проезда, им воспользуются. Автомобилисты также охотнее уступали дорогу, когда вторая машина была сопоставима по размерам. Они еще чаще уступали, когда вторая машина была того же размера, а за ее рулем сидела женщина – по мнению исследователей это было связано с общепринятым представлением о том, что женщины за рулем менее «опытны», «компетентны» или «рациональны». А может быть, это было лишь проявлением рыцарства?{104}
Таким образом, трафик представляет собой живую лабораторию человеческих взаимоотношений, где действуют невидимые на первый взгляд проявления силы и слабости. Например, когда на светофоре на перекрестке загорается зеленый свет, а впереди стоящая машина не начинает движение, велики шансы, что прозвучит сигнал. Однако то, когда он прозвучит, сколько раз и как долго, далеко не случайные переменные.
Подача сигналов происходит в соответствии с определенной тенденцией, которая не всегда отвечает нашим представлениям. Мы уже видели, что водители, ехавшие в машинах с откинутым верхом и не имевшие возможности скрыться под маской анонимности, подавали сигнал значительно реже, чем все остальные. По тем же причинам водители в Нью-Йорке{105}, окруженные миллионами незнакомцев, будут, скорее всего, сигналить чаще и быстрее, чем автомобилисты в небольшом городке в Айдахо, где в машине, не сдвинувшейся вовремя с места, может сидеть их друг. Важно и то, что именно делает водитель стоящей впереди машины. Когда автомобиль сознательно не двигался с места из-за того, что водитель разговаривал по телефону, то другие водители обычно начинали гудеть – причем, как говорят выводы одного исследования, чаще и дольше, чем во всех других случаях (оказалось, кроме того, что мужчины были более склонны подавать звуковой сигнал, чем женщины, хотя женщины ничуть не меньше выражали свой гнев заметным для других способом){106}.
В игре участвует множество других факторов – начиная от пола и заканчивая типом машины и опытом водителей. В классическом эксперименте, проведенном в США и потом повторенном в Австралии{107}, ключевым фактором для принятия решения был статус автомобиля. Когда статус «блокирующей машины» считался «высоким», следовавшие за ней водители были склонны сигналить меньше и реже, чем дешевой или старой машине{108}. В Мюнхене было проведено иное исследование. Ученый, сидевший в автомобиле VW Jetta и блокировавший движение, наблюдал за теми, кто начинал сигналить. Несложно догадаться, что водители Mercedes начинали сигналить быстрее, чем водители Trabant{109}. Аналогичное исследование, проведенное в Швейцарии, не выявило этого эффекта – возможно, вследствие культурных различий, таких как присущие жителям этой страны сдержанность и любовь к тишине{110}. Еще одно исследование показало, что когда водителем блокировавшей движение машины была женщина, то другие водители (в том числе другие женщины) сигналили более активно{111}. Проведенный в Японии эксперимент выявил, что когда на блокирующей машине висел обязательный стикер «водитель-новичок», то ехавшие сзади автомобили сигналили чаще (возможно, считая, что тем самым преподают «дополнительный урок вождения»{112}). В нескольких европейских странах водители быстрее и чаще сигналили, когда впереди стоящая машина имела номерной знак другого государства{113}.
Мужчины сигналят чаще женщин (более того, мужчины и женщины чаще сигналят, обращаясь к женщинам). Жители мегаполисов сигналят чаще, чем жители небольших городков. Люди склонны чаще сигналить водителям дорогих машин – возможно, об этом вы и сами догадывались{114}. Самое главное – понять, что, двигаясь в потоке, мы руководствуемся набором стратегий и убеждений, причем даже не осознавая этого. Целый ряд интереснейших экспериментов провел Йен Уокер – психолог из Университета Бата в Англии. По его словам, в комплексных системах наподобие трафика, где постоянно взаимодействуют между собой тысячи людей с различным представлением о правилах дорожного движения, участники конструируют «ментальные модели», направляющие их действия. «Они просто создают собственную идею того, как все работает, – рассказал мне Уокер во время обеда в деревне Сэлисбери. – А эти идеи у всех совершенно разные».
Возьмем машину и велосипед, стоящие на перекрестке. Исследования стабильно показывают, что перекрестки – одно из самых опасных мест для велосипедистов (не говоря уже об автомобилях), в частности из-за плохой видимости и других проблем восприятия (о них мы поговорим в главе 3). Но даже когда водители видят велосипедистов, ситуация не становится проще. Уокер показывал автомобилистам (действительно опытным водителям, находившимся в лабораторных условиях) фотографию велосипедиста, остановившегося на перекрестке и смотрящего на боковую улицу (при этом велосипедист не подавал рукой сигнала о том, что собирается на нее повернуть). Когда водителей просили предсказать следующее движение велосипедиста, 55 % сказали, что он не будет совершать поворот, а 45 % предположили обратное. «Вот хороший пример неформального характера ментальных моделей людей, – объясняет Уокер. – Существует множество неформальных сигналов, используемых на дороге. Исследования показывают, что почти половина аудитории предполагает одно, другая – совершенно иное, а это прямой путь к ДТП».
Однако, как предположил Уокер, в данном случае речь идет о чем-то более интересном, чем просто непонимание происходящего. В ходе другого исследования{115} ученый показал участникам (опять-таки водителям, находившимся в лабораторных условиях) фотографии ярко одетого велосипедиста в различных дорожных ситуациях, происходящих в типичной английской деревне. Участников просили отметить на компьютерном экране, будут ли они двигаться или остановятся в зависимости от своего представления о дальнейших действиях велосипедиста на различных перекрестках. На некоторых изображениях велосипедисты четко показывали, что собираются совершить поворот, на других просто смотрели вбок или через плечо, а на остальных не подавали никаких явных сигналов. Возможными исходами были «правильные ответы» (то есть грамотная оценка ситуации водителями), «ложные сигналы» (водители останавливались, когда не должны были этого делать) и ситуации, которые, по мнению Уокера, неминуемо привели бы к столкновению. Как и следовало ожидать, наиболее часто «ложные сигналы» возникали, когда велосипедист смотрел через плечо или не подавал никаких знаков. Поскольку водители не понимали, что собирается делать велосипедист, они вели себя чрезмерно осторожно. Однако когда Уокер изучил ситуации «столкновений», то обнаружил, что наиболее часто они происходили в случаях, когда велосипедист показывал самый четкий сигнал, то есть указывал рукой в сторону поворота. Более того, когда водители принимали правильное решение остановиться, время реакции на сигнал со стороны велосипедиста было самым медленным.
Почему же четкие сигналы, заметные и понятные водителям, могли значительно чаще привести к столкновению, чем отсутствие знаков? Возможно, дело в том, что велосипедисты выглядят как люди, а не как безликие машины. В ходе предыдущего исследования{116} Уокер просил участников изучить различные фотографии трафика и описать, что на них изображено. Когда участники видели изображения с автомобилем, они использовали слова для описания неодушевленного предмета. Когда же они смотрели на фотографии пешехода или велосипедиста, то значительно чаще использовали слова для описания человека. Вполне естественной кажется фраза «велосипедист уступил дорогу автомобилю», однако фраза «водитель ударил велосипед» звучит куда более странно. На одной из показанных Уокером фотографий были видны женщина в автомобиле и мужчина на велосипеде, стоявший за ее машиной. Хотя женщину было видно довольно четко, участники почти никогда не описывали ее как человека (в отличие от велосипедиста). Иными словами, женщина в автомобиле оставалась для участников «невидимой»{117}.
В теории это может быть на руку велосипедистам – кто из них не хотел бы, чтобы его считали человеком? Однако здесь может возникать новая проблема, связанная с обезличенностью трафика, которую я описал выше. Транспортные средства движутся на скоростях, которых мы сами достичь не в состоянии, несмотря на свою высокоразвитость: жизнь никогда не учила нас принимать решения, связанные с общением с себе подобными на высокой скорости. Поэтому, когда мы едем по дороге, на которой появляется человек на колесах, мы не можем удержаться от искушения взглянуть ему в лицо, а затем и в глаза. В рамках другого проведенного Уокером исследования участники изучали фотографии велосипедистов, а специальная компьютерная программа следила за движениями их глаз. Оказалось, что взгляд участников чаще всего инстинктивно падал на лица велосипедистов и задерживался на них, вне зависимости от того, что еще было изображено на фотографии.
Глаза – универсальный сигнал, и Уокеру удалось это наглядно продемонстрировать. В его ноутбуке есть две собственные фотографии. На одной он смотрит прямо в камеру (то есть в глаза). Другая фотография выглядит почти так же, но в ней что-то неуловимо меняется. Насколько сильно он отвел взгляд для того, чтобы я как зритель понял, что он уже не смотрит на меня? Всего лишь на два пикселя (притом что ширина экрана составляет 640 пикселей). Уокер полагает, что когда мы видим глаза велосипедиста или даже движение его руки, то запускаем – возможно, автоматически – цепочку когнитивных процессов. И это происходит, вне зависимости от нашего желания, каждый раз, когда мы видим другого человека. Чтобы изучить человека, нам требуется больше времени, чем для изучения предмета, и мы вынуждены приложить больше умственных усилий (исследования показали, что в ситуациях, когда два человека встречаются взглядами, происходит всплеск умственной деятельности, проявляющийся в виде заметного пика на энцефалограмме{118}). Возможно, мы пытаемся понять при взгляде на них нечто большее, чем возможное направление поворота. Мы ищем признаки враждебности или, напротив, доброты. Не исключено, что мы хотим получить хотя бы малую толику альтруизма. А может быть, желаем посмотреть туда же, куда они, а не разбираться в том, о чем сигнализирует нам их рука.
Сознательно или нет, но мы всегда понемногу меняем ситуацию на дороге путем постоянной невербальной коммуникации. Уокеру удалось это убедительно доказать, когда он покинул лабораторию и вышел на вполне реальную автотрассу{119}. Будучи сам велосипедистом, он живо интересовался рассказами других о том, что чем больше дорожного пространства они захватывали, тем больше пространства им были готовы уступить проезжавшие мимо машины. Его также заинтересовали исследования, в которых говорилось, что водители склонны воспринимать велосипедистов в шлемах как более «серьезных, вдумчивых и предсказуемых участников дорожного движения».
Имеет ли все это какое-то значение на дороге или же машины просто проезжают мимо велосипедистов, как мимо обычных людей? Чтобы получить ответ на этот вопрос, Уокер снабдил свой велосипед ультразвуковым датчиком расстояния и начал колесить по дорогам Сэлисбери и Бристоля. Порой он путешествовал в шлеме, а порой без него. Он двигался на разном расстоянии от обочины. Более того, иногда он переодевался в женщину и надевал парик с длинными волосами. Когда Уокер обработал данные, он обнаружил ряд интересных закономерностей. Чем дальше от обочины он ехал, тем меньше пространства оставляли ему машины. Когда он был в шлеме, транспортные средства проезжали ближе к нему, чем когда он был без шлема. Водители воспринимали шлем как знак того, что даже в случае столкновения риск травмы у велосипедиста ниже. Не исключено, что шлем лишал его человеческих черт в глазах автомобилистов. А скорее всего (по мнению Уокера), те воспринимали шлем как признак более ответственного и предсказуемого велосипедиста, не склонного к сюрпризам. В любом случае наличие шлема меняло поведение проезжающих мимо водителей.
И, наконец, водители давали Уокеру больше пространства, когда он переодевался в женщину. Был ли этот «эффект новизны» основан на статистическом факте, что на британских дорогах меньше женщин-велосипедисток? Или же водители просто думали: «Что это за псих в женском парике?» Не исключено, что люди за рулем (пол которых Уокер не мог определить) уступали женщинам на велосипеде больше места из вежливости или же руководствуясь стереотипным представлением о женщинах как о непредсказуемых или менее компетентных личностях?
Интересно, что возможная гендерная предвзятость (даже ошибочная) имеет некоторые общие черты с исследованием перекрестков, упомянутым выше, – если помните, водители чаще уступали право проезда женщинам за рулем. Водители, сознательно или нет, полагаются на стереотипы (некую версию «ментальных моделей» Уокера). Причина столь активного применения стереотипов на дороге может быть связана с тем, что у нас мало информации об окружающих, как и в случае, ставшем сюжетом песни о наклейке на бампере внедорожника. Вторая причина может заключаться в том, что мы полагаемся на стереотипы как на «ярлыки сознания», помогающие нам найти смысл в окружающей нас сложной среде, причем в условиях, когда у нас нет времени на тщательную оценку. И это не всегда плохо: водители, видящие ребенка на обочине, воспользуются стереотипом о том, что «дети не могут контролировать свои импульсы», предположат, что малыш может выскочить на проезжую часть, и снизят скорость{120}.
Тем не менее несложно представить себе ситуацию, когда мы видим нечто не отвечающее нашим ожиданиям. Позвольте рассказать вам о результатах одного хорошо известного психологического исследования. Участники читали слово, которое отражало личностную характеристику, подтверждавшую, отрицавшую или избегавшую определенного гендерного стереотипа. Затем им вручался листок с именем, после чего нужно было определить, принадлежит ли оно мужчине или женщине. Люди реагировали значительно быстрее, когда стереотипическая характеристика соответствовала имени. Они тратили гораздо меньше времени на раздумья, когда видели фразы «сильный Джон» или «нежная Джейн», чем фразы «сильная Джейн» или «нежный Джон». Только когда участников просили противостоять стереотипу и лишали их «когнитивных ограничений» (то есть давали достаточно времени), они были способны преодолеть автоматическую ответную реакцию{121}.
Водители, проезжавшие мимо Уокера на велосипеде, тоже делали автоматические суждения. Но помогал или мешал участникам движения стереотип о велосипедисте в шлеме как компетентном и предсказуемом? Мы помним, что водители проезжали достаточно близко. Может быть, стоило носить парик, маску Дарта Вейдера или что-то еще, дающее водителю другой сигнал? Пока что это непонятно, но после экспериментов у Уокера сложилось положительное ощущение от пребывания на дороге. «Вы можете надеть шлем, и это сразу приведет ко вполне весомым изменениям в поведении. По мере того как водитель приближается к велосипедисту, он может выдвинуть свое индивидуальное суждение о нуждах этого человека. Автомобилист относится к каждому человеку как к личности. Он не просто стрижет всех велосипедистов под одну гребенку. Разве это не может не радовать?»
Наши правила дорожного движения определяются анонимностью, но не стоит забывать, что вокруг нас находятся другие люди, а не вещи.