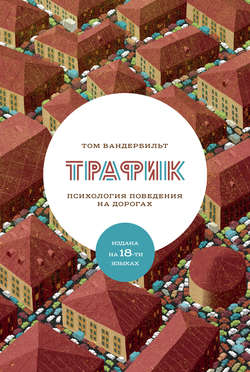Читать книгу Трафик. Психология поведения на дорогах - Том Вандербильт - Страница 8
Глава 2
Почему вы не столь хороши, как думаете?
«Ну, и как вам мое вождение?» – «А я почем знаю?» Почему отсутствие обратной связи мешает нам на дороге
ОглавлениеСуществуют лишь две области, в которых мужчина никогда не признает себя некомпетентным: вождение автомобиля и секс.
Стирлинг Мосс, гонщик-чемпион[25]
Яркая телевизионная реклама онлайнового аукциона eBay сопровождается простым слоганом: «Люди – хорошие». Интересно, что в ней несколько раз показывается трафик: в одном кадре люди собираются, чтобы вытолкнуть машину, застрявшую в снегу; в другом водитель замедляет движение и пропускает другого, который приветственно машет ему рукой. Рассказывая о подобных случаях взаимного альтруизма, eBay надеялся еще раз подчеркнуть правильность своей основной идеи: вы можете купить что-то у совершенно незнакомого человека из дальнего уголка земного шара, но при этом быть уверенным в том, что вовремя получите свою вещь. Подобное «повседневное доверие», выражаясь словами пресс-секретаря eBay, «присутствует в отношениях миллионов не знакомых друг с другом людей, заключающих сделки, и позволяет им без заминки получать искомое»{160}. Примерно такими же словами можно описать и происходящее на дорогах.
Тем не менее люди не всегда хорошие. Каждый месяц на eBay обнаруживаются новые формы мошенничества, и каждый случай подвергается тщательной проверке со стороны компании. Сложные программы внимательно следят за подозрительным поведением при выставлении ставок. Однако сайт продолжает успешно работать не благодаря бдительности служб, препятствующих деятельности мошенников (которые в любом случае имеют возможность отслеживать лишь незначительную часть аукционов, которых насчитываются миллионы), а благодаря более простому механизму – обратной связи. Возможность получить положительный отклик и избежать негативных комментариев крайне важна, и об этом знает любой, кто когда-либо продавал или покупал товары на аукционе. Это связано не только с желанием хорошо выглядеть в глазах других, но и с тем, что, как показало одно исследование, продавцы с неподмоченной репутацией могут успешно выставлять свои лоты с наценкой до 8 %{161}. Как бы то ни было, обратная связь (при условии, что она правдива{162}) – социальный клей, не позволяющий eBay распасться на части.
Но что если бы аналогичная система использовалась и в дорожном движении? Эта идея была детально рассмотрена в достаточно провокационной работе Лиора Страхилевича, преподавателя права в Чикагском университете. «Современное, урбанистическое шоссе чем-то напоминает eBay, хотя и без оценки репутации участников, – писал он. – Большинство водителей на шоссе обладают нужными навыками и готовы к сотрудничеству с другими, однако при этом существует достаточно заметное меньшинство, наносящее вред всему сообществу: устраивающее аварии, провоцирующее задержки движения, создающее стрессовые ситуации. Все это приводит к росту страховых взносов»{163}.
На многих транспортных средствах, принадлежащих компаниям, размещены специальные наклейки с номерами телефонов. Если другие водители видят, что данное транспортное средство нарушает правила движения или каким-то иным образом мешает другим, они могут позвонить в колл-центр, изложить свою жалобу и сообщить идентификационный номер. Но можно и похвалить законопослушного водителя корпоративного транспортного средства. По всем звонкам ведется детальный учет, и в конце каждого месяца водители получают список позитивных и негативных комментариев о своем поведении на дороге. Если бы такую систему можно было применить в отношении всех участников дорожного движения, то водители, допускающие слишком много нарушений, могли бы понести наказание. Например, для них могла бы быть повышена ставка страховки. Они могли бы даже лишиться прав. Страхилевич считает, что эта система может быть более эффективной, чем нерегулярное применение законодательных санкций, которые охватывают лишь небольшую часть нарушений на дорогах. Полиция зачастую вынуждена выписывать штрафы лишь в случае наиболее вопиющих нарушений (например, превышения скорости). Обычно полиция не может ничего сделать в случае не столь очевидных, но довольно опасных моментов, с которыми сталкивается каждый из нас. Как часто вы отчаянно желали, чтобы полицейская машина появилась из ниоткуда и поймала нарушителя, занимающегося по-настоящему опасными делами, например висящего у вас на хвосте или строчащего эсэмэски за рулем? Это могло бы помочь страховым компаниям более эффективно определять ставки, не говоря уже о том, что раздраженные водители могли бы получить более безопасный и полезный вариант выражения своего несогласия. Это было бы справедливо.
Но что же делать, если отклики неискренни? Что если ваш сосед, раздраженный лаем вашей собаки, напишет, что вы грубо нарушили правила проезда перекрестка? Страхилевич указывает, что в данном случае нам могла бы помочь схема, применяемая на eBay: специальные программы могли бы «вынюхивать» подозрительную деятельность – например, такие отклонения, как один негативный комментарий в ряду множества позитивных или повторяющиеся негативные комментарии от одного и того же человека. Стоит ли в данном случае беспокоиться о защите частной жизни? Это важный вопрос – фактически получается, что люди могут терроризировать остальных участников дорожного движения только потому, что скрываются под маской. Дорога – не частная территория, а превышение скорости – не частное дело каждого. Страхилевич утверждает: «Мы должны защищать тайну частной жизни лишь тогда, когда это на пользу всему обществу».
На самом деле некоторые менее амбициозные и не вполне официальные версии этой идеи уже были опробованы на практике{164}. Сайт Platewire.com, который, по словам его создателя, был призван «заставить людей в той или иной форме отвечать за свои действия на дорогах», позволяет водителям разместить жалобы на нарушения с указанием данных номерного знака нарушителя. Там можно встретить такие записи, как «Слишком занята своей прической» или «Придурок на Audi». И, к сожалению, значительно реже там обнаруживаются похвалы в адрес других водителей.
Намерения благие, однако недостатки подобных сайтов очевидны. Например, на момент написания этой книги у Platewire было около 60 тысяч подписчиков – небольшая доля лиц, имеющих право водить машину в США. Иными словами, жалобы на сайте просто пропадают напрасно. Кроме того, с учетом случайного характера трафика шансы на то, что я когда-либо встречусь на дороге с водителем автомобиля с номерным знаком VR347N, выданным в Нью-Джерси, крайне малы (даже меньше, чем шансы на то, что он прочтет эту книгу). Кроме того, даже встретившись с ним, я вряд ли вспомню, что, согласно комментарию на сайте Platewire, он «читал газету» во время управления автомобилем на трассе! И, наконец, Platewire явно недостает реальных последствий размещения комментариев (если не считать анонимного возмущения очень небольшого количества посетителей).
Колл-центр помог бы решить проблему анонимности, присущей трафику (и связанного с ней неблаговидного поведения). Заодно можно было бы разобраться и с другой проблемой – отсутствием обратной связи. Как уже упоминалось ранее, сама механика вождения позволяет нам выступать в роли наблюдателя при многих нарушениях, не обращая внимания на собственное поведение. Неудивительно, что себя как водителей большинство людей оценивает достаточно высоко, невзирая на реальные результаты или количество штрафов (об этом свидетельствует целый ряд проведенных исследований){165}.
По данным огромного количества исследований, проведенных от США до Франции и Новой Зеландии, большинство автомобилистов считают, что их навыки вождения значительно выше «среднего уровня»{166}. Разумеется, со статистической точки зрения это невозможно и чем-то напоминает слоган в духе «Монти Пайтон» – «Мы все выше среднего!»[26] Психологи называют это явление «оптимистическим искажением» (или «эффектом выше среднего»), но его причины так и остаются тайной. Возможно, мы просто хотим казаться лучше других (подобно героям рассказа в первой главе, которые оценивали степень своего благосостояния, высокомерно глядя на людей, стоявших в очереди за ними). Возможно, все дело в каком-то психическом костыле, который нужен нам для того, чтобы не бояться вождения (которое многим из нас может казаться самым сложным испытанием в жизни){167}.
Какова бы ни была причина, есть достаточно серьезные основания считать, что мы завышаем самооценку во многих случаях, зачастую на свой страх и риск. Инвесторы часто говорят о том, что выбирают акции для формирования портфеля лучше, чем многие другие игроки на рынке, но как минимум одно исследование счетов брокерских компаний показало, что самые активные (и, возможно, самые самоуверенные) трейдеры заработали меньше всего{168}. На вождение может оказывать значительное влияние «эффект выше среднего». Психологи обнаружили, что оптимистическое предубеждение сильнее всего проявляется в ситуациях, которые мы можем контролировать; одно исследование показало, что, когда водителей попросили оценить шансы попасть в ДТП, они оказались в среднем куда более оптимистичными, чем пассажиры{169}.
«Эффект выше среднего» объясняет, почему водители (по крайней мере поначалу) сопротивляются новым мерам обеспечения порядка на дорогах, начиная от ремней безопасности и заканчивая ограничениями на использование мобильных телефонов. Например, опросы показали, что большинство водителей хотело бы, чтобы отправка текстовых сообщений во время вождения была запрещена; однако эти же люди и сами часто отправляли текстовые сообщения, находясь за рулем{170}. Мы склонны переоценивать риски для общества и недооценивать риск, связанный с нами самими{171}. Мы считаем, что необходимо контролировать поведение других людей, а не наше собственное. Такое объяснение помогает понять, почему возникает разрыв между социальными нормами и законодательными актами во всем, что касается развивающихся технологий{172}. Мы полагаем, что более жесткие законы отлично подходят для тех, кто в них нуждается.
Еще одна проблема самовосприятия заключается в том, что мы склонны оценивать себя выше (как показывают исследования) в случаях, когда речь идет о сравнительно простых видах деятельности (например, вождении), а не о более сложных (например, жонглировании несколькими предметами). Психологи предположили, что «эффект озера Вобегон[27]» – «места, где все дети лучше среднего» – значительно чаще проявляется, когда обсуждаемые навыки не так очевидны{173}. Олимпиец, прыгающий с шестом, достаточно четко понимает, насколько он лучше всех остальных: это оценивается с помощью высоты планки, которую необходимо преодолеть. А как оценивать работу водителя, которому удалось без инцидентов добраться от работы до дома? Заслуживает ли он 9 баллов из 10?
Важнее всего то, что мы можем чересчур высоко оценивать свои водительские навыки лишь потому, что не способны вынести точное суждение. Нам не хватает так называемого метапознания. Иными словами, как утверждают психологи из Корнелльского университета Джастин Крюгер и Дэвид Даннинг, мы «не имеем нужных навыков и не понимаем этого»{174}. По аналогии, человек, не знакомый с правилами грамматики английского языка, менее точно сможет оценить грамматическую правильность определенного текста (этот пример был приведен в работе Крюгера и Даннинга). Итак, водитель, не в полной мере представляющий себе опасности, связанные со следованием на хвосте другой машины, или не знающий правил дорожного движения, вряд ли сможет адекватно оценить рискованность собственных действий или качество вождения в сравнении с остальными. Водители, плохо сдавшие экзамены или участвовавшие в ДТП, показывали значительно более низкие результаты в ходе простых тестов на реакцию по сравнению со «статистически лучшими» (практикующими более безопасную езду){175}. Тем не менее, как уже было указано выше, люди склонны не обращать внимания на факты при оценке своих навыков.
Итак, вне зависимости от того, задираем ли мы нос (пытаясь компенсировать свой страх) или просто не представляем себе реальной картины происходящего, наши дороги заполнены в основном водителями «выше среднего уровня» (в особенности мужчинами){176}, каждый из которых, по всей видимости, хочет сохранить ощущение собственной уникальности. Я готов выдвинуть совершенно ненаучное предположение, что это объясняет – как минимум для Америки, – почему водители, участвующие в опросах, с каждым годом считают дороги все менее безопасными. В опросе, проведенном в 1982 году, многие автомобилисты считали, что большинство других людей ведет себя на дороге достаточно «вежливо». Когда же тот же самый опрос был повторен в 1998 году, количество «грубых» водителей значительно перевесило количество «вежливых»{177}.
Как это связано с нашим раздутым эго? Психологи предполагают, что агрессивное вождение вызвано в первую очередь нарциссизмом, а не ощущением неуверенности в себе{178}, подкрепляемым низкой самооценкой{179}. Подобно тому, как данные исследований показывают значительное различие в количестве сексуальных партнеров, указываемом мужчинами и женщинами{180}, опросы на тему агрессивного вождения показывают, что люди чаще замечают его у других, чем у себя{181}. Судя по всему, кто-то здорово приукрашивает картину. Уровень нарциссизма постоянно растет. Существует известное исследование нарциссического типа личности, которое на протяжении нескольких десятков лет оценивает признаки такого поведения в обществе (в частности, измеряя реакцию на заявления вроде «если бы я управлял миром, то он был бы куда лучше»). Психологи, анализировавшие результаты исследования, обнаружили, что в 2006 году две трети респондентов показали более высокие результаты, чем в 1982 году. Судя по всему, все больше людей имеет «более позитивное и раздутое представление о самих себе»{182}. В то же время, если верить другим исследованиями, дорога становится менее привлекательной для людей. Трафик как система, требующая соблюдения правил и сотрудничества, все чаще используется людьми, каждый из которых думает: «Если бы я управлял дорогой, она была бы куда более приятным местом».
Когда мы сталкиваемся с негативной обратной связью на дороге, то либо пытаемся максимально быстро найти устраивающее нас объяснение, либо просто забываем об этом. Мы воспринимаем штрафы как редкость и полагаем, что полицейские налагают их исключительно «ради галочки»{183}. Сигнал другого транспортного средства вызывает у нас гнев, а не стыд или сожаление; любая авария воспринимается как обычная неудача. Однако чаще всего большинство людей не сталкиваются с негативной обратной связью (как и с любой другой). Мы ездим на машине каждый день, обычно без аварий, и каждый день наше поведение чуть лучше среднестатистического. Как объяснил Джон Ли, глава Лаборатории когнитивных систем Университета штата Айова: «Вы, как средний водитель, можете совершать немало неправильных поступков, пока не столкнетесь с реальной бедой. Это одна из проблем. Отклик уходит в пустоту. Вы можете быть плохим водителем на протяжении многих лет, не понимая этого, просто потому, что вам никогда об этом не говорили. Вы можете много лет ездить за рулем, разговаривая по мобильному телефону, и думать: “Почему кто-то говорит, что мобильные телефоны опасны, я разговариваю за рулем по два часа в день – и никогда ничего плохого не случалось”. Считайте, что вам просто повезло».
Моменты, когда мы едва не попали в аварию, могли бы стать для нас откровением и своего рода предупреждением. Однако, как писал в своей книге «Человеческая ошибка» психолог Джеймс Ризон: «Если вам удается избежать аварий, то этот опыт может быть не столь однозначным»{184}. Проблема в том, что мы учимся избегать аварий, не попадая в них. Однако ситуация, когда мы почти избежали аварии, обычно обусловлена тем, что вы совершили некую изначальную ошибку, после чего начинается процесс ее исправления. А это заставляет нас задуматься над несколькими вопросами. Может ли уклонение от аварии научить нас не попадать в них или же оно помогает нам не допускать ошибок, из-за которых мы оказались в этой ситуации? Учит ли уклонение от небольших аварий тому, как избежать крупных ДТП? Чему мы учимся на своих ошибках?
Чему они могут научить нас? Этот вопрос задали себе сотрудники технологической компании DriveCam[28], расположенной в офисном комплексе в пригороде Сан-Диего. Я провел день в этой фирме, отсматривая видеоматериалы об авариях, ситуациях, чуть не приведших к авариям, и особо зрелищных актах бездумного вождения. DriveCam представляет собой простое устройство: небольшая камера, расположенная рядом с зеркалом заднего вида, постоянно отслеживает действия водителя и окружающую обстановку (примерно так же, как устройство TiVo, контролирующее программы на вашем телевизоре). Сенсоры отслеживают действие различных сил, влияющих на транспортное средство. Когда водитель резко жмет на тормоза или совершает внезапный поворот, камера записывает все происходящее за 10 секунд до события и в течение 10 секунд после него. Затем клип отправляется аналитикам DriveCam, которые помещают его в базу данных, при необходимости снабжая комментариями.
DriveCam, девиз которой гласит: «Исключить риск из процесса вождения», устанавливает свои камеры повсюду, начиная от грузовиков Time Warner Cable[29] и заканчивая такси в Лас-Вегасе и автобусами в аэропортах. У компаний, установивших DriveCam, показатели аварийности снизились в среднем на 30–50 %. Компания считает, что ее система имеет целый ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами снижения аварийности коммерческого транспорта. По словам CEO[30] DriveCam Брюса Моллера, поначалу компания проводила тренинги безопасного вождения. «Водители приходили к нам. Поначалу все были преисполнены энтузиазма и говорили: “Я буду делать все по правилам”. Однако проходит время – и вы начинаете воспринимать ситуацию иначе. Ты никого не задел, никто на тебя не наорал. Что ж, все хорошо и ты доволен, но постепенно начинаешь возвращаться к своим старым привычкам». «Широко распространенная в 80-е практика использования горячей линии “Хорошо ли я вожу машину” могла бы создать возможность для получения постоянной обратной связи, но зачастую она либо поступала слишком поздно, либо была довольно некачественной, – говорит вице-президент компании Дел Лиск. – Система крайне уязвима перед субъективностью звонящих. Это чем-то напоминает ситуацию, когда меня бесит счет за телефон и я звоню в AT&T и обрушиваюсь на оператора.
Поскольку корпоративный транспорт, по статистике, наиболее опасная рабочая среда{185}, справедливо считать, что DriveCam вдохновлялась деятельностью Х. В. Хайнриха, сотрудника компании Travelers Insurance Company, занимавшегося расследованием страховых случаев, и автора знаменитой книги «Предотвращение производственных травм: научный подход»[31], вышедшей в 1931 году. После изучения десятков тысяч несчастных случаев на производстве он вычислил, что на каждый смертельный случай или серьезную травму на рабочем месте приходилось 29 легких травм и 300 ситуаций, когда травмы едва удавалось избежать. Ученый расположил все эти ситуации в так называемом треугольнике Хайнриха и предположил, что исключить событие на вершине треугольника можно, если устранить ряд небольших событий в его основании{186}.
Когда я впервые встретился с Моллером, он сразу же мне сказал: «Если бы мы поместили камеру DriveCam в ваш автомобиль, не будучи знакомы с вами, то гарантирую: мы смогли бы выявить у вас привычки, связанные с вождением, о которых вы не имеете ни малейшего представления, но которые могут привести к аварии». Он указал на треугольник Хайнриха, нарисованный на доске дня. «Вы знаете о 29 случаях – авариях и смертельных исходах, – потому что у вас есть однозначные факты: кто-то погиб или попал в аварию, – сказал он. – С помощью DriveCam мы показываем вам массу других примеров небезопасного поведения, находящихся здесь, – он указал на основание треугольника, – которые могут привести к аварии, если вам не повезет».
По словам Лиска, ключ к снижению числа того, что в DriveCam называют «предотвратимыми авариями», лежит в основании треугольника, во всех незамеченных и забытых случаях, когда удалось избежать столкновения. «Большинство людей используют два верхних уровня, чтобы рассчитать, насколько они хороши как водители. На самом деле основной критерий оценки – то, что находится на уровне основания». Иными словами, водители оценивают свою деятельность по количеству аварий и штрафов. Те же, кто ездит по дорогам рядом с ними, рассматривают ситуацию совершено иначе. «Все мы, будучи пассажирами, – говорит Лиск, – будем сидеть рядом с водителем и оценивать то, что он делает, по всем уровням пирамиды, сжимаясь в кресле и рефлекторно упираясь ногами в пол при каждом неудачном маневре».
Когда я играл роль виртуального пассажира в DriveCam, мне в голову начали лезть довольно неприятные мысли. Очевидно, на дороге можно увидеть массу примеров безумного вождения. Так, в одном клипе мужчина отрывает руки от руля, чтобы побоксировать с игрушечной грушей, висящей на зеркале заднего вида. В множестве клипов водители изо всех сил стараются держать глаза открытыми, а голову прямо. «У нас есть запись, на которой водитель наполненного до отказа бензовоза спит в течение целых 8 секунд, при этом двигаясь по трассе», – сказал Моллер.
Но самое тревожное – даже не само предаварийное событие, а то, что показывает камера в самые обычные моменты. В одном клипе мужчина отрывает взгляд от дороги и набирает номер на мобильном телефоне, хотя при этом едет по жилому микрорайону, где полно пешеходов. Его глаза не смотрят на дорогу на протяжении 10 секунд, а автомобиль в это время начинает съезжать к тротуару.
Ощутив необычную вибрацию, водитель резко возвращает автомобиль на привычную траекторию. На его лице отражается странная помесь шока и облегчения. Однако если рассмотреть изображение повнимательнее, то можно заметить, что в нескольких метрах от автомобиля стояли двое детей с велосипедом. «Как вы думаете, видел ли водитель этих детей? – спрашивает Лиск. – Ему просто повезло. Вот так и работает пирамида».
Проблема заключалась не только в том, что автомобилист не до конца понимал, к каким страшным последствиям может привести его неправильное поведение. Он не осознавал даже тот очевидный факт, что поступает неправильно. «Возможно, он хороший парень, хороший семьянин и отличный работник, – сказал Лиск. – Он даже не понимает, что происходит. Если бы мы рассказали ему, что произошло на самом деле, то, возможно, он бы нам не поверил». При отсутствии видеофиксации водитель может не до конца осознавать возможные последствия своей ошибки. «Я верю в то, что не способен сбить ребенка, но только потому, что не знаю, насколько это просто, – сказал Моллер. – Я думаю, что достаточно умел и со всем справлюсь. Я могу посмотреть на экран своего смартфона, набрать номер или отхлебнуть из бутылки. Мы все совершенно необоснованно считаем, что не можем попасть в беду».
Разумеется, когда авария все-таки случается, мы начинаем думать иначе. Обычно мы воспринимаем произошедшее как «несчастный случай», потому что не хотели совершить ничего плохого или не могли ее предотвратить. Но «несчастный случай» – это выражение для описания того, что случается с самым внимательным водителем, когда на дорогу перед ним внезапно падает дерево. Можно ли назвать несчастным случаем то, что произошло с игроком бейсбольной команды St. Louis Cardinals Джошем Хэнкоком, трагически погибшим в 2007 году, когда арендованный им внедорожник на большой скорости въехал в остановившийся на шоссе (из-за другой аварии) грузовик с горящими аварийными огнями? В ходе расследования выяснилось{187}, что Хэнкок (разбивший собственный внедорожник за несколько дней до смерти) значительно превысил скорость, не был пристегнут ремнем безопасности и разговаривал во время аварии по телефону. Кроме того, уровень алкоголя в его крови почти в два раза превышал допустимую норму.
Несмотря на одновременное присутствие всех этих факторов, повышающих риск, произошедшее было описано в прессе как «несчастный случай». Нечто подобное случилось и с конгрессменом от Южной Дакоты Биллом Янклоу. Этот любитель погонять на высокой скорости получил за четыре года не менее 10 штрафов. На своем рекламном плакате он представал в образе человека, предпочитающего «ехать по быстрой полосе». В 2003 году Янклоу не обратил внимания на знак «Стоп» и сбил на перекрестке мотоциклиста{188}. Разумеется, пресса представила это как «несчастный случай».
В 2001 году British Medical Journal указал, что более не планирует использовать это словосочетание в своих публикациях. В статье говорилось, что оно предполагает непредсказуемость и непредотвратимость происшедшего. Но были ли аварии с участием Хэнкока или Янклоу непредсказуемыми или непредотвратимыми? Разумеется, они не были намеренными, но можно ли сказать, что «некоторые аварии более непреднамеренные, чем другие»{189}? Случились ли они «без видимых оснований» или же можно было что-то сделать для их предотвращения (либо, как минимум, снижения шансов их возникновения)? Люди – это люди, и всегда что-нибудь идет не так. Иногда вам просто не везет. Психологи утверждают, что людям свойственно постфактум преувеличивать степень предсказуемости событий («все мы задним умом крепки»){190}. Однако, используя понятие «несчастный случай», мы становимся на скользкую дорожку. Оно, по сути, прикрывает самые яркие примеры недопустимого поведения водителей. Это, в свою очередь, заставляет нас предположить, что многие аварии на дорогах никак не зависят от наших действий, а случаются сами по себе, каким-то таинственным образом. Нам начинает казаться, что мы можем избежать аварий или предотвратить тяжелые последствия, добавив пару-тройку воздушных подушек (забывая, что, к сожалению, подобных устройств обеспечения безопасности нет у пешеходов).
Большинство аварий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, не всегда умышленного{191}. Но в наши дни размыт даже смысл понятия «умышленность». В 2006 году один водитель в Чикаго, потянувшийся за мобильным телефоном во время управления внедорожником, потерял контроль над машиной, в результате чего погиб пассажир другого автомобиля. Семья жертвы заявила: «Если он не пил и не употреблял наркотиков, то это несчастный случай»{192}. Это заявление может показаться абсурдным, особенно учитывая, что человек сознательно нарушил закон; однако судья с ним согласился, и виновника оштрафовали на 200 долларов. Странное отношение проявляется и к лицам, превышающим скорость. С точки зрения права существует огромная разница между водителем, который выпивает слишком много алкоголя и убивает кого-то, и водителем, который убивает кого-то из-за того, что превышает установленное ограничение скорости{193}.
Аналогичное искажение часто отмечается в выпусках новостей, когда в рассказе о жертвах звучит фраза: «Участники не находились под воздействием алкоголя или наркотиков». По сути это снимает с водителя часть ответственности – даже если он значительно превысил установленную скорость. Если бы автопроизводители рекламировали примеры вождения машин в нетрезвом виде, то их бы (вполне справедливо) оштрафовали. Но, как показывает исследование североамериканских рекламных роликов автомобилей, проведенное группой канадских ученых, почему-то считается вполне допустимым показывать вождение машины трезвыми водителями в стиле, который фокус-группы, состоящие из сторонних зрителей, назвали «ужасающим». Почти в половине из 200 роликов (само собой, там были все необходимые предупреждения) большинство участников обнаружили «элементы небезопасного вождения», в частности высокую скорость. Наиболее часто этим грешили рекламные ролики внедорожников (а большинство водителей были мужского пола){194}.
Как показывают видеоматериалы DriveCam, в большинстве случаев аварии происходят не из-за непредвиденных ситуаций, а из-за того, что люди совершают поступки, делающие аварии «непредотвратимыми». Если бы водитель, о котором я рассказывал выше, сбил ребенка, стоявшего на обочине, то это бы считалось «несчастным случаем» – в том смысле, что автомобилист не намеревался это делать. Но можно ли считать это просто «неудачным стечением обстоятельств»? Психолог Ричард Уайзмен показал в ряде экспериментов, что люди сами творят свою «удачу». Например, люди, у которых много знакомых, могут показаться более удачливыми, чем те, у кого такого количества знакомых нет (те же, у кого нет шансов повстречаться с нужными людьми, чаще считают себя «неудачниками»){195}.
Мы не можем полностью предотвратить «неудачное стечение обстоятельств», но согласитесь, что водитель машины, разговаривающий по мобильному телефону и из-за этого чудом не сбивающий детей, фактически навлекает на себя несчастье. Метод DriveCam позволяет любому водителю достаточно легко увидеть, что же он делает не так. Но главный вопрос в данном случае звучит так: почему они не ведут себя правильно? Почему люди предпочитают подвергать самих себя и других ненужному риску? Можно ли считать их слишком небрежными, невежественными, самоуверенными, упрямыми – или же просто обычными? Способны ли мы действительно научиться чему-то на своих ошибках до того, как они приведут к реальным последствиям?
Психологи уже продемонстрировали, что наша память, как мы и предполагали, предпочитает сохранять самые свежие события. Также мы склонны лучше «запоминать последние слова» – например, когда нам сообщают серию серьезных фактов, а потом просят полностью перечислить их. Исследования подтвердили, что люди склонны со временем забывать дорожные происшествия, в которые они попадали в прошлом{196}. Аналогичным образом авария или случаи, когда нам чудом удалось избежать ее, запоминаются куда более живо, чем предшествующие события. «Вы точно запомните, как чуть не врезались в другую машину, но ценой забвения всего, что происходило непосредственно перед этим», – объяснил Расти Вайсс, директор подразделения DriveCam по работе с потребителями. Свою роль в этом процессе играет и время. Исследование, проведенное в британском Ноттингемском университете под руководством Питера Чапмена и Джеффа Андервуда, показало, что водители забывали на 80 % больше информации о событиях, предшествовавших аварии, если их просили вспомнить детали через две недели (а не непосредственно после инцидента){197}. Именно в этом и заключается суть DriveCam: камера не позволяет вам забывать о непредсказуемости и шаткости, связанных с вашим пребыванием на дороге.
Вайсс, пришедший в DriveCam после того, как организовал программу по установке камер в автомобилях подростков в Миннесоте, предполагает, что амнезия, «помогающая» нам забыть о причинах аварии, особенно опасна для начинающих водителей. Но именно они, как ни странно, чаще остальных оказываются в рискованных ситуациях. «У этих ребят есть идеальная возможность научиться чему-то новому, – говорит он. – Однако они продолжают, как и прежде, совершать массу ошибок. Они говорят, что ехали, как полагается, однако затем видят ролик и ужасаются. Это чем-то напоминает видеоповтор при ударе гольфиста. Вы видите вещи, о которых вы не имели ни малейшего представления в момент удара».
Основная проблема этих ребят заключается в том, что они попросту забывают моменты, которые могли бы помочь им научиться чему-то новому. Еще одно исследование, проведенное Чапменом и Андервудом, показало, что, когда водителям показывали видеофрагменты опасных ситуаций на дороге, новички запоминали меньше деталей происходящего, чем опытные автомобилисты{198}.
Возможно, одна из причин заключалась в том, что они не туда смотрели. Исследователям уже давно известно, что неопытные водители осуществляют «визуальный поиск» совсем не так, как опытные. Они слишком часто смотрят прямо перед машиной и обращают чрезмерно много внимания на края дороги. Они редко глядят в боковые зеркала, даже при перестроении на другую полосу. Знание того, куда надо смотреть – и запоминание того, что вы видите, – признак настоящего профессионализма{199}. Нечто сходное было обнаружено при исследовании движения глаз в процессе изучения изображений. Оказалось, что люди, не считающие себя художниками, смотрят на отдельные элементы картины (например, лица), а художники «сканируют» всю картину{200}. Исследователи, изучающие поведение водителей, могут легко рассказать об уровне их профессионализма, наблюдая за тем, как и куда они смотрят.
Водители-подростки – идеальная аудитория для DriveCam, причем по множеству причин. Так же как и водители служебного транспорта, подростки часто пользуются не принадлежащими им автомобилями, а также ездят под контролем авторитетов – родителей. Во время пробного эксперимента в Айове камеры DriveCam были установлены в автомобили 25 учащихся на период 18 недель. Записанные камерой предаварийные события отправлялись родителям, а баллы за нарушения (сопровождавшиеся анонимными идентификационными кодами) публиковались в Сети, что давало водителям возможность однозначно оценить свои результаты в сравнении с результатами сверстников. По словам руководителя эксперимента Дэниела Макги, директора программы по исследованию человеческого фактора и безопасности транспортных средств Центра общественных работ Айовского университета, подростки в этом штате (вследствие сельскохозяйственного характера его экономики) начинают водить с 14 лет. «И это приводит к совершенно невиданному количеству аварий», – говорит он. Кроме того, подростки в Айове проводят за рулем довольно много времени: за 13 месяцев 25 водителей проехали свыше 360 000 миль, причем в основном ездили по статистически наиболее опасным дорогам: двухполосным шоссе в сельской местности.
Первые же из показанных видеофрагментов заставляли зрителей серьезно задуматься: водители бездумно проезжали на красный свет или же пели и смотрели по сторонам перед тем, как войти в резкий поворот дороги, идущей между кукурузных полей. Мне было несколько неловко нарушать тайну частной жизни в те моменты, когда подростки-водители демонстрировали свои самые откровенные эмоции. Но, судя по всему, сами они, выросшие в эпоху реалити-шоу, не считают это проблемой. На камере DriveCam имеется особая кнопка, нажав на которую водители могут прокомментировать произошедшее событие. Некоторые подростки пользовались ею, чтобы вести дневник происходящего с ними, причем зачастую их откровенные рассказы касались событий, совсем не связанных с вождением автомобиля. По словам Макги, вождение позволяет шире приоткрыть дверь в мир подростков. «Мы могли легко сказать, когда у водителя появлялась новая подружка. Он начинал выделываться и ездить значительно более агрессивно».
Однако исследователей заинтересовали не видеопризнания или особенности поведения, связанные с романтическими отношениями, а вопросы безопасности. Чуть позже, после 16 недель эксперимента, я вновь поговорил с Макги. «У самых рисковых водителей количество нарушений правил поведения на дороге снизилось на 76 %, – сказал он. – Чем дольше продолжается эксперимент, тем менее рискованным становится вождение». Если раньше такие водители попадали в опасные ситуации по 10 раз в день, то теперь, по словам Макги, 1–2 раза в неделю. «Изменилась даже степень серьезности нарушений, – заметил он. – Может быть, они, как и прежде, проходят повороты на слишком высокой скорости, но при этом уже не вылетают с трассы»{201}.
Так что же происходило с подростками? Боялись ли они неприятных разговоров с родителями? Замечали ли, что совершают ошибки? Или они просто играли с системой, пытаясь взломать ее тайный код, перехитрить ее, как на экзаменах в школе? «Думаю, это показывает нам, что водители в подобной ситуации психологической петли становятся датчиками собственного поведения, – считает Макги. – У них внутри появляется маленький встроенный спидометр – они начинают чувствовать, когда нарушают правила». Вайсс из DriveCam утверждает: «Один парень сказал мне: “Я понял, как перехитрить систему. Я просто смотрю вперед и оцениваю, что ждет меня впереди. Я замедляюсь перед прохождением поворотов, и в течение месяца мне удалось не заработать ни одного штрафного балла”. Не знаю, осознавал он это или нет, но он вел себя как хороший и профессиональный водитель».
Но что же происходит, когда камеры DriveCam убирают из автомобилей? «Я не собираюсь притворяться и утверждать, что DriveCam – больше, чем просто внешняя мотивационная система», – говорит Моллер. Он признает, что в первые дни пользования прибором одного факта присутствия камеры достаточно для того, чтобы водитель начал ездить более аккуратно. Это напоминает знаменитый Хоторнский эксперимент[32], в рамках которого испытуемые меняли свое поведение только потому, что знали об участии в эксперименте. Однако при отсутствии последующего общения с экспертами, без «закрытия петли обратной связи», положительные результаты постепенно исчезают. «Водитель начинает думать: “Камера довольно неназойлива. Ничего плохого не произойдет – она станет записывать действия только в момент возможной аварии”, – рассказывает Моллер. – Когда же вы добавляете в систему элемент общения с экспертом или наставником, то водитель понимает, что у его рискованного поведения на дороге будут немедленные и достаточно определенные последствия. Этой 20-секундной потери тайны частной жизни бывает вполне достаточно для исправления поведения многих людей».
Главный урок DriveCam связан не с навыками вождения как таковыми (например, умением проходить повороты или избегать препятствий), а скорее с избеганием ошибок, порожденных чрезмерной уверенностью в себе. В этом смысле очень интересен эксперимент, который проводил Вайсс в клинике Мэйо в штате Миннесота. Задача состояла в том, чтобы машины «скорой помощи» стали более безопасными и комфортными для пациентов. Предполагалось, что DriveCam будет включаться достаточно регулярно в ситуациях, требующих решительных действий, когда водители с включенными фарами и сиренами везут на огромной скорости пациентов в больницу, срезая углы и проскакивая перекрестки на красный свет. Но на самом деле все обстояло совсем не так{202}. «Оказалось, что когда ты едешь с сиреной, то проехать на красный свет несложно, – объяснил Вайсс. – На самом деле основная масса нарушений совершалась именно в спокойные моменты». Вайсс, сам когда-то работавший санитаром и водителем машины «скорой помощи», так объясняет это: «Главное различие между ситуациями, когда ты несешься с сиреной и едешь спокойно, заключается в степени концентрации. Быстро едущие водители сразу же видят все возможные угрозы и смогут быстрее притормозить, когда им кажется, что их не видят. Так что, когда ты едешь с включенными фарами и сиреной, то можешь двигаться быстро, но плавно».
У большинства наших машин нет сирен со специальным сигналом, поэтому повседневное вождение оказывается более разнообразным. По мере того как мы привыкаем к рутине, меняется наше ощущение возможного: насколько близко к другой машине мы можем ехать, с какой скоростью способны проходить повороты. Мы постепенно начинаем воспринимать новое состояние как естественное. Мы забываем то, что поняли исследователи из Стэнфорда, пытавшиеся научить робота вождению: это не так просто, как кажется. Лиск, который в утро нашей встречи изучил довольно много отчетов о столкновениях на дороге, сказал: «Большинство аварий произошло с людьми, которым просто не хватало места или которые были недостаточно внимательны. Во многих случаях причиной было отсутствие старых добрых навыков вождения».
Он показал мне один видеофрагмент, где водитель на высокой скорости ехал в направлении свободной кассы на платной дороге, причем по обе стороны от него стояли длинные ряды машин. «Водителю кажется, что его трасса свободна и открыта. Это напоминает мышление игрока в американский футбол: автомобилист считает, что все игроки противоборствующей команды заблокированы и не могут ему помешать, поэтому он может нестись вперед во весь опор, – сказал Лиск. Водитель, судя по всему, представлял, что он уже миновал всю очередь и ничто не помешает ему подъехать к кассе. Была только одна проблема: все другие водители тоже хотели занять теплое местечко. – Они заперты на своей полосе, поэтому для совершения маневра им приходится двигаться на низкой скорости и под довольно острым углом. Много аварий как раз и происходит, когда водители не успевают достаточно замедлиться при подъезде к этой рискованной зоне дороги».
Возможно, это объясняет, почему системы автоматической оплаты E-ZPass[33] на платных дорогах, которые теоретически должны помочь в снижении количества аварий в этих статистически рискованных зонах (водителям больше не нужно рыться в карманах в поисках мелочи), наоборот приводят к росту столкновений. Водители приближаются к ним на высокой скорости, потому что им не преграждает дорогу шлагбаум, а контроль права на проезд и списывание денег осуществляются автоматически. А в это время другие машины, оказавшись «не в той очереди»{203}, начинают перестраиваться – причем куда чаще, чем в рамках старой системы (не дававшей возможности рыскать в поисках более короткой очереди).
Каждый месяц DriveCam получает свыше 50 тысяч видеофрагментов. По словам Моллера, компания стала крупнейшим в мире «хранилищем данных о рискованном поведении водителей». Используемая технология позволяет увидеть то, что на протяжении почти всей истории автомобилестроения было «закрытым миром»: внутреннюю жизнь водителя.
«Поведение водителя» в прежние времена отслеживалось с помощью различных симуляторов или даже исследователя, сидевшего в машине с блокнотом в руках. Разумеется, это ничем не напоминало вождение в реальных условиях. За автомобилями можно было наблюдать снаружи, например через камеры, но это не позволяло понять, что делает в тот или иной момент водитель. Изучение аварий основывалось на полицейских отчетах и показаниях свидетелей, которые были не лишены искажений (особенно слова очевидцев).
Если авария очень серьезна, водители склонны обвинять в ней кого-то другого (об этом говорят данные многих исследований){204}. В ходе еще одного исследования группе людей демонстрировались видеозаписи дорожно-транспортных происшествий. Когда участников просили (по прошествии недели) определить скорость машин в момент аварии, они оценивали ее значительно выше в случаях, когда в вопросах содержались слова типа «катастрофа», чем слова «удар» или «контакт»[34]. При наличии слова «катастрофа» большинство участников вспоминало о разбитых стеклах (причем даже тогда, когда на самом деле стекла автомобилей оставались целыми){205}. Собственные воспоминания водителей об авариях часто затуманиваются из-за желания снизить степень собственной ответственности (возможно, они не хотят портить представление о себе или стремятся избежать юридической ответственности). «Закон Бейкера», названный так в честь знаменитого исследователя аварий Дж. Стеннарда Бейкера, гласит, что водители «склонны при объяснении причин дорожных происшествий говорить о своей невиновности до той поры, пока окружающие могут им поверить{206}», – иными словами, они придумывают максимально правдоподобную и обеляющую их историю.
До момента появления камер DriveСam было достаточно сложно анализировать ДТП, которые почти произошли. Практически не существовало возможности определить, почему водитель оказался на грани аварии либо насколько часто он бывает в подобной ситуации. И если с вершиной треугольника Хайнриха все было понятно, то его основание представлялось тайной, покрытой мраком.
В наши дни все изменилось, и новые широкомасштабные исследования с помощью устройств наподобие камер DriveCam позволяют нам лучше понять, каким образом ведут себя водители. А главное, мы можем выяснить, почему сталкиваемся с проблемами на дорогах. Чаще всего это никак не связано с опасностями, о которых нас предупреждают знаки: сильный ветер на мосту или животные, пересекающие дорогу. Чаще всего виноваты не лопнувшие шины, отказавшие тормоза или механические неполадки, которые заставляют автопроизводителей отзывать с рынка модели машин: примерно 90 % всех аварий вызваны «человеческим фактором». Проблема не связана и с «уровнем водительского мастерства» или нашей способностью правильно понимать смысл сигналов на дороге.
Судя по всему, основные сложности на дороге для нас (если не считать завышенной самооценки и отсутствия обратной связи) связаны с тем, что показал нам пример Стэнли и Джуниора – двух неуклюжих роботов-водителей, созданных в Стэнфорде. Первая проблема – наше ощущение и восприятие происходящего. Мы склонны неправильно интерпретировать то, что видим. Более того, мы не всегда осознаем это свое несовершенство. Вторая (что отличает нас от Стэнли и Джуниора) – мы не машины. Мы не можем сохранять стабильный уровень бдительности. Как только нам кажется, что ситуация под контролем, мы сразу же начинаем вести себя иначе: смотреть по сторонам или болтать по мобильному телефону. Большинство наших проблем, как я покажу в следующей главе, возникает из-за ограниченности нашего восприятия и неумения уделять должное внимание всему, чему уделять необходимо.