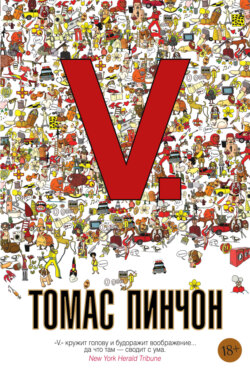Читать книгу V. - Томас Пинчон - Страница 19
Глава четвертая,
в которой Эсфирь остается с носом
I
ОглавлениеШёнмахер был консервативен, а потому свою профессию называл искусством Тальякоцци. Его собственные методы, хоть и не столь примитивные, как у этого итальянца шестнадцатого века, отмечены были некоторой сентиментальной инертностью, отчего Шёнмахер постоянно слегка отставал от передового края. Всеми силами он культивировал в себе вид Тальякоцци: брови демонстрировал тонкие и полукруглые; носил кустистые усы, бородку клинышком, а иногда и ермолку – свою старую, еще со школы.
Импульс свой – как и все это занятие – он получил от Мировой войны. В семнадцать, сверстник веку, он отрастил усы (которых потом не сбривал), подделал себе возраст и фамилию и вперевалку уплюхал в вонючем транспорте, чтобы летать, как он думал, в вышине над руинами châteaux[35] и раскуроченных полей Франции, подъятый, как безухий енот, на драчку с Фрицем; бравый такой Икар.
В общем, в воздух пацан так и не поднялся, зато его сделали авиатехнарем, хоть он и на это не рассчитывал. Ему хватило. Он изучил кишки не только «бреге», «бристоль-файтеров» и «джей-энов», но и тех летунов, кои подымались в воздух и кого он, естественно, боготворил. В таком разделении труда всегда присутствовало нечто феодально-содомитское. Шёнмахер себя чувствовал мальчиком-пажом. С тех пор, как мы знаем, вторглась демократия, и те грубые летательные аппараты усовершенствовались до «систем вооружения» такой сложности, о которой в те времена не приходилось и мечтать; поэтому сегодня механику-ремонтнику приходится держать столько же профессионального благородства, сколько его есть и у тех летных экипажей, которые он обеспечивает.
Но тогда: то была чистая и абстрактная страсть, нацеленная, по крайней мере для Шёнмахера, на лицо. Отчасти виной тут были, наверное, его собственные усы; его часто принимали за летчика. В увольнениях, нечастых, он щеголял шелковым платком (приобретенным в Париже) на шее, повязанным для имитации.
Поскольку война есть война, некоторые лица – морщинистые ли, гладкие, с зализанными волосами или лысинами – никогда уже не возвращались. На это юный Шёнмахер отзывался со всею гибкостью подростковой любви: его безадресная нежность печалилась и ненадолго отвращалась, пока ей не удавалось зацепиться за какое-нибудь новое лицо. Но в каждом случае потеря оставалась столь же неопределенной, как утверждение «любовь умирает». Они улетали и проглатывались небом.
До Эвана Годолфина. Офицер связи лет тридцати с чем-то, ВО[36] к американцам для проведения разведывательных полетов над Аргоннским плато, Годолфин доводил естественную фатоватость первых авиаторов до таких крайностей, которые в истерическом контексте того времени казались делом совершенно обычным. Мы ж тут, в конце концов, не в окопах; воздух здесь свободен от пагубы газа или разлагающихся товарищей по оружию. Обе воюющие стороны могут себе позволить бить фужеры для шампанского в величественных каминах реквизированных поместий; относиться к своим пленникам с чрезвычайной любезностью, придерживаться всех пунктов дуэльного кодекса, когда дело доходит до воздушной схватки; короче говоря, с педантичным тщанием практиковать всю эту канитель, как и благородные господа девятнадцатого века на войне. Эван Годолфин носил летный костюм, пошитый на Бонд-стрит; частенько, неуклюже мчась по рубцам их импровизированного летного поля к своему французскому «СПАДу», останавливался сорвать одинокий мак, выживший после бреющих атак осени и германцев (естественно, зная стихотворение о полях Фландрии в «Панче», три года назад, когда у окопной войны еще имелся какой-то идеалистический оттенок), и вставить его в петлицу на безупречном лацкане.
Годолфин стал для Шёнмахера героем. Знаки внимания, брошенные ему, – временами отданная честь, «хорошо поработал» за предполетную подготовку, которая стала обязанностью юного техника, скупая улыбка – пламенно копились. Вероятно, видел он и конец этой невзаимной любви; разве дремлющее предчувствие смерти не усиливает всегда наслаждения от эдакой «связи»?
Конец настал довольно быстро. Одним дождливым днем на исходе Мёз-Аргоннского наступления, изувеченный самолет Годолфина неожиданно материализовался из всей этой серятины, вяло заложил вираж, завалился на крыло и проскользил, как змей в воздушном потоке, к посадочной полосе. Мимо нее он промахнулся на сотню ярдов: а когда ударился оземь, санитары и носильщики уже к нему выбежали. Шёнмахеру довелось быть поблизости, и он увязался с ними, не имея ни малейшего понятия, что произошло, – пока не увидел кучу тряпок и щепок, уже намокшую под дождем, а из нее, хромая навстречу медикам, – на верхушке одушевленного трупа покачивалась худшая из возможных карикатура на человеческое лицо. Верх носа ему отстрелили; шрапнелью разорвало одну щеку и раздробило часть подбородка. Глаза, не пострадавшие, не показывали ничего.
Шёнмахер, должно быть, забылся. А снова опомнился только в медпункте, где старался убедить тамошних врачей взять хрящ у него. Годолфин выживет, решили они. Но лицо ему придется перестроить. Для молодого офицера жизнь будет – иначе – немыслима.
Ну а к счастью для некоторых, в области пластической хирургии действовал закон спроса и предложения. Случай Годолфина к 1918 году едва ли был уникален. Методы восстановления носов существовали с пятого века до н. э., трансплантаты Тирша применялись уже лет сорок. За войну из необходимости разработали новые методы, их применяли терапевты, окулисты-ухогорлоносы, даже поспешно мобилизованный гинеколог-другой. Действенные быстро одобрялись и передавались медикам помоложе. А неудачные породили поколение уродов и парий, кои вместе с теми, кому вообще никакой восстановительной хирургии не досталось, превратились в тайное и ужасное послевоенное братство. Ни на какой обычной ступени общества ни к чему они не пригодны, куда им деться?
(Профан некоторых видел под улицей. Иных можно было встретить на любом сельском распутье в Америке. Профан встречал: натыкался на новую дорогу, перпендикулярную его продвижению, нюхал дизельный выхлоп давно уехавшего грузовика – словно сквозь призрак проходил – и видел там одного такого, как мильный камень. Хромота его могла означать парчу или барельеф рубцовой ткани по всей ноге – сколько женщин смотрели и пугались? – ; его шрам на горле скромно бы прятался, как безвкусная военная награда; язык его, лукаво торча из дыры в щеке, никогда б не произнес тайных слов никаким лишним ртом.)
Эван Годолфин оказался среди таких. Врач был молод, располагал собственными идеями, АЭК[37] же для такого не место. Звали его Сакралн, и он благоволил к аллотрансплантатам: пересадке инертных веществ на живое лицо. В то время подозревали, что безопасно пересаживать только хрящи или кожу с собственного тела пациента. Шёнмахер, ничего не понимая в медицине, предложил свой хрящ, но дар его отвергли; аллотрансплантация внушала доверие, и Сакралн не видел смысла госпитализировать двоих, когда это требовалось лишь одному.
Поэтому Годолфину досталась переносица из слоновой кости, скула из серебра и парафиново-целлулоидный подбородок. Месяц спустя Шёнмахер навестил Годолфина в больнице – тогда он его видел в последний раз в жизни. Реконструкция выглядела идеально. Его отправляли обратно в Лондон, на какую-то неведомую штабную должность, и говорил он об этом с мрачным легкомыслием.
– Присмотрись хорошенько. Больше чем на полгода не хватит. – Шёнмахер залепетал: Годолфин продолжил: – Видишь вон, чуть дальше? – В двух кроватях от них лежал похожий вроде бы случай, только кожа на лице у него была целая, блестящая. А вот кости черепа под нею – изуродованы. – Реакция отторжения инородного тела, как это называют. Иногда инфекция, воспаление, иногда только болит. Парафин, к примеру, не держит форму. Оглянуться не успеешь, а уже там же, с чего начал. – Говорил он, как приговоренный к смерти. – Может, скулу в заклад отдам. Стоит она целое состояние. Перед тем как ее переплавили, она была пасторальной фигуркой из набора, восемнадцатый век – нимфы, пастушки, – трофейная, из château, где фрицы устроили себе КП[38]; а откуда изначально – бог весть…
– А нельзя… – в горле у Шёнмахера пересохло… – нельзя ли, чтобы это как-то починили: начали сызнова…
– Слишком спешно. Мне и с этим-то повезло. Грех жаловаться. Другим чертям и полгода на разгул не светит.
– Что вы станете делать, когда…
– Я об этом не думаю. Но это будут роскошные полгода.
Юный механик не выходил из какого-то эмоционального лимба много недель. Работал без обычной прохладцы, полагая, будто одушевлен не больше гаечных ключей и отверток у себя в руках. Когда выдавали увольнительные, какие были, он уступал их другим. Спал в среднем по четыре часа в ночь. Этот минеральный период завершился случайной встречей однажды вечером с офицером медслужбы в казарме. Шёнмахер озвучил примитивно, каково ему и было:
– Как мне стать врачом.
Конечно, идеалистично и несложно. Ему лишь хотелось делать что-то для таких, как Годолфин, помогать в том, чтобы профессию не захватили ее противоестественные предатели Сакралны. Десять лет ушло на работу по первой специальности – механика, – а также чернорабочим на двух десятках рынков и складов, сборщиком платежей, однажды – помощником администратора бутлегерского синдиката с центром в Декейтере, Иллинойс. Те годы трудов уснащались ночными курсами и, по временам, дневными зачислениями, хотя дольше чем на три семестра подряд не бывало никогда (после Декейтера, когда ему было по карману); интернатурой; в конце концов накануне Великой депрессии случилось вхождение в медицинское франкмасонство.
Если союз с неодушевленным – мета Плохого Парня, Шёнмахер хотя бы начинал благо. Однако в некий миг по пути случился сдвиг взглядов – столь тонкий, что даже Профан, необычайно в этом отношении чувствительный, его бы, вероятно, не заметил. Подстегивала его ненависть к Сакралну и, быть может, затухавшая любовь к Годолфину. Из их совокупности выросло, как он его называл, «ощущение миссии» – нечто столь чахлое, что его приходилось подкармливать пищей поплотнее как ненависти, так и любви. Так и стало оно подкрепляться, довольно благовидно, несколькими бескровными теориями «идеи» пластического хирурга. Услыхав призвание в ветре битвы, Шёнмахер посвятил себя восстановлению разора, чинимого теми, кто не попадал в область его ответственности. Войны вели другие – политики и машины; другие – быть может, машины человеческие – приговаривали его пациентов к опустошенью приобретенным сифилисом; другие – на шоссе, на заводах – портили работу природы своими автомобилями, фрезерными станками, прочими инструментами гражданского уродования. Что мог он сделать для уничтожения причин? Они существовали, составляли собой массив всего-как-оно-есть; его постепенно одолела консервативная лень. Некоторым образом – общественное сознание, но с границами и стыками, от которых оно казалось незначительней той католической ярости, что владела им тем вечером в казарме с медиком. Говоря короче, то была порча цели; тлен.
35
Замки, дворцы (фр.).
36
Временно откомандированный.
37
Американский экспедиционный корпус.
38
Командный пункт.