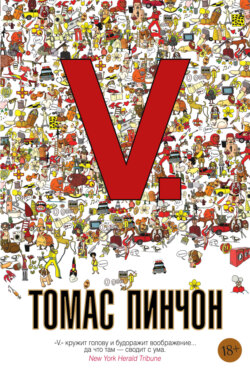Читать книгу V. - Томас Пинчон - Страница 22
Глава пятая,
в которой Шаблон едва не канает в Лету с аллигатором
I
ОглавлениеАллигатор этот был пег: бледно-бел, водорослево-черен. Двигался быстро, но неуклюже. Возможно – ленив, или стар, или глуп. Профан считал, что он, наверное, устал жить.
Погоня длилась с заката. Они оказались в отрезке 48-дюймовой трубы, спина разламывалась. Профан надеялся, что аллигатор не свернет никуда поуже, где сам он не поместится. Тогда придется вставать на колени в слякоть, целиться почти вслепую и стрелять, все быстро, пока cocodrilo[42] не скрылся из зоны поражения. Анхель держал фонарик, но до этого пил вино и теперь полз за Профаном рассеянно, луч его мотыляло по всей трубе. Профан различал коко лишь в случайных вспышках.
Время от времени его добыча полуоборачивалась, кокетливо, завлекая. С какой-то грустью. Наверху, должно быть, шел дождь. За спиной у них, у последнего канализационного люка, не смолкала тонкая сопля. Впереди была тьма. Тоннель здесь оказался мучителен, и проложили его десятки лет назад. Профан надеялся на прямизну. Там поразить цель можно легко. Если стрелять где-то на этом отрезке с короткими безумными углами, могут быть опасные рикошеты.
Этот был бы не первой его добычей. Работал Профан уже две недели, на его счету четыре аллигатора и одна крыса. Каждое утро и каждый вечер для каждой смены устраивали разнарядку перед кондитерской лавкой на Коламбус-авеню. Начальник Цайтзюсс втайне хотел стать профсоюзным боссом. Он носил костюмы акульей кожи и черепаховые оправы. Обычно добровольцев не хватало даже для этого пуэрториканского района, что уж говорить про весь Нью-Йорк. И все равно Цайтзюсс каждое утро в шесть расхаживал перед ними, упрямый в своей мечте. Его работой была государственная гражданская служба, но настанет день – и он будет Уолтером Рейтером[43].
– Ладно, так, Родригес, ага. Наверное, мы можем тебя взять. – И вот вам Управление, которому даже добровольцев не хватает. Все равно некоторые приходили – разбросом, неохотно и отнюдь не постоянно: большинство после первого же дня сваливало. Чудно́е это было сборище: бродяги… Главным образом они. С зимнего солнца Юнион-скуэр, где все их общество – несколько болтливых голубей; из района Челси и с холмов Харлема либо от минимального тепла уреза воды, украдкой поглядывая из-за бетонных столбов эстакадного обхода на ржавый Хадсон с его буксирами и камнебаржами (они в этом городе сходят за, вероятно, дриад: приглядитесь, где они, в первый же зимний день, когда вас вдруг обойдут, кротко прорастают из бетона, стараясь слиться с ним или, по крайней мере, защититься от ветра и того мерзкого предчувствия, что у них – нас? – есть, касаемо того, куда на самом деле течет эта упорная река); бродяги из-за обеих рек (или же только что со Среднего Запада, сгорбаченные, обматеренные, спаренные и переспаренные так, что и не упомнить, с теми добродушными увальнями, которыми были раньше, или несчастными жмурами, которыми станут однажды); один нищий – ну или всего один, кто признался, – у которого полный чулан Хики-Фримена и других костюмов с подобными ценниками, а после работы он ездит на сияющем белом «линкольне», у него три или четыре жены затерялось где-то на его личной Трассе 40 по пути на восток; Миссисипи, родом из Кельце в Польше, чье имя никто выговорить не мог, у которого жену забрали в концлагерь Освенцим, глаз отнял коуш чалочного каната на сухогрузе «Миколай Рей», а пальчики сняли легавые в Сан-Диего, когда он попробовал в 49-м сбежать с судна; кочевники с конца сезона сбора бобовых в каком-нибудь экзотическом месте – экзотическом до того, что запросто могло бы оказаться прошлым летом и к востоку от Вавилона, Лонг-Айленд, но им, помнящим лишь сезон, позарез требовалось, чтоб он только что закончился, только начинал тускнеть; скитальцы северных предместий из самой классической бродяжьей цитадели на свете – Бауэри, нижняя Третья авеню, лари с ношеными рубашками, цирюльные школы, любопытная утрата времени.
Работали бригадами по двое. Один держал фонарик, другой нес магазинное охотничье ружье 12-го калибра. Цайтзюсс понимал, что большинство охотников к такому оружию относятся, как удильщики к динамиту; но он не стремился к очеркам в «Поле и ручье». Магазинные быстры и действуют наверняка. После Большого Канализационного Скандала 1955 года в Управлении развилась страсть к честности. Им требовались мертвые аллигаторы; крысы тоже, если попадут под раздачу.
Каждый охотник получал нарукавную повязку – это Цайтзюсс придумал. «АЛЛИГАТОРНЫЙ ПАТРУЛЬ», гласила она зелеными буквами. Когда программа только начиналась, Цайтзюсс передвинул к себе в кабинет большой чертежный планшет из плексигласа с награвированной картой города, на которую накладывалась координатная сетка. Цайтзюсс сидел перед этим планшетом, а картограф – некто В. А. Спуго (он же «Косарь»), уверявший, что ему восемьдесят пять, а еще – что он истребил 47 крыс своим косарем под летними улицами Браунсвилла 13 августа 1922 года, – размечал желтым восковым карандашом места визуальных наблюдений, вероятных появлений, охот в текущий момент, поражений цели. Все сообщения поступали от кочующих регулировщиков, ходивших по определенным маршрутам от люка к люку: они туда орали и спрашивали, как дела. У каждого с собой была рация, связанная в общей сети с кабинетом Цайтзюсса и низкокачественным 15-дюймовым динамиком на потолке. Поначалу все шло довольно захватывающе. Цайтзюсс не включал никакой свет, кроме лампочек на планшете и лампы у себя над столом. Кабинет походил на какой-то боевой командный пункт, и кто бы в него ни вошел – сразу ощущал это напряжение, целеустремленность, огромную сеть, раскинувшуюся повсюду вплоть до самых дальних своясей города, а кабинет – ее мозги, ее фокальная точка. То есть покуда не слышали, что сюда поступает по радио.
– Один хороший проволоне, говорит.
– Я взял ей хорошего проволоне. Чего она сама в магазин сходить не может. Весь день же смотрит телевизор у миссис Гроссерии.
– А ты видел вчера вечером у Эда Салливана, а, Энди. У него там мартышки на пианино играли своими…
С другого края города;
– А Прыткий Гонсалес ему: «Сеньор, уберите, пжальста, руку у меня с жёппы».
– Ха, ха.
И:
– Жалко, что ты не тут, на Восточной стороне. Тут повсюду навалом.
– На Восточной стороне оно все с молнией.
– У тебя поэтому такой короткий?
– Дело не в сколько, а в том, как применять.
Естественно, бывали неприятности от ФКС[44], которая, говорят, ездит на эдаких машинках слежения, с пеленгационными антеннами, ищет как раз таких вот людей. Сначала поступали письменные предупреждения, потом телефонные звонки, затем наконец явился некто в костюме из акульей кожи еще глянцевей, чем у Цайтзюсса. И рации пропали. А вскоре после этого Цайтзюсса вызвало начальство и сообщило ему, весьма по-отечески, что на обеспечение Патруля в том стиле, к которому все привыкли, недостаточно бюджетных средств. И Поисково-Истребительный Аллигаторный Центр заменился мелким отделением расчетного отдела, а старый Косарь Спуго отправился в Асторию, Куинз, на пенсию, к цветнику, где росла дикая марихуана, и к преждевременной могиле.
По временам и теперь, когда они собирались перед кондитерской лавкой, Цайтзюсс проводил с ними ободряющий инструктаж. В тот день, когда Управление лимитировало им выдачу патронов, он стоял без шляпы под мерзлым февральским дождем и сообщал им об этом. Трудно было разобрать, слякоть ли это стаивает у него по лицу или текут слезы.
– Ребята, – говорил он, – кое-кто из вас работает с самого начала этого Патруля. Парочку тех же харь я вижу тут каждое утро. Многие не возвращаются, да и ладно. Если в других местах платят больше – валяйте, с богом, я не против. У нас тут не намазано медом. Если б это был профсоюз, многие хари возвращались бы сюда каждое утро. А те из вас, кто приходит, живут в человечьем говне и крокодильей крови по восемь часов в день, и никто не жалуется, я вами горжусь. Наш Патруль видал много сокращений за то короткое время, какое был Патрулем, и об этом тоже, как мы слышим, никто не ходит и не ноет, что гораздо хуже говна… Ну а сегодня нас урезали еще раз. Каждой бригаде будет выдаваться по пять патронов в день, а не по десять. В центре они там считают, что вы впустую тратите боеприпасы. Я-то знаю, что нет, но как это объяснишь тем, кто и вниз-то ни разу не спускался, чтоб костюм за сто долларов себе не испачкать. Поэтому я так скажу, бейте только наверняка, не тратьте время на вероятную добычу… Валяйте дальше, как валяли раньше. Я горжусь вами, ребята. Я так вами горжусь!
Все переминались, в смущении. Цайтзюсс ничего больше не сказал, лишь стоял, полуотвернувшись и глядя, как пуэрториканская старушка с корзинкой для покупок хромает к окраине по другой стороне Коламбус-авеню. Цайтзюсс вечно говорил, как он ими гордится, и, хоть был он горлопаном, хоть правил всем, как в АФТ[45], хоть сбрендил на своей высшей цели, он им нравился. Потому что под акульей кожей и за тонированными линзами он тоже был бродяга; лишь случайность времени и пространства не давала им всем вместе раздавить сейчас пузырь. И раз он им нравился, от его же гордости «нашим Патрулем», в которой никто не сомневался, всем становилось неловко – как вспомнишь тени, в которые они палили (винные тени, тени одиночества); как ложились подремать среди рабочего дня, привалившись к бокам промывных баков у рек; как гундели, но шепотом, так тихо, что даже напарник не слышал; крыс, которым давали удрать, потому что их становилось жалко. Они не умели разделить гордости босса, но могли стыдиться всего, от чего гордость эта была ложью, ибо научились – на не очень удивительных или трудных уроках, – что гордости – нашим Патрулем, собой, даже гордыни как смертный грех – на самом деле не существует так, скажем, как существуют три пустые пивные бутылки, которые можно сдать на проезд в подземке и тепло, где-нибудь немного поспать. Гордость вообще ни на что не обменяешь. Что Цайтзюсс, невинный бедняга, за нее получает? Сплошную убыль, вот что. Но он им нравился, и никому не хватало духу научить его уму-разуму.
Насколько Профан знал, Цайтзюсс понятия не имел, кто он, да и плевать хотел. Профану бы нравилось считать себя одной из тех возвратных харь, однако что́ он в итоге – всего лишь опоздавший. У него нет права, решил он после речи о боекомплекте, думать про Цайтзюсса так или иначе. Никакой гордости за группу, бог ты мой, у него не было. Это работа, не Патруль. Он научился обращаться с магазинной винтовкой – даже неполную разборку и чистку теперь умел – и вот сейчас, после двух недель на работе, уже почти начал себя чувствовать не таким неуклюжим. Может, и не прострелит случайно себе ногу или что похуже, в конце концов.
Анхель пел:
– Mi corazón, está tan solo, mi corazón…[46] – Профан смотрел, как его собственные заброды движутся в такт песне Анхеля, следил за изменчивым блеском фонарика на воде, за тем, как мягко покачивается аллигаторов хвост, впереди. Подходили к лазу. Точка встречи. Гляди бодрей, Аллигаторный Патруль. Анхель пел и плакал.
– Кочумай, – сказал Профан. – Если десятник Хез наверху, нам кранты. Держись трезво.
– Терпеть не могу десятника Хеза, – сказал Анхель. Он засмеялся.
– Чш, – сказал Профан. Десятник Хез носил рацию, пока ФКС не запретила. Теперь же он носил планшет с зажимом и ежедневно подавал Цайтзюссу рапорты. Разговаривал он мало – только отдавал распоряжения. Одной фразой пользовался всегда: «Я десятник». Иногда: «Я Хез, десятник». У Анхеля была теория, что он это повторяет, дабы самому не забыть.
Впереди топал аллигатор, одиноко. Двигался он медленней, словно чтобы они его нагнали и с ним покончили. Они подошли к лазу. Анхель забрался по лесенке и ломиком постучал снизу по крышке люка. Профан держал фонарик и не спускал глаз с коко. Сверху послышался скрежет, и крышку вдруг дернули вбок. Нарисовался полумесяц розового неонового неба. В глаза Анхелю плеснуло дождем. В полумесяце возникла голова десятника Хеза.
– Chinga tu madre[47], – любезно произнес Анхель.
– Докладывай, – сказал Хез.
– Он уходит, – крикнул снизу Профан.
– Мы за одним как раз идем, – сказал Анхель.
– Ты пьян, – произнес Хез.
– Нет, – сказал Анхель.
– Да, – воскликнул Хез. – Я десятник.
– Анхель, – сказал Профан, – давай быстрее, мы его потеряем.
– Я трезвый, – сказал Анхель. Ему пришло в голову, как приятно будет двинуть Хезу в зубы.
– Я о тебе сообщу, – сказал Хез. – От тебя несет бухлом.
Анхель полез наружу из люка.
– Мне бы хотелось это с вами обсудить.
– Ребята, вы там это чего, – сказал Профан, – в классики играете?
– Выполняй, – крикнул Хез в колодец. – Я задерживаю твоего напарника за дисциплинарный проступок. – Анхель, наполовину выбравшись из люка, вонзил зубы в ногу Хеза. Тот завопил. На глазах у Профана Анхель исчез, и его заменил розовый полумесяц. С неба брызгало дождем, сопливилось по старым кирпичным стенкам колодца. С улицы доносилась потасовка.
– Что там еще за черт, – сказал Профан. Развернул луч фонарика в тоннель, заметил, как аллигаторов хвост увильнул за следующий поворот. Пожал плечами. – Хрен там выполняй, – сказал он.
Он отошел от лаза, держа законтренное ружье под одной рукой, фонарик – в другой. Он впервые охотился соло. Страшно ему не было. Когда настанет миг убивать, фонарик он на что-нибудь пристроит.
Насколько удалось прикинуть, сейчас он был где-то на Восточной стороне, ближе к северному предместью. Со своего участка он ушел – господи, он за этим аллигатором через весь город, что ли, гнался? Профан свернул за поворот, свет розового неба скрылся: теперь тут двигался лишь вялый эллипс с ним и аллигатором в фокальных точках да стройная ось света, их соединяющая.
Они брали влево, углубившись в предместья. Вода становилась чуть глубже. Они вступали в Приход Благостыня, названный так в честь священника, жившего наверху много лет назад. Во время Депрессии 30-х, в час апокалиптического благополучия, он решил, что, когда Нью-Йорк вымрет, к власти придут крысы. По восемнадцать часов в день он обходил дозором очереди безработных за пищей и миссии, где утешал, латал изодранные души. Он предвидел лишь город изможденных от голода трупов, покрывших все тротуары и газоны в скверах, лежащих вверх животами в фонтанах, кривошее свисающих с уличных фонарей. Этот город – может, и вся Америка, горизонты его на такую ширь не распространялись – будет принадлежать крысам, не успеет и год закончиться. А раз так, отец Благостынь счел лучшим дать крысам хороший задел, и это значило – обратить их в римско-католическую веру. Однажды ночью в начале первого срока Рузвельта он спустился в ближайший колодец, прихватив Балтиморский катехизис, свой требник и, по соображениям, коих никто так никогда и не постиг, «Современное мореплавание» Найта. Первым делом, согласно его дневникам (обнаруженным через много месяцев после его кончины), было навеки благословить всю воду, протекающую по канализации между Лексингтон и Ист-ривер и между 86-й и 79-й улицами, а также изгнать из нее кое-какую нечистую силу. Этот район и стал Приходом Благостыня. Его бенедикции обеспечили адекватный запас святой воды; а кроме того, отменили хлопоты по индивидуальным крещениям, когда он наконец обратил всех крыс прихода. К тому же он рассчитывал, что и другие крысы узнают о том, что творится под северной оконечностью Ист-сайда, и сходным образом обратятся. Пройдет совсем немного времени, и он станет духовным вождем наследников земли. Он считал, что не очень велика будет жертва с их стороны, если они станут предоставлять ему троих из своего числа в день для поддержания его физических сил – в обмен на духовное кормление, которое им даровал он.
Соответственно, он выстроил себе небольшое укрытие на одном берегу канализационного коллектора. Сутана – постель, требник – подушка. Каждое утро он разводил костерок из плавника, собранного и разложенного сушиться накануне вечером. Поблизости в бетоне имелось углубление, располагавшееся под стоком дождевой воды. Здесь он пил и мылся. Позавтракав жареной крысой («Печенки, – писал он, – особо сочны»), он принялся за первую свою задачу: научиться общаться с крысами. Надо полагать, в этом он преуспел. Запись от 23 ноября 1934 года гласит:
Игнатий оказывается очень и очень неподатливым учеником. Поссорился сегодня со мной из-за природы индульгенций. Варфоломей и Тереза его поддержали. Я прочел им из катехизиса: «Индульгенция – это отпущение перед Богом временной кары за грехи, вина за которые уже изглажена; отпущение получает христианин, имеющий надлежащее расположение, при определенных обстоятельствах чрез действие Церкви, которая как распределительница плодов искупления раздает удовлетворения из сокровищницы заслуг Христа и святых и правомочно наделяет им… К этому сокровищу принадлежит также та ценность, подлинно неисчерпаемая, неизмеримая и всегда новая, какую имеют перед Богом молитвы и добрые дела Пресвятой Девы Марии и всех святых».
«А какова, – поинтересовался Игнатий, – эта неисчерпаемая ценность?»
И вновь прочел я: «Которые, следуя за Христом и силою Его благодати, освятились и исполнили поручение Отца, таким образом трудясь для собственного спасения, они также способствовали спасению своих братьев в единстве мистического Тела».
«Ага, – возликовал Игнатий, – тогда я не понимаю, чем это отличается от марксистского коммунизма, кой, как ты нас уверял, безбожен. Каждому по его потребностям, от каждого по его способностям». Я постарался объяснить, что коммунизм бывает различных сортов: ранняя Церковь, вообще-то, зиждилась на общей благотворительности и разделении благ. Варфоломей тут же встрял с замечанием, что, быть может, сия доктрина духовной сокровищницы проистекла из экономических и общественных условий Церкви в ее младенчестве. Тереза быстренько обвинила Варфоломея в приверженности марксистским взглядам, и завязалась ужасная потасовка, в коей несчастной Терезе из глазницы выцарапали глаз. Дабы избавить ее от дальнейших мучений, я ее усыпил, а из ее останков приготовил восхитительную трапезу, вскоре после шестого часа. Обнаружил, что хвосты при достаточно долгом варении вполне приятны на вкус.
Очевидно, он обратил по меньшей мере одну партию. Далее в дневниках скептик Игнатий не упоминается: вероятно, погиб в следующей драке, быть может, покинул общину и удалился в языческие пределы Центра. После первого обращения дневниковые записи идут на убыль: но все они оптимистичны, временами в них даже сквозит эйфория. Приход как маленький анклав света в ревущих Темных веках невежества и варварства.
Крысиного мяса в конечном счете Отец перенести не смог. Может, содержалась в нем какая-то зараза. А возможно, и марксистские тенденции его паствы слишком напоминали ему о том, что он видел и слышал на поверхности, в очередях за едой, у постелей больниц и родильных домов, даже в исповедальне; и тем самым бодрость духа, отраженная в последних его записях, была на деле не чем иным, как необходимым заблуждением, призванным защитить его от унылой правды: его бледные изгибистые прихожане могут оказаться ничем не лучше тех тварей, чьи владения они унаследовали. Последняя запись его намекает на нечто подобное:
Когда Августин станет мэром города (ибо он великолепный малый и прочие ему преданы), вспомнит ли он, либо его совет, старого священника? Не синекурой или жирной пенсией, но истинным милосердием в сердцах? Ибо, хотя преданность Господу вознаграждается на Небесах и столь же надежно не вознаградится на сей земле, некое духовное удовлетворение, верю я, можно снискать и в Новом Граде, чей фундамент мы здесь закладываем, в сем Ионе под фундаментами старыми. Если ж не произойдет сего, я все равно упокоюсь в мире, единый с Богом. Сие, разумеется, есть лучшая награда. Я остаюсь классическим Старым Пастырем – не особенно крепким, никогда не богатым – всю свою жизнь. Пожалуй
На этом дневник заканчивается. Хранится он до сих пор в недостижимых глубинах Ватиканской библиотеки да в памяти нескольких старожилов Управления канализации Нью-Йорка, которым довелось его видеть, когда его обнаружили. Он лежал поверх погребальной пирамиды из кирпичей, камней и палок, достаточно крупной, чтобы покрыть труп человека; она была возведена в отрезке 36-дюймовой трубы у границы Прихода. Рядом лежал требник. Ни катехизиса, ни «Современного мореплавания» Найта не обнаружили.
– Возможно, – сказал предшественник Цайтзюсса Манфред Кац, прочтя дневник, – возможно, они ищут там лучший способ сбежать с тонущего корабля.
Истории к тому времени, когда их услышал Профан, стали довольно-таки апокрифичны, и в них присутствовало больше фантазии, нежели позволяли сами документы. Ни в какой миг за эти двадцать или около того лет, что рассказывалась легенда, никому не пришло в голову усомниться в нормальности старого священника. С байками из канализации всегда так. Они просто есть. Истинность или ложность здесь неприменимы.
Профан пересек границу, аллигатор по-прежнему впереди. На стенах временами встречались накарябанные цитаты из Евангелий, латинские изречения (Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem – Агнец Божий, берущий на Себя грех мира, даруй нам мир). Мир. Тут и был мир, как-то раз во время депрессии сокрушенный медленно, истощенно-нервно, до улицы мертвым грузом собственного неба. Несмотря на временны́е искажения в повести об отце Благостыне, Профан общий смысл уловил. Отлученный от церкви, быть может, самим фактом своей тут миссии, скелет в шкафу Рима и норе собственной сутаны и постели, старик сидел и проповедовал пастве крыс с именами святых, и все это – ради мира.
Профан обмахнул лучом старые надписи, увидел темное пятно очертаниями как распятие, и его пробило мурашками. Впервые после ухода от лаза Профан осознал, что он совершенно один. От аллигатора впереди толку не было, скоро он умрет. Станет еще одним призраком.
Его больше всего интересовали сообщения о Веронике, единственной женской особи, помимо бессчастной Терезы, упоминаемой в дневниках. Поскольку работники канализации у нас таковы (любимый ответ у них: «В клоаках витаешь»), один из апокрифов их повествовал о противоестественных отношениях священника и этой крысихи, описываемой как нечто вроде роскошной и сластолюбивой Магдалины. Судя по всему, что Профан слышал, Вероника была единственной среди всей паствы, чью душу, считал отец Благостынь, стоит спасать. Она приходила к нему ночами не как суккуб, но взыскуя наставленья, вероятно – передать своему гнезду, где бы в Приходе оно ни было, частичку его желанья привести ее ко Христу: медальку на скапулярий, выученный стих Нового Завета, хоть какую-то индульгенцию, епитимью. Такое, что можно сохранить. Вероника вам не обычная крыса-торгаш.
Моя маленькая шутка могла быть вполне и всерьез. Когда они упрочатся довольно, дабы начать думать о канонизации, я уверен, список возглавит Вероника. С каким-нибудь потомком Игнатия, несомненно, в роли адвоката дьявола.
V. пришла ко мне сегодня ночью, расстроенная. Они с Павлом снова этим занимались. Бремя вины так тяжко легло на это дитя. У нее это почти в глазах: огромный, белый, неуклюжий зверь гонится за нею, желая ее пожрать. Мы несколько часов говорили о Сатане и его кознях.
V. выразила желание войти в сестринство. Я объяснил ей, что до сего времени не существует признанного ордена, в который ее могли бы принять. Она поговорит с некоторыми другими девушками, дабы понять, достаточно ли широк интерес для того, чтобы какие-то действия потребовались от меня. Это означало бы письмо Епископу. А латынь у меня так жалка…
Агнец Божий, подумал Профан. Учил ли их священник «крысе Божьей»? Как он оправдывал уничтожение их по трое в день? Как бы отнесся ко мне или Аллигаторному Патрулю? Он проверил ружейный затвор. Тут, в этом приходе, извивы похитрей, чем в катакомбах первохристиан. Не стоит здесь рисковать и палить, это точно. Только ли в этом дело?
Спину ломило, он начал уставать. Интересно, сколько ему еще так? Ни разу еще он столько за одним аллигатором не бегал. Профан остановился на минутку, прислушался к тоннелю. Ни звука, лишь скучно плещет вода. Анхель не придет. Он вздохнул и снова поплюхал к реке. Аллигатор булькал в стоках, пускал пузыри и нежно порыкивал. Говорит ли он что-нибудь, задумался Профан. Мне? Он вновь завел пружину, чувствуя, что совсем скоро сможет думать лишь о том, чтобы рухнуть, и пусть его вынесет поток – вместе с порнографическими картинками, кофейной гущей, контрацептивами использованными и не, говном – через промывной бак в Восточную реку и с приливом на ту сторону, к каменным лесам Куинза. И ну его к черту, этого аллигатора и охоту эту, посреди здешних легендарных стен, исписанных мелом. Нельзя тут убивать. Он чуял на себе взгляды крыс-призраков, свой взгляд не сводил с того, что впереди, – боялся, не увидеть бы эту 36-дюймовую трубу с гробницей отца Благостыня, – а уши не разлеплял, чтобы не слышать подпорогового писка Вероники, старой любви священника.
Внезапно – так внезапно, что он испугался, – впереди возник свет, из-за угла. Не свет дождливого вечера в городе, а бледней, неуверенней. Они свернули за угол. Профан заметил, что лампочка фонарика замигала; и тут же потерял аллигатора из виду. Затем свернул и обнаружил обширное пространство, вроде церковного нефа, сверху потолочные своды, от стен, чье точное расположение неотчетливо, идет фосфоресцирующий свет.
– Чё, – вслух произнес он. Противоток реки? Морская вода в темноте иногда светится; в кильватере судна видно то же неуютное сияние. Но не тут же. Аллигатор повернулся к нему мордой. Чистый, легкий выстрел.
Профан ждал. Должно что-то случиться. Что-то иномирное, само собой. Он был сентиментален и суеверен. Наверняка аллигатор обретет дар языков, воскресится тело отца Благостыня, соблазнительная V. отвлечет его от убийства. Профан уже чуть не левитировал и с трудом сказал бы, где он, вообще-то, находится. В оссуарии, в гробнице.
– Ай, шлемиль, – прошептал он фосфоресценции. Тридцать три несчастья, шлимазл. Ружье разорвет у него в руках. Сердце аллигатора и дальше будет тикать, а его – лопнет, ходовая пружина и регулятор хода заржавеют в этих отходах по щиколотку, при этом нечестивом свете. – Можно тебя просто отпустить? – Десятник Хез знал, что он идет за верняком. У него на планшете записано. И тут он понял, что аллигатору дальше идти некуда. Крок устроился на корточках ждать, чертовски хорошо зная, что сейчас его разнесут в клочья.
В Зале Независимости в Филли, когда перекладывали пол, участок первоначального, в квадратный фут, оставили показывать туристам.
– Возможно, – говорил вам экскурсовод, – прямо здесь стоял Бенджамин Фрэнклин, а то и Джордж Вашингтон. – Профан на экскурсии в восьмом классе был уместно этим впечатлен. Теперь у него появилось такое же чувство. Здесь, в этом помещении, старик убил и сварил оглашенного, совершил содомию с крысой, обсуждал грызунье монашество с V., будущей святой – это смотря какую историю ты слышал.
– Извини меня, – сказал Профан аллигатору. Он всегда извинялся. Такова заготовка шлемиля. Он поднял магазинное ружье к плечу, снял с предохранителя. – Прости, – снова сказал он. Отец Благостынь разговаривал с крысами. Профан разговаривал с аллигаторами. Он выстрелил. Аллигатор дернулся, сделал сальто назад, кратко забился, затих. Кровь засочилась амебой, образуя изменчивые узоры со слабым тленьем воды. Вдруг погас фонарик.
42
Крокодил (исп.).
43
Уолтер Филип Рейтер (1907–1970) – американский профсоюзный лидер, с 1946 г. президент объединенного профсоюза работников автомобильной промышленности.
44
Федеральная комиссия связи.
45
Американская федерация труда.
46
Мое сердце, это просто мое сердце… (исп.)
47
Ёб твою мать (исп.).