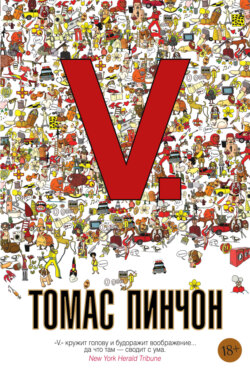Читать книгу V. - Томас Пинчон - Страница 20
Глава четвертая,
в которой Эсфирь остается с носом
II
ОглавлениеЭсфирь с ним, как ни странно, познакомилась через Шаблона, который в ту пору был в Шайке новеньким. Шаблон, идя по иному следу, из неких своих соображений заинтересовался историей Эвана Годолфина. Проследил за ней до Мёз-Аргонна. Наконец, раздобыв в архивах АЭК псевдоним Шёнмахера, Шаблон не один месяц потратил на то, чтобы отыскать его в Немецком квартале и лицевой клинике, заполненной фоновой музыкой. Добрый доктор все отрицал, даже после всевозможных увещеваний, известных Шаблону; еще один мертвый тупик.
Как обычно бывает после известных разочарований, мы реагируем с благосклонностью. Эсфирь, спелая и жаркоокая, изнывала в «Ржавой ложке», ненавидя свой нос 6-кой, и, как уж могла, доказывала максиму несчастливых студентов: «Все уродки дают». Отвергнутый Шаблон, повсюду закидывая сети на тех, на ком все это можно выместить, в надежде уцепился за это ее отчаяние – улов, протянувшийся к грустным летним дням, когда они бродили среди пересохших фонтанов, витрин лавок, перенесших солнечный удар, и улиц, истекающих гудроном, а со временем и к отцовско-дочернему соглашению, достаточно несерьезному, чтобы в любое время расторгнуться, пожелай такого кто-либо из них, и никаких вскрытий трупа не нужно. Его поразило тонкой иронией, что самым приятным сентиментальным пустячком для нее будет знакомство с Шёнмахером; соответственно, в сентябре подписали договор, и Эсфирь без промедления легла под его скальпели и мнущие пальцы.
В тот день в приемной для нее, как бы на сличение, собрался контингент деформированных. Лысая женщина без ушей созерцала часы с бесами, кожа румяная и блестит от висков до затылка. Рядом сидела девушка помоложе, череп у нее был в таких изломах, что три отдельные макушки, по форме параболические, вздымались над волосами, росшими и ниже по сторонам плотно прыщавого лица, подобно шкиперской бороде. Напротив, погрузившись в «Ридерз дайджест», сидел пожилой господин в мшисто-зеленом габардиновом костюме, располагавший тремя ноздрями, с отсутствующей верхней губой и ассортиментом разнокалиберных зубов – те толпились и наваливались друг на друга, как могильные камни на погосте в краях, где часты торнадо. А в углу подальше, ни на что не глядя, помещалось бесполое существо с наследственным сифилисом: у существа были повреждены кости – они частично ввалились так, что серый профиль его был почти прямой линией, а нос висел вялым кожаным лоскутом, почти полностью прикрывая рот; подбородок сбоку вдавлен крупным кратером, с радиальными морщинами на коже; глаза прижмурены тем же неестественным тяготением, что сплющило ему остальной профиль. Эсфирь, еще не вышедшая из впечатлительного возраста, отождествляла себя со всеми. Так подкреплялось это отчуждение, что гнало ее в постель к стольким членам Цельной Больной Шайки.
Тот первый день Шёнмахер провел за предоперационной разведкой местности: фотографировал лицо и нос Эсфири с разных точек, проверял, нет ли инфекций верхних дыхательных путей, делал пробу Вассермана. Ирвинг и Окоп также ассистировали ему в изготовлении двух парных отливок посмертной маски. Эсфири дали две бумажные соломинки дышать, и она по-детски, как водится, подумала о лавках с газировкой, вишневых ко́лах, Чистосердечных Признаниях.
Назавтра она вернулась в кабинет. Два слепка лежали у врача на столе, бок о бок.
– Я близнецы, – хихикнула она; Шёнмахер протянул руку и отломил у одной маски гипсовый нос.
– Так, – улыбнулся он; извлекая откуда-то, как фокусник, комок ваяльной глины, которым заменил отломанный нос. – Вы какой себе нос имели в виду?
Какой же еще: ирландский, хотелось ей, вздернутый. Как им всем. Ни одной не приходило в голову, что и нос retroussé – эстетический бездоля: еврейский нос навыворот, только и всего. Немногие вообще просили так называемый совершенный нос, у которого верх прямой, кончик не кос и не крючком, колумелла (разделяющая ноздри) сходится с верхней губой под 90°. Все это лишний раз доказывало его личный тезис, что коррекция – по всем измерениям: общественному, политическому, эмоциональному – влечет за собой скорее отступление к диаметрально противоположному, а не какой-либо разумный поиск золотой середины.
Несколько художественных росчерков пальцами и покручиваний запястьями.
– Такой сгодится? – (Глаза вспыхнули, она кивнула.) – Он должен быть в гармонии с вашим остальным лицом, понимаете. – Он, разумеется, в ней не был. Все, что может гармонировать с лицом, если подходить к вопросу гуманистически, очевидно, есть то, с чем это лицо родилось.
– Но, – сумел он дать рационалистическое объяснение многими годами раньше, – есть гармония и гармония. – И вот – нос Эсфири. Идентичен идеалу назальной красоты, установленному кинофильмами, рекламными объявлениями, журнальными иллюстрациями. Культурная гармония, как называл ее Шёнмахер.
– Значит, попробуем на следующей неделе. – Назначил ей время. Эсфирь была в восторге. Это как ждать собственного рождения – и обсуждать с богом, спокойным и деловитым, как именно предпочтешь вступить в мир.
Через неделю она прибыла, пунктуально; в нутре туго, кожа все чувствует.
– Заходите. – Шёнмахер мягко взял ее за руку. Ей стало вяло, даже (немножко?) возбужденно. Ее усадили в зубоврачебное кресло, откинули назад, Ирвинг ее подготовила, хлопоча вокруг, как камеристка.
Лицо Эсфири очистили вокруг носа зеленым мылом, йодом и спиртом. Волосы в ноздрях постригли, преддверия бережно обработали антисептиками. После чего дали нембутал.
Делался расчет, что он ее успокоит, но дериваты барбитуровой кислоты на всех действуют по-разному. Вероятно, способствовало ее начальное возбуждение; но когда Эсфирь вкатили в операционную, она была в полубреду.
– Надо было гиосцину дать, – сказал Окоп. – От него у них амнезия, дядя.
– Тихо, шлеп, – произнес врач, размываясь. Ирвинг принялась раскладывать его инвентарь, а Окоп пристегнул Эсфирь ремнями к операционному столу. Глаза у нее были дики; она тихонько всхлипывала, очевидно начиная уже передумывать.
– Поздняк метаться, – с ухмылкой утешил ее Окоп. – Лежите спокойно, ага.
На всех троих были хирургические маски. Глаза их вдруг показались Эсфири злонамеренными. Она замотала головой.
– Окоп, придержи ей голову, – раздался приглушенный голос Шёнмахера, – а Ирвинг будет давать анестезию. Нужно практиковаться, детка. Принеси-ка склянку с новокаином.
Под голову Эсфири подоткнули стерильные полотенца, в глаза капнули касторового масла. Все лицо ей снова промокнули, на сей раз – метафеном и спиртом. После чего в глубину каждой ноздри протолкнули марлевую набивку, чтобы антисептики и кровь не стекали ей в глотку и гортань.
Ирвинг вернулась с новокаином, иглой и шприцем. Сперва она ввела анестетик Эсфири в кончик носа, по уколу с каждой стороны. Затем сделала по нескольку инъекций радиально вокруг каждой ноздри, дабы омертвить крылья носа, сиречь пазухи, ее большой палец жал на поршень всякий раз, когда игла извлекалась.
– Поменяй на большу́ю, – тихо сказал Шёнмахер. Ирвинг выудила из автоклава двухдюймовую иглу. Теперь игла впихивалась, под самой кожей, до самого верха по каждой стороне носа, от ноздри до смычки носа и лба.
Никто не предупреждал Эсфирь, что в операции будет что-то болезненное. Но от уколов этих было больно: ничего прежде ею испытанное так никогда не болело. Двигать от боли ей оставалось только бедрами. Окоп держал ее голову и щерился оценивающе, а она, в узах, корчилась на столе.
Снова в носу с еще одним грузом анестетика, шприц Ирвинг теперь ввелся между верхним и нижним хрящами и протолкнулся до самой глабеллы – надпереносья, бугра между бровями.
Серия внутренних инъекций в перегородку – костную и хрящевую стенку, разделяющую две половины носа, – и с анестезией покончено. Половая метафора всего предприятия не прошла мимо Окопа, который твердил нараспев:
– Суй… вынай… суй… ууу как хорошо… тяни… – и тихонько подхихикивал, нависая над глазами Эсфири. Ирвинг всякий раз вздыхала в раздражении. «Ох уж этот мальчик», – того и гляди, казалось, скажет она.
Немного погодя Шёнмахер принялся щипать и крутить нос Эсфири.
– Теперь как? Больно? – Шепотом «нет»: Шёнмахер крутнул сильнее: – Больно?
– Нет.
– Ладно. Накройте ей глаза.
– Может, она посмотреть хочет, – сказал Окоп.
– Хотите посмотреть, Эсфирь? Что мы с вами собираемся сделать?
– Не знаю. – Голос ее был слаб, колебался между тут и истерикой.
– Тогда смотрите, – сказал Шёнмахер. – Образовывайтесь. Сначала срежем горб. Смотрите – это скальпель.
Операция была рутинной; Шёнмахер работал быстро, ни он сам, ни его медсестра движений впустую не тратили. А от ласковых мазков губкой – и почти без крови. Время от времени струйка от него убегала и дотекала почти до полотенец, но он ее перехватывал.
Сначала Шёнмахер сделал два надреза, по обеим сторонам, в слизистой оболочке носа, возле перегородки у нижней границы бокового хряща. Затем ввел изогнутые и заостренные ножницы с длинными ручками в ноздрю, мимо хряща к носовой кости. Ножницы сконструированы были так, чтобы резать и при открытии, и при закрытии. Быстро, как цирюльник, достригающий голову с хорошими чаевыми, он отделил кость от перегородки и кожи, ее покрывающей.
– Мы это называем подсечкой, – пояснил он. Он повторил ножницами то же самое и в другой ноздре. – Понимаете, у вас две носовые кости, они разделены перегородкой. Внизу обе крепятся к латеральному хрящу. Я у вас подсекаю все от этого соединения до того места, где носовые кости соединяются со лбом.
Ирвинг передала ему что-то вроде стамески.
– Элеватор Маккенти – вот эта штука. – Он позондировал элеватором внутри, завершая подсечку. – А теперь, – мягко, словно любовник, – я отпилю ваш горб. – Эсфирь, как могла, наблюдала за его глазами, выискивая в них что-нибудь человеческое. Никогда еще не была она столь беспомощна. Потом она скажет:
– То было почти что мистическое переживание. В какой это религии – что-то восточное – высочайшее состояние, которого мы можем достичь, – предмет – камень. Там было так же; я чувствовала, как меня сносит вниз, такая восхитительная утрата Эсфирности, я все больше становлюсь каплей, ни забот, ни травм, ничего: одно лишь Бытие…
Маска с глиняным носом лежала на столике поблизости. Сверяясь с нею быстрыми косыми взглядами, Шёнмахер ввел в один надрез полотно пилы и протолкнул до костистой части. Затем выровнял его согласно новой линии носа и осторожно принялся пилить носовую кость с этой стороны.
– Кость пилится легко, – заметил он Эсфири. – На самом деле все мы довольно хрупки. – Пила дошла до мягкой перегородки; Шёнмахер извлек полотно. – А вот теперь хитрая часть. Мне нужно с другой стороны отпилить все в точности так же. Иначе нос у вас выйдет кособокий. – Он так же вставил полотно с другой стороны, а потом смотрел на маску, как показалось Эсфири, чуть ли не четверть часа; несколько раз меленько подровнял пилу. После чего наконец отпилил там кость по прямой. – Ваша горбинка теперь – два отдельных кусочка кости, держащихся только за перегородку. Это нам предстоит перерезать, встык с двумя другими разрезами. – Так он и поступил – скобелем с угловым лезвием, рассек быстро, завершив этот этап изящными росчерками губки. – А теперь горб у вас болтается в носу. – Он оттянул одну ноздрю ретрактором, ввел в нее хирургические щипцы и пошарил, где же там горб. – Беру свои слова обратно, – улыбнулся он. – Пока еще он не желает выходить. – Ножницами отчикал горб от латерального хряща, который его удерживал; затем костными щипцами извлек темноватый комок хрящевины и торжествующе помахал им перед лицом Эсфири. – Двадцать два года общественной несчастности, nicht wahr?[39] Конец первого акта. Мы его поместим в формальдегид, можете хранить как сувенир, если захотите. – Говоря, он заглаживал края надрезов маленьким рашпилем.
Ну вот и все с горбинкой. Но там, где она была, теперь осталось плоское место. Переносица, для начала, была слишком широка, теперь ее следовало сузить.
Вновь он подсек носовые кости, только теперь – дотуда, где они встречались со скулами, и дальше. Вынимая ножницы, он вместо них вставил угловую пилу.
– Носовые кости у вас, видите ли, укреплены прочно; сбоку к скуле, сверху ко лбу. Мы должны их разломить, чтобы подвигать вам нос. Как вот этот комок глины.
Он распилил носовые кости с обеих сторон, отделив их от скул. После чего взял долото и вправил в одну ноздрю, вогнал, сколько мог, пока лезвие не коснулось кости.
– Дайте мне знать, если что-то почувствуете. – Он несколько раз легонько постукал по долоту киянкой; остановился в недоумении, а затем заколотил жестче. – Крепкий засранец, – сказал он, отбросив всякую веселость. Тук, тук, тук. – Давай же, ублюдок. – Острие долота медленно продвигалось, по миллиметру, между бровей Эсфири. – Scheisse![40] – С громким щелчком нос ее отделился от лба. Подтолкнув его большими пальцами с обеих сторон, Шёнмахер довершил откол. – Видите? Все теперь шатается. Это акт второй. Теперь мы укоротим das Septum, ja[41].
Скальпелем он сделал надрез вокруг перегородки, между нею и двумя прилегающими боковыми хрящами. После этого дорезал по кругу перед самой перегородкой до самого «хребта», расположенного в ноздрях глубже.
– Отчего перегородка у вас будет болтаться. А заканчиваем мы работу ножницами. – Анатомическими ножницами он подсек перегородку по бокам и поверх костей до самой глабеллы, в верхней части носа.
Далее он ввел скальпель в один надрез в ноздре, а высунулся тот в другую, и пилил режущей кромкой, пока перегородка внизу не отделилась. После чего приподнял одну ноздрю ретрактором, сунул внутрь зажим Эллиса и вытянул часть неприкрепленной перегородки наружу. Быстрый перенос циркуля от маски к обнажившейся перегородке; потом прямыми ножницами Шёнмахер выкусил треугольный клинышек перегородки.
– Теперь ставим все на место.
Поглядывая на маску, он свел носовые кости вместе. Это сузило переносицу и убрало плоскость там, откуда срезали горб. Некоторое время тщательно удостоверялся, что половинки выровнены намертво по центру. Кости причудливо пощелкивали, когда он ими двигал.
– Чтобы носик ваш был вздернут, наложим два шва.
«Стык» располагался между недавно надрезанным краем перегородки и колумеллой. Иглой в держателе сквозь всю ширину колумеллы и перегородки сделали два шелковых стежка наискось.
Целиком операция заняла меньше часа. Эсфирь почистили, вынули марлевую набивку и заменили сульфамидной мазью и новой марлей. Ноздри ей залепили клейким пластырем, другую полосу наклеили поверх ее новой переносицы. Поверх – формирующий вкладыш Стента, жестяной защитный кожух и снова клейкий пластырь. В каждую ноздрю ввели резиновые трубки, чтобы она могла дышать.
Два дня спустя всю эту упаковку убрали. Пластырь отклеили через пять. Швы сняли через семь. Вздернутый конечный продукт выглядел нелепо, но Шёнмахер ее заверил, что через несколько месяцев он немного обмякнет. Обмяк.
39
Не правда ли? (нем.)
40
Дерьмо! (нем.)
41
…перегородку, да (нем.).