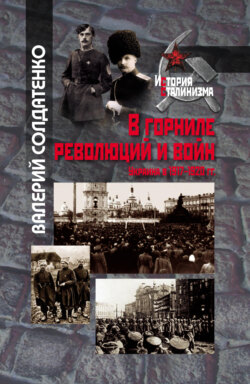Читать книгу В горниле революций и войн: Украина в 1917-1920 гг. историко-историографические эссе - В. Ф. Солдатенко - Страница 3
І. Революционный набат 1917 г. и украинское эхо
1. Поддержка и развитие февральского почина
ОглавлениеВ разгар Первой мировой войны, затеянной ради передела уже поделенного мира, в России – самом слабом звене капиталистической системы – в течение нескольких дней было сметено самодержавие, грянула Февральская буржуазно-демократическая революция. Она не была случайностью.
С одной стороны, острейший кризис, пронизавший все стороны жизни общества, достиг крайней черты; с другой – в объективно выдвинувшейся в авангард мирового революционного процесса России в единое могучее русло слились различные потоки борьбы – трудового народа против нарастающей нищеты, насилия и бесправия, в том числе – пролетариата против усиливающейся эксплуатации, крестьян – за землю, антиимпериалистических сил – за прекращение войны, всеобщий мир, угнетенных народов – за свободу, всех прогрессивных слоев общества – против пережитков феодализма, самого отвратительного уродливого из них – самодержавия, являвшегося оплотом социального и национального порабощения, мрачной, мертвящей цитаделью антидемократизма, непримиримым врагом общественного прогресса. Неуклонно нарастали негативные явления, тревожные тенденции в международном положении страны: и не только из-за поражений на фронтах, но и из-за коварного поведения союзников по антантской коалиции.
Сплетаясь в тугой узел, объективные и субъективные факторы предопределили генеральный вектор неумолимой исторической поступи – свержение царизма, решительно и бесповоротно отправленного в небытие в считанные бурные февральские дни 1917 г.
Февральская революция стала переломным этапом в истории России, населявших ее народов. Уничтожение самодержавия коренным образом изменило обстановку, явилось громадным шагом вперед в политическом развитии страны, всех ее регионов. В течение нескольких дней полукрепостническая, полусредневековая Россия превратилась в буржуазно-демократическую республику – более свободную, нежели любая другая страна в мире. Открылись благоприятные условия для перспективы торжества подлинного народоправия. Классы и выражающие их интересы политические партии получили возможность открытой, свободной борьбы за влияние на общественное развитие, на судьбы народа.
Вызвав могучий политический подъем, революция привела к принципиально новой расстановке классовых сил. Буржуазия и ее главная партия – кадеты возглавили официальную власть – Временное правительство. Их поддержали соглашатели из лагеря меньшевиков и эсеров. Правительство стало выразителем и поборником интересов имущих слоев населения – заводчиков, фабрикантов, банкиров, земельных латифундистов, управленческой бюрократии. Свою главную задачу оно видело в усмирении стихийного революционного движения и доведении общества до Учредительного собрания, которому планировало передать полноту власти и судьбу страны, с облегчением избавившись от тяжкого груза ответственности, внезапно свалившегося на головы во многом случайных, лишенных способности стратегического, перспективного мышления политиков. Безвольное и трусливое, правительство с первых своих шагов вынуждено было считаться с авторитетом и влиянием Советов рабочих и солдатских депутатов, возникших в дни решающих революционных битв и весьма дерзко заявивших права на определение и осуществление дальнейшего государственного курса.
По существу привычный для предыдущих времен стержень власти оказался сильно деформированным, с прозрачной перспективой усиления в общественной жизни роли Советов, что, между тем, тормозилось засилием в их рядах соглашательских элементов. Тем не менее, непростая ситуация в комплексе открывала немыслимые ранее возможности для масштабной демократизации всех сфер общественной жизни в стране. Для Украины этот процесс сразу же приобрел два измерения: социальное и национальное.
Производительные силы Украины с необычайно высокой концентрацией капитала и наемной рабочей силы (естественно – в российских масштабах) превращали ее в мощный фактор объективного стремления к более высокой ступени социальной организации. И путь к ней был предначертан марксистской теорией – пролетарская революция. А наиболее убедительным олицетворением этой тенденции являлся рост большевистских рядов.
Если после выхода из подполья организации РСДРП(б) в Украине насчитывали всего 2 тыс. членов из общего числа в 24 тыс. (12-ю часть), то к моменту Октябрьской революции они выросли почти до 60 тыс. (то есть в 30 раз), а вся ленинская партия имела в своих рядах тогда 350 тыс. человек[43]. Иными словами, насыщенность большевистским элементом (почти пятая часть всего численного состава РСДРП(б)) была наивысшей, сравнительно с любым иным регионом. Одно из решающих преимуществ большевиков заключалось не в их численности (хотя тут они весьма успешно соперничали с самой крупной национальной партией – украинских эсеров), но гораздо в большей степени в том, что с самого начала революции они расчетливо, совершенно определенно сделали ставку на Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, которые родились еще в горниле первой российской революции, а в 1917 г. покрыли густой сетью всю страну. Явившись творчеством самих масс, они удивительно сочетали в себе глубоко демократическое начало с зародышевыми функциями общественного управления и очевидной перспективой вызревания потенциала исполнительной власти.
Разворачивая свою деятельность параллельно с органами Временного правительства (назначенными им комиссарами и объединенными комитетами общественных организаций), Советы быстро стали политическим фактором, без учета которого было невозможно осуществление власти, считавшей себя официальной.
В Украине уже до средины лета функционировало более 25 °Cоветов рабочих депутатов, сотни Советов солдатских (военных) депутатов и многочисленные Советы крестьянских (батрацких) депутатов[44]. Шел ускоряющийся процесс объединения этих организаций, превращая их в территориальные институты. Завоевывая все более прочные позиции в регионе, большевики оказывали всевозрастающее влияние и на Советы, которые постепенно, но неуклонно становились проводниками их политического курса. Так было, в частности, в Горловско-Щербиновском, Берестово-Богодуховском, Краматорском, Луганском и других угольных, промышленных районах Донбасса. На этот примечательный момент, как образец для подражания, обратил внимание Ленин, выступая на VII (Апрельской) Всероссийской конференции РСДРП(б). Он сослался на речь председателя Нелеповского Совета рабочих депутатов, руководителя местной большевистской организации РСДРП(б) Н. Дубового на собрании большевиков – участников Всероссийского совещания Советов рабочих и солдатских депутатов 5 апреля 1917 г. «Один углекоп, – отметил Ленин, – говорил замечательную речь, в которой он, не употребив ни единого книжного слова, рассказывал, как они делали революцию. У них вопрос стоял не о том, будет ли у них президент, но его интересовал вопрос: когда они взяли копи, надо было охранять канаты для того, чтобы не останавливать производство. Затем вопрос стал о хлебе, которого у них не было, и они также условились относительно его добывания. Вот это настоящая программа революции, не из книжки вычитанная. Вот это настоящее завоевание власти на месте»[45].
Возникшая весной 1917 г. ситуация выявила два основных направления дальнейшего развития страны. Первое основывалось на том, что главные подвижки – переход власти в новые руки – уже совершились, потому остается плавно, не спеша, реформистскими методами утверждать новый строй, постепенно стабилизировать ситуацию, не допускать новых всплесков эмоций, разгула стихии. Сторонники второго взгляда исходили из того, что Февраль 1917 г. лишь широко отворил двери для действительного движения вперед, к новым рубежам социальных и национальных завоеваний. В национальных регионах местная элита, опираясь на позицию столичных политических центров и одновременно учитывая резкое обострение национальных чувств и быстрый рост самосознания широких масс, предложила различные по своему содержанию и направленности программы национально-государственного созидания. Во-первых, это были проекты демократически-либеральных трансформаций.
Свержение самодержавия выдвинуло на авансцену российской политики партию кадетов (другие правые партии утратили свое влияние уже в годы войны и практически прекратили свою деятельность в первые месяцы 1917 г.).
Лидеры конституционно-демократической партии вынуждены были считаться с тем, что под народным натиском события зашли гораздо дальше того, что выдвигалось их партийной программой, потому в спешном порядке на очередном съезде (25–27 марта) попытались скорректировать свою официальную позицию. Вместо прежнего названия было решено впредь именоваться исключительно Партией народной свободы (ПНС). Соответственно, вместо изъятых положений о конституционной монархии появились термины парламентаризма и республиканского строя, как ключевые стратегические задачи. Окончательное решение проблем государственного устройства России откладывалось до Всероссийского учредительного собрания.
Превращение ПНС в одну из руководящих, правительственных сил способствовало укреплению ее позиций, увеличению рядов на местах, в том числе в Украине. Здесь разворачивали свою деятельность их организации в Киеве, Харькове, Одессе, Екатеринославе, Полтаве, Сумах, Александровске, других центрах, достигнув количества 7,5–8 тыс. членов из общего числа 60–70 тыс. в общероссийском масштабе[46].
Местные организации в своих ориентациях принципиально шли в фарватере линии, определяемой руководящим ядром ПНС – П. Милюковым, П. Струве, князем Г. Львовым, бароном Б. Нольде. Некоторые отличия в подходах возникали разве что в вопросах, касающихся национальной сферы, взглядах на перспективы строительства многонационального государства. Имея в своих рядах большинство неукраинских по происхождению элементов, местные организации больше склонялись к идее унитарной российской государственности. Украинские же деятели (А. Вязлов, А. Славинский, И. Шраг, М. Туган-Барановский) робко защищали федеративную форму государственного устройства, однако пасовали перед позициями великодержавного большинства и продолжали быть надежной опорой ЦК ПНС в проведении его политики и укреплении общероссийских властных институтов в Украине.
Либеральный курс кадетов, Временного правительства разделяли и в главных позициях поддерживали меньшевики, эсеры, бундовцы[47], хотя в их рядах (и в центре, и на Украине) начало проявляться разномыслие относительно путей реализации и социальных, и национальных программ.
Выбор перспективы общественного развития в полиэтнической стране с нерешенным национальным вопросом, доставшимся в наследие от прежнего имперского режима, не мог не сказаться на процессе выработки, оформления взглядов на перспективу движения к социальным и национальным идеалам. Поэтому, естественно, предметом особого внимания в программах национально-политических сил относительно государственного переустройства России на первое место выходила проблема объединения общегосударственных интересов всеохватывающей демократизации с интересами народов, не имевших до 1917 г. своей государственности и неудержимо стремившихся к полноценному прогрессу во всех сферах национальной жизни.
Заняты этим были и лидеры украинского политикума, руководители национальных партий. Их усилиями, спонтанными стремлениями масс национально-освободительное движение в Украине приобрело такой размах и глубину, ускоренным темпом начало ставить масштабные, кардинальные задачи бытия нации, всего края, что в современной исторической науке правомерно квалифицируется как Украинская национально-демократическая революция.
Представления о событиях в Украине в 1917–1920 гг. как об Украинской национально-освободительной (национально-демократической) революции закрепились в нашей историографии сравнительно недавно. Правда, тенденция к квалификации региональных революционных процессов в обозначенном ключе явственно проявилась в среде национальных идеологов и руководителей, начиная по существу с весны 1917 г.[48] Термин «Украинская революция» стал общеупотребимым, как бы естественным в политических документах всей революционной поры. Он получил сущностное обоснование в трудах представителей украинской эмиграции, интеллектуальные силы которой после поражений, которыми закончились их усилия, сосредоточились на историческом анализе попытки реализации своих планов и программ.
Так, уже в 1920 г. популярный украинский писатель и драматург, глава Генерального секретариата (первого национального правительства в 1917 г.) и председатель Директории, возглавивший антигетманское восстание осенью 1918 г., выпустил трехтомник «Возрождение нации» (второй и третий тома имеют подзаголовок – «История украинской революции [март 1917 г. – декабрь 1919 г.]»)[49]. В 1921–1922 гг. вышли четыре тома «Записок и материалов по истории Украинской революции» бывшего генерального писаря, министра внутренних дел в 1917–1918 гг., высокого правительственного чиновника в 19191920 гг. П. Христюка[50]. Затем появились масштабные исследования Н. Шаповала, Д. Дорошенко, И. Мазепы, других видных деятелей революционной поры [51].
Были еще сотни изданий (больших и меньших по объему) – документальных, исследовательских, мемуарных, публицистических, объектом которых являлась история Украинской революции. Однако парадоксальность ситуации заключалась в том, что главным образом бывшие участники национально-демократической революции ретроспективно убеждали вдали от Родины в существовании общественного феномена друг друга и самих себя.
Читатели Советской Украины в это время внимали доводам отечественных историков, отрицавших не только факт Украинской революции, но даже и гипотетическую возможность ее. Попытки некоторых авторов (А. Речицкого, М. Яворского, В. Затонского, И. Гермайзе, М. Рубача) использовать в своих трудах термин «Украинская революция» и не нашедшие серьезного развития спорадические опыты разобраться в сущности явления к началу 30-х годов были отторгнуты. Поскольку в социальную схему развития революционного процесса в России (за буржуазно-демократической закономерно следовала пролетарская революция) многие процессы и события в Украине не вписывались, они априорно объявлялись контрреволюционными (с точки зрения общественного прогресса) и буржуазно-националистическими (с точки зрения интернациональных задач пролетариата). А наиболее весомый аргумент в пользу подобной логики сводился к тому, что свой исторический приговор альтернативным вариантам, отстаиваемым различными политическими лагерями, вынесла сама жизнь. И если в горниле ожесточенных битв массы отказали в поддержке национальным лозунгам, любые попытки их ретроспективного анализа в положительном ключе тут же объявлялись рецидивами фальсификаторов, идеологическими происками «вчерашних» людей, стремящихся подорвать социализм и дружбу народов.
В отчаянном противоборстве с подобным «монизмом» советской историографии украинские историки и публицисты в диаспоре далеко не всегда удерживались на позициях объективности и все больше впадали в крайности, субъективизм, что, естественно, не умножало научности их трудов, делало их уязвимыми и малопривлекательными.
С рубежа 90-х годов в Украине начался новый этап в постижении исторического опыта 1917–1920 гг. Можно говорить даже о своеобразном публикаторском и исследовательском буме.
Осуществлены результативные шаги в освоении источниковой базы, особенно того сегмента, который в советское время почти не вовлекался в научный оборот. Речь идет о материалах, в которых отразилась деятельность национальных партий и организаций, государственных центров, политических систем, порожденных Украинской революцией. Это, прежде всего, издания, связанные с функционированием Центральной рады, Директории, развитием национально-освободительного движения[52]. Определенную информационную ценность имеют и обнародованные документы гетманского периода [53].
Большой размах приобрели перепечатки разнообразного политико-публицистического наследия лидеров Украинской революции – М. Грушевского, В. Винниченко, С. Петлюры, Д. Дорошенко, И. Мазепы, М. Шаповала, государственных деятелей – П. Скоропадского, В. Липинского и др.[54]
Продолжают выходить многие мемуарные и дневниковые работы как упомянутых выше, так и других участников событий[55].
Немало делается и для издания в Украине тех трудов о процессах 1917–1920 гг., которые впервые увидели свет за рубежом[56].
Следует отметить, что государственные, идеологические институты привлекали внимание к событиям 1917–1920 гг., стимулируя массовое общественно-политическое реагирование соответствующими документами (постановлениями) наивысшего уровня, организацией массовых мероприятий и т. п.[57]
Означенное, естественно, сказалось на масштабности собственно исследовательских усилий. На протяжении двух с половиной десятилетий защищено более полутысячи докторских и кандидатских диссертаций с проблематикой революционной эпохи[58]. Налицо явная тенденция к дальнейшему умножению работ в данной сфере, хотя былая активность несколько спадает.
Начиная с 1991 г. выпущены сотни книг и брошюр, тысячи статей, которые так или иначе анализируют события в Украине под углом зрения национально-демократической революции[59]. Только в вышедшем еще в 2001 г. тематическом библиографическом указателе зафиксировано около 7 тыс. позиций[60].
Историография Украинской революции по количественным показателям, несомненно, вышла на ведущие позиции в исторической литературе. Делались попытки подвести и промежуточные итоги этого непростого процесса[61].
Опираясь на достигнутые коллективные результаты, думается, можно в самом кратком варианте обозначить основные контуры рассматриваемого феномена следующим образом.
Тесно взаимосвязанные с общероссийским революционным процессом, детерминированные им многие события в Украине 1917–1920 гг. в исторической реконструкции целесообразно выделять и именовать Украинской национально-демократической революцией. Это отнюдь не означает, что Украина была как-то отгорожена от общероссийских тенденций, что последние не имели в ней места. С момента свержения самодержавия украинство влилось могучим потоком в общий процесс демократических преобразований в стране, осуществляя весомый вклад в необратимость начатого переустройства общества.
Однако неоспоримым фактом остается то, что после свержения самодержавия общественно-политическое движение в Украине, наряду с общим стремлением к демократизации и социальному прогрессу, имело свои, собственные, отличные задачи. Если их свести в лапидарную формулу, то она может звучать как освобождение и возрождение украинской нации (во всех сферах общественного бытия – экономике, политике, духовной жизни) [62].
Именно с учетом последнего обстоятельства, точнее для реализации таких задач параллельно с общероссийскими партиями, всегда находившими довольно мощную поддержку в Украине, с начала века создавались и упрочивались, развивали свою деятельность украинские (национальные) политические партии. В 1917 г. сеть таких партий стала еще более разветвленной, а организации укрепились, существенно умножили свои ряды. Весьма влиятельными, хотя, естественно и не в равной мере, стали Украинская партия социалистов-революционеров (УПСР), Украинская социал-демократическая рабочая партия (УСДРП), Украинская партия социалистов-федералистов (УПСФ), Украинская партия самостийников-социалистов (УПСС), Украинская хлеборобско-демократическая партия (УХДП) и другие. Программы этих партий имели целью превращение этнической общности украинцев в полноценную, модерную политическую нацию. Важнейшим пунктом движения в этом направлении, одновременно и непременным условием дальнейшего прогресса, являлось создание собственной государственности.
То есть участники общественного движения в Украине с первых дней Февральской революции готовы были видеть и видели в этом движении такое качественное содержание, которое выходило за рамки определяющих параметров общероссийского (в смысле совпадающего для всех регионов) процесса, подчеркивая в цели борьбы два начала: национально-освободительное и социально-освободительное. Очевидно, можно ставить вопрос и еще шире: указанное соединение двух начал явилось и исходным моментом, и стержнем идеологии (концепции), и содержанием преобразований, и, наконец, целью движения украинской нации (по крайней мере, ее основной части) на обозначенном историческом этапе.
Таким образом, реально существовала платформа (наибольший вклад в ее разработку внесли незаурядные мыслители и политики М. Грушевский и В. Винниченко), на которой организовывались довольно многочисленные политические силы, поддерживаемые миллионными массами населения, которые соответственно мыслили и действовали, оказывали серьезное влияние на течение событий в регионе (прежде всего) и на общероссийский революционный процесс в целом (это тоже естественно, поскольку Украина всегда играла немалую роль в жизни России), не только разводили людей по разные стороны баррикад, но и разрезали фронтами гигантские территории, разрывали живое тело нации, приводили к неисчислимым страданиям и значительным жертвам. Речь здесь не о виновниках (выяснение этого вопроса слишком сложно, чтобы решать его мимоходом), а лишь о констатации того, что в 1917–1920 гг. в общественной жизни параллельно, в проникновениях, переплетениях, сочетаниях с общероссийскими развивались специфические, особые реальные процессы, происходили вполне осязаемые явления, которые имеют четкую научно-политическую квалификацию – Украинская революция.
Такую точку зрения во многом разделяют и ученые-правоведы, привыкшие более строго оперировать в исследованиях научными, выверенными критериями, ответственнее относиться к используемым категориям. Это засвидетельствовала, в частности, новейшая юбилейная международная историко-правовая конференция, проведенная Международной ассоциацией историков права, Института государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины, Университетом налогового дела и финансов и секцией истории государства и права Научного Совета НАН Украины по координации фундаментальных правовых исследований[63].
Уже при открытии конференции четко было заявлено: «Под украинской революцией мы понимаем совокупность общественно-политических процессов (подчеркнуто мною. – В. С.), связанных с реализацией украинской идеи, которые привели к коренному изменению общественных отношений на этнической территории украинского народа. Украинская революция начала ХХ века принадлежит к социальным, или, по другим определениям, социально-политическим (коренная смена общественно-политического строя, системы власти, характера господствующего режима) и национальным (по имени страны, где совершаются) революциям. В глобальном измерении есть частью революционных процессов, которые происходят в Европе, прежде всего в Российской империи и Австро-Венгерской монархии» [64].
Отстаивая точку зрения, согласно которой отличия Украинской революции, вычленявшие ее из общероссийского контекста, заключались в диалектическом сочетании этнонационального и социального моментов, специалисты в области юриспруденции возражают против попыток выделения событий в Украине в самостоятельное явление[65].
Тут «прочитывается» явное несогласие с позицией тех историков, которые берут на себя ответственность утверждать (и выдают это за мнение всех современных украинских авторов), что следует рассматривать «революционные события в Украине преимущественно в национальном дискурсе (подчеркнуто мною. – В. С.)», трактовать «Украинскую революцию как масштабное событие, связанное, прежде всего, с борьбой украинской нации за возобновление и утверждение собственной государственности. Именно так это излагается в дидактической историографии, в школьных учебниках по истории Украины.
Период 1917–1921 гг. небольшой по продолжительности, однако в условиях столетий безгосударственности чрезвычайно красноречивый и вполне необходимый для исторической легитимизации современного государства (подчеркнуто мною. – В. С.)»[66].
В последнем случае обращают на себя внимание два момента. Во-первых, национальную память в Украине формируют «по годам», отдавая ее «на откуп» субъективному фактору – потому 2007–2010 гг. – это особый период (именно тогда оба автора по большей части имели отношение к функционированию Украинского института национальной памяти). Во-вторых, прочтя такое, многие, наверное, вспомнят: «История – это политика, обращенная в прошлое», «История – служанка политики» и еще что-то в этом роде. Вряд ли в таком случае стоит затевать спор – он будет беспредметным.
Тем более лишенными смысла представляются дискуссии с теми, кто, ознакомившись с приведенными толкованиями существа Украинской революции, вконец запутываются и в отчаянии, сопряженном с попытками найти собственный путь к истине, вообще доходят до отрицания феномена Украинской революции: «События 1917-1920-х годов (тут не место заводить разговор о выверенности хронологии) не имели для украинского народа революционного характера. Это была реализация украинским народом своего права на самоопределение. Возможности для реализации этого права появились в результате революционных событий, вызвавших развал империй, в состав которых входили различные части украинских земель. Украинский народ не сыграл в этом процессе заметной роли». А уж исходя из этого исследователь-правовед (тут, как и среди историков, тоже не все единодушны) полагает, «что уже сегодня стоит заменить, по крайней мере в нормативно-правовых актах и историко-правовых исследованиях, термин “украинская революция 1917–1923 гг.” на “Украинская национальная государственность 1917–1923 гг.”» [67].
Понимая, что в данном случае осуществляется простая подмена понятий, и не желая втягиваться в разоблачение манипуляций, думается, целесообразнее обратиться к историческому опыту, фактам, документам революционной поры. Тогда с целью претворения идейных замыслов, политической платформы в практику были созданы соответствующие органы революционного действия: в 19171918 гг. – Центральная рада, а в 1918–1920 гг. – Директория. Эти органы, безусловно, осуществляли чрезвычайно важные, хотя условно и прагматически-узкие функции – венчали государственную власть в Украинской Народной Республике. Однако на обоих этапах революции они решали и гораздо более широкие общественно-политические задачи – были инициаторами, вдохновителями, организаторами, то есть главными акторами масштабнейших, всеобъемлющих революционно-преобразующих процессов.
Революция в Украине имела две главные, довольно затяжные волны. Первая – это эпоха Центральной рады: с начала марта 1917 г. до 29 апреля 1918 г. Вторая – с момента победы антигетманского восстания под руководством Директории (14 декабря 1918 г.) – до конца 1920 г. Между ними был период контрреволюционного наступления, олицетворяемый гетманом П. Скоропадским и его авторитарным, диктаторским режимом (29 апреля – 14 декабря 1918 г.).
Как представляется, следует специально дополнительно оговориться относительно весьма важного исследовательского момента, который существенно влияет на воспроизводимую историческую картину, точнее – ее основу, канву. Когда речь заходит об Украинской революции как о некоем особом явлении, нельзя считать, что она в пространственном и содержательном отношении была отграниченным, самостоятельным феноменом, «отрезанным» от того, что происходило с Россией, в России в целом. Совсем наоборот. Нередко масштабы, интенсивность общих проблем и характер их решения в Украине оказывались в социологическом измерении и представлении более рельефными, результативными, нежели во многих других, отчасти даже центральных регионах страны.
И во многом речь не о каких-то малозначимых, второстепенных сегментах общественной жизни, а об определяющих, сердцевинных механизмах пульсирования тогдашних революционных векторов, заключающихся, скажем, в потенциях и могуществе пролетарского движения, деятельности большевистских организаций, позиции Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и т. п. И в то же время параллельно, во взаимопереплетениях, взаимовлияниях и противодействиях развивалось мощное национально-освободительное движение, в силу ряда причин очень быстро приобретшее параметры и сущностные черты полноценной национально-освободительной революции. Ее цели – по возможности более полнокровное, всестороннее возрождение нации, воссоздание ее государственности как основного гаранта равноправного развития в установлении форм связи, общения с другими социумами – во многом совпадали с генеральной освободительной направленностью, динамикой процессов, порожденных и Февральской, а позже – и Октябрьской революциями, но и входившими в противоречие с ними, вызывавшими достаточно болезненные кризисные явления. То есть у историка нет совершенного чудодейственного «скальпеля» не только для того, чтобы расчленить социальную и национальную слагаемые революции по целеполаганиям мотивации действий, группированию сторонников, осуществляемой тактике, но и по пространственно-географическому принципу. Революционные потоки в своем устремлении не считались с формальными этническими границами, которые к тому же также не существовали в государственно-политической реальности.
В результате в определенные моменты, в зависимости от сложных комбинаций, обстоятельств осуществились «переливы» сил (в чем-то подобно жидкости в сообщающихся сосудах), но не оставались на одном уровне, неизменно стремясь к нарушению равновесия. То есть украинский фактор нельзя считать чем-то стабильным, стерильным и неизменным, как весьма и весьма «текущей», «колеблющейся», «виляющей» являлась объективная динамика составляющих и поведения слагаемых общероссийских процессов. Для кого-то такие «тонкости» кажутся не настолько существенными, чтобы принимать их в расчет, и потому подход оказывается предельно жестким, категоричным – только по принципу «или-или»[68]. Однако в реальной жизни присутствовал сложнейший синтез, когда в разные моменты в различных сочетаниях присутствовало одновременно и «или-или», и «то и это».
В плане уже отмеченного нельзя считать безупречным, обоснованным широко применяемое в последние годы для обозначения событий революционной поры понятие «эпоха Украинской революции», хотя оно проникло даже в учебные программы, школьные и вузовские учебники [69].
Можно предположить, что неуемным желанием «отделить» Украинскую революцию от Российской явился выбор руководством «Очерков истории Украинской революции» структурного построения двухтомника. Первый том посвящен последовательному изложению событий, связанных с Центральной радой и Гетманатом, третья часть объема второго тома освещает процессы, проходившие под эгидой Директории, вплоть до конца ноября 1920 г. То есть применен хронологический метод подачи материала. Затем следует раздел о создании и деятельности Западно-Украинской Народной Республики (с октября 1918 по июль 1919).
А уже затем следуют разделы «Большевистская экспансия в Украину» (с момента Февральской революции 1917 г. до начала 1921) и «Белое движение и Украина» (1917–1920).
Такой подход «на параллелях», конечно, также имеет «право на жизнь» и даже обладает определенными преимуществами: большей сосредоточенностью на избираемом и провозглашаемом объекте исследования. Однако он же имеет и весьма существенный недостаток: отход от комплексного, системного постижения фактов, явлений, документов, процессов, находившихся в реальной жизни во взаимодополнениях, взаимопереплетениях, взаимовлияниях.
Особенно наглядно «неудобства» проступают, например, при раздельной реконструкции истории УНР и ЗУНР, пусть больше формально, но все же пребывавших в статусе одного, единого государства с конца января 1919 г., что обернулось немалыми издержками именно из-за внутренних противоречий между ориентациями и поведением сопряженных субъектов.
Поэтому расположение практически в конце книги раздела, повествующего о деятельности большевиков, с весны 1917 г. в отрыве от разговора о той же Центральной Раде, их поэтапных взаимоотношениях выглядит недостаточно конструктивным. Правда, авторам раздела, очевидно, нужно нечто иное, о чем свидетельствует смысл названия структурной единицы: «Большевистская экспансия в Украину» (и это с весны 1917 г. – ?!). Попутно, следует заметить, что в 1917 г. в Украине функционировали местные организации практически всех общероссийских партий – кадеты, меньшевики, эсеры, бундовцы и иные, однако это было, наверное, естественно, а вот большевики это априори и в любом случае «экспансионисты». Что же касается, скажем, «белых» – совсем другое дело. Тут взаимоотношения следует представлять в более спокойных тонах, через союз «и»: «Белое движение» и «Украина».
Впрочем, оказывается, что последовательности от авторов раздела «Большевистская экспансия в Украину» (Г. Г. Ефименко, С. В. Кульчицкий, В. Ф. Верстюк) ждать не приходится. Начинается раздел с фразы «Большевистско-советский фактор явился важной слагаемой Украинской революции»[70]. В подтверждение тезиса используется авторитет И. Лысяка-Рудницкого. «В первую очередь нужна интеллектуальная честность, готовность видеть вещи такими, какими они действительно есть. Однако среди нашей общественности господствует противоположная наклонность: закрывать глаза на нежелательные факты. И так отрицают существование коммунизма как украинского политического течения. Коммунизм, мол, выступал только как форма чужеземной, российской интервенции и оккупации, а украинские коммунисты – это просто агенты Москвы»[71].
Продолжая логическую линию, авторы далее рассуждают: «Несколько похожая ситуация наблюдается и в современной украинской историографии: большевистско-советский фактор периода 1917–1920 гг. в обобщающих трудах рассматривается преимущественно в качестве внешней силы, прежде всего в контексте взаимоотношений советской (в конце 1917 – в начале 1918 г. общеупотребимым было название «совітська») власти с украинскими национальными правительствами. Влияние этого фактора на протекание событий в ходе Украинской революции анализируется недостаточно»[72].
С такой в общем-то объективной, трезвой оценкой можно было бы согласиться.
Правда, сразу возникает вопрос: а как же с утверждением, содержащимся в предисловии к проекту: «Взаимосвязь Украинской революции с Февральской российской революцией, развитие первой в контексте второй вполне очевидны. Совсем иной характер имели отношения Украинской революции с Октябрьской российской революцией. Они развивались самостоятельно и параллельно…»[73]
Оказывается, противоречие кажущееся, тезис «большевистской экспансии в Украину» абсолютно доминирующий. Если и признаются отдельные эпизоды поддержки большевиками национальных стремлений украинцев, то они оказываются неискренними, рассчитанными на тактический успех с тем, чтобы затем проявились истинные изначально антиукраинские ориентации и действия. Подавляющее место занимают сюжеты, в которых «мощные взаимовлияния» это не что иное, а исключительно «военно-политические противостояния» и «инспирированные большевистские агрессии». А если говорить еще проще, то соответствующий раздел – это совершенно определенная, «прозрачная» и достаточно агрессивная попытка развенчания коммунизма – от идеологических и организационных основ до практически каждого документа, акции, поступка, проводимой политики, до методов деятельности, в которых превалировали «обман и принуждение», основанные на «силе (т. е. насилии. – В. С.) власти»[74].
Еще одна попытка вывести Украинскую революцию за пределы Российской просматривается и в предложениях некоторых исследователей развести хронологические рамки обоих феноменов, сделать их практически несовпадающими. Однако, думается, недостаточно убедительны соображения тех авторов, которые предлагают считать началом Украинской революции первые залпы мировой войны – то есть 1914 г.[75] Приводимые в пользу такого взгляда аргументы явно недостаточны, входят в противоречия с реальными фактами, в частности, отождествляют обострение украинского вопроса в годы империалистической войны с подъемом национально-освободительного движения. Как раз наоборот. Украинское движение было практически задавлено репрессиями, усилившимися соответственно законам военного времени. Украинские партии были загнаны в глубокое подполье, едва-едва проявляли себя. Это коснулось даже либерального Товарищества украинских постепеновцев, один из признанных лидеров которого – М. Грушевский – был отправлен в ссылку.
События в Галиции выдающиеся украинские историки (М. Грушевский, Д. Дорошенко) вообще характеризовали как «Галицкую Голгофу», «Галицкую руину», где не то что о революции, а о сколько-нибудь заметных волнениях на национальной почве даже говорить не приходилось.
О чем вполне обоснованно может идти речь, так это о накоплении, своеобразном генерировании освободительной энергии, что органично вписывалось в общий контекст вызревания общеевропейской ситуации, достигавшей к началу 1917 г. предельных значений[76].
Предпочтительнее выглядит стремление российских историков «раздвинуть хронологию революционных событий в России (не революции, а «революционных событий», что принципиально важно. – В. С.)…в хронологических рамках «эпохи великих потрясений 19141921 гг.»[77]. И это последнее сущностное подтверждение предыдущей части фразы также следует понимать, лишь как вызревание в условиях «системного кризиса империи» революции как вполне определенного явления, но все же как ее преддверие, а не непосредственное начало, что в общем понятно и логично.
Настоящим же детонатором украинского национального взрыва послужила Февральская революция. Причем, вполне обоснованно говорить именно о мгновенном могучем взрыве, молниеносности осуществления серьезнейших акций, имевших далеко идущие последствия. Следует обратить внимание хотя бы на тот факт, что образование Украинской Центральной рады в Киеве произошло (по крайней мере – началось) почти параллельно, буквально через день после создания в Петрограде Временного правительства – 3–4 марта 1917 г. Тогда же в Киеве сконструировался Исполнительный комитет объединенных общественных организаций и состоялось учредительное собрание Киевского Совета рабочих депутатов[78].
Уже 5 марта 1917 г. Центральная рада разослала всем провинциальным организациям телеграмму, в которой предлагалось высылать депутации к Временному правительству с изложением неотложных нужд украинского народа, создавать просветительные организации и организовывать сборы на национальный фонд. В направленной в Петроград телеграмме приветствовалось «первое министерство свободной России» и выражалась уверенность, что «справедливые требования украинского народа и его демократической интеллигенции будут удовлетворены полностью»[79].
Весьма важным оказалось то, что под стать выплеснувшемуся энтузиазму нации (чего стоили только «зашкаливавшие» за все привычные представления демонстрации с десятками тысяч участников под украинскими знаменами в Петрограде, Киеве, повсеместные митинги, форсированное создание массовых национальных организаций!) оказались политические лидеры нации. Наблюдался поистине взлет активизации выходивших из подполья партий. Мгновенно консолидировались, умножали свои ряды Товарищество украинских постепеновцев (уже в марте наименовавшие себя Союзом автономистов-федералистов – (СУАФ; лидеры – М. Грушевский, С. Ефремов, В. Прокопович, А. Никовский), Украинская социал-демократическая рабочая партия (лидеры – В. Винниченко, Н. Порш, Б. Мартос, И. Стешенко, В. Антонович), завершили процесс объединения в Украинскую партию социалистов-революционеров существовавшие еще с начала века эсеровские организации (Н. Ковалевский, П. Христюк, Н. Шаповал, Н. Григориев, М. Стасюк), Украинская народная партия (Н. Михновский).
Каждая из партий создала свой печатный орган. А когорта талантливых публицистов (В. Винниченко, С. Ефремов, В. Прокопович, И. Стешенко, Н. Григориев и др.) поспешила донести до масс представления о переживаемом моменте, о перспективах развития общественных процессов, о вырабатываемой украинским политикумом стратегическом курсе, о предпочтениях в тактике революционного, освободительного движения.
Параллельно происходил процесс идейно-теоретического обоснования программы радикально-революционных преобразований, олицетворяемый Российской социал-демократической партией (большевиков).
Характеризуя открывшуюся после свержения самодержавия перспективу и основное направление революционной стратегии большевиков, В. И. Ленин четко и определенно заявлял: «Переход – ко 2-й революции
– к власти пролетариата
– к социализму»[80].
Усилившаяся к 1917 г. хозяйственная разруха, прогрессирующий распад экономических связей между районами страны и невозможность выхода из кризиса на путях буржуазно-демократической революции, острая необходимость в осуществлении мер, объективно означавших шаги к социализму, дополнительно подтверждали верность вывода о закономерном сближении в эпоху империализма борьбы за демократию с борьбой за социализм. В научном плане непрерывность процесса перехода от первого, буржуазно-демократического этапа революции, ко второму, социалистическому, была к тому времени обоснована и теорией перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую, и открытой В. Лениным возможностью победы социализма первоначально в нескольких или даже одной, отдельно взятой, капиталистической стране – слабейшем звене в цепи империалистических государств.
В концентрированном виде большевистская платформа, стратегическая линия была намечена в ленинской работе «Задачи пролетариата в нашей революции», хорошо известной как «Апрельские тезисы». Это была выстроенная система взаимосвязанных мер, реализация которых позволяла обществу подняться на качественно более высокую ступень, разрешить злободневные вопросы момента (такие, как окончание войны демократическим миром) и осуществить переход к социалистическому строительству как важнейшему условию решительного прорыва на пути социального и национального прогресса.
Революционная программа с одобрением воспринималась большинством членов РСДРП(б) практически всех партийных организаций, бралась ими на идеологическое вооружение и активно пропагандировалась. Так происходило в партийных организациях Харькова, Екатеринослава, Луганска, многих населенных пунктах промышленного Левобережья и Юга Украины. Однако были и исключения.
В Киеве усилиями Г. Пятакова и его сторонников – Е. Бош, Н. Лебедева, В. Быстрянского, М. Зарницына и др. – ленинскому документу была противопоставлена «Платформа Киевского комитета РСДРП» («Киевская платформа»). Ее основная идея заключалась в том, что развитие производительных сил и социальная мощь пролетариата не достигли в России того уровня, когда в порядок дня может быть поставлена социалистическая революция. Вся политическая работа большевиков должна была сводиться только к реализации Программы-минимум РСДРП, рассчитанной на этап буржуазно-демократической революции[81]. Вопреки усилиям М. Савельева (Петрова), Е. Розмирович, некоторых других большевиков, решительно выступивших в поддержку ленинского стратегического плана, против попытки затянуть его обсуждение (по существу – сорвать), Г. Пятакову удалось провести решение о посылке на VII конференцию РСДРП(б) лишь своих сторонников с императивным мандатом – руководствоваться на форуме «Киевской платформой». Так формировалась по существу самая масштабная в партии, стране оппозиция ленинским тезисам. И хотя взгляды Г. Пятакова были отвергнуты подавляющим большинством делегатов общепартийного форума, понадобилось еще некоторое время, чтобы ленинский план был полностью одобрен Киевской организацией РСДПР(б)[82].
Не без «шероховатостей» произошло сплочение киевских большевиков и на основе национальной программы партии. Но и в этом аспекте, преодолев нигилистические взгляды некоторых руководящих работников, удалось достигнуть понимания всей важности резолюции VII (Апрельской) конференции РСДРП(б) по национальному вопросу и использовать ее положения в практической деятельности. А это было чрезвычайно важно именно в Киеве – центре деятельности всех украинских партий.
Надо сказать, что большевики имели в своем распоряжении научно обоснованную, всесторонне проработанную программу решения национального вопроса. Марксистское положение о том, что не может быть свободен народ, угнетающий другие народы, что социальное освобождение пролетариата немыслимо без ликвидации национального угнетения, без свободы и равноправия всех народов, являлось краеугольным камнем тактики РСДРП(б) в национальном вопросе. «Полная свобода отделения, самая широкая местная (и национальная) автономия, детально разработанные гарантии прав национального меньшинства» – так определил В. Ленин основные положения программы революционного пролетариата в национальном вопросе в работе «Задачи пролетариата в нашей революции»[83].
Важнейшим требованием ленинской национальной программы было национальное объединение, сплочение трудящихся страны, обуславливавшиеся едиными для всех районов России экономическими и политическими факторами, общностью интересов и целей борьбы.
Руководствуясь этими идеями, большевики Украины рассматривали национально-освободительное движение как составную часть борьбы за победу социалистической революции. Именно с этих позиций они подходили и к оценкам отношения к важнейшему вопросу общественной жизни представителей других лагерей – либерально-реформистского и национально-государственного.
Естественно, правота, эффективность, как в данном вопросе, так и в остальных программных положениях и стратегических расчетах, обусловленных ими лозунгах, конкретных тактических шагах проверялась в горниле революционных сражений, в каждодневной практике.
Последняя же таила в себе немало сложностей, противоречий не только на главенствующем – социальном и общероссийском срезе противоборства, но и на региональном.
В Украине это было связано прежде всего с феноменом возникновения и деятельности Украинской Центральной рады. Латентно накатившаяся за многие годы и десятилетия освободительная энергия буквально вынесла ее на вершину общественной жизни в первые же дни после свержения самодержавия. Уже 3–4 марта на собрании представителей украинских партий и различных общественных организаций было решено образовать координационно-политический центр, формирование которого заняло несколько дней. Есть основания считать, что в основном оно завершилось 7 марта[84], а новообразование получило название Украинской Центральной рады.
Председателем Рады заочно был избран М. Грушевский – безусловно, самый авторитетный и влиятельный к тому моменту общественный украинский деятель, выдающийся ученый-историк. Особую популярность он приобрел своей многолетней последовательной борьбой за возрождение украинской государственнической традиции, научное воссоздание истории украинского этноса, украинского народа. Приступив к исполнению своих обязанностей с возвращением из Москвы, где ему довелось завершать ссылку, в марте 1917 г., М. Грушевский не оставлял их вплоть до последнего дня существования этого органа.
Заместителями председателя были избраны Ф. Кржижановский – кооператор, затем лидер Украинской трудовой партии Д. Дорошенко – историк, один из лидеров Товарищества украинских постепеновцев. Товарищем председателя (практически также заместитель) стал Д. Антонович (член УСДРП), писарем С. Веселовский (член УСДРП), казначеем В. Коваль (кооператор, позже – украинский трудовик). Практически сразу Дорошенко отказался от своей должности и вообще от участия в Центральной раде. Его сменил В. Науменко – общественный и педагогический деятель, впоследствии один из создателей Украинской федеративно-демократической партии.
В первые дни фактическое руководство Центральной радой осуществлял Кржижановский, сдав свои полномочия Грушевскому 13 марта 1917 г. Организационную работу вел Антонович [85].
Грушевский сразу же принялся за выработку платформы (программы) дальнейшего поступательного движения украинства. В ряде научно-публицистических работ, оперативно выпущенных в виде небольших брошюрок («Великий момент», «Откуда пошло украинство и куда оно идет?», «Кто такие украинцы и чего они хотят?», «Какой автономии и федерации хочет Украина» и др.) историк достаточно основательно и в то же время популярно изложил стратегические требования и тактику достижения целей национального движения. Это, собственно, было общее мнение лидеров украинских партий, Центральной рады.
Издавна считавшие самодержавие оплотом социального и национального гнета М. Грушевский, В. Винниченко, С. Ефремов, В. Прокопович, А. Никовский и другие политические лидеры украинского движения расценили Февральскую революцию как начало принципиально нового этапа в развитии, преобразовании бывшей «тюрьмы народов». Они считали, что наступил момент превращения абсолютистского централизованного государства в демократическую, децентрализованную, федеративную республику (союз национально-территориальных самоопределяющихся образований).
Потому исходной позицией лидеры Центральной рады определили заботу о необратимости начавшихся в Феврале процессов, обеспечении вклада всей нации в общее дело торжества демократии в России. Это прямо корреспондировалось с одним из краеугольных камней тогдашних представлений о сущности государственного устройства – «народоправство», то есть, народная власть, демократия, или, иными словами, – социализм (каждая украинская партия имела это определение в качестве обязательного в своем названии).
В самых общих чертах стратегию Украинской национально-демократической революции и государственного созидания М. Грушевский очень четко сформулировал в одной из первых статей 1917 г. – «Свободная Украина» («Вільна Україна»). «Требование народоправия и подлинно демократического строя на Украине в отделенной, несмешанной автономной Украине, связанной только федеративными узами то ли с иными племенами славянскими, то ли с другими народами и областями Российского государства, – это старый наш лозунг, – отмечал Глава Центральной Рады.
…Несомненно, он останется той сердцевинной политической платформой, на которой будет идти объединение жителей Украины без различия слоев и народностей. Средней между программой простого культурно-национального самоопределения народностей и требованием полной политической независимости»[86].
Глава Центральной рады пытался убедить всех тех, кто был способен логично мыслить и действовать (и украинцев, и русских), в целесообразности, взаимовыгодности, выигрышности отстаиваемого варианта достижения гармоничных отношений двух соседних народов.
Предоставление автономии Украине, по мнению М. Грушевского, не только не привело бы к ослаблению общероссийского государства, к его распаду, чего панически боялась и чем всех так грозно пугала русская элита, а, наоборот, – усилило бы тягу автономных национально-государственных образований к сплочению вокруг исторически сложившегося центра, к осознанному объединению (а в результате, понятно, – умножению) усилий для совместного решения назревших проблем, продвижения по пути прогресса.
Идеологи Украинской революции полагали, что при демократических порядках в автономном образовании можно будет эффективно реализовать интересы этнического большинства каждой территории, воплотить в конкретную политику его волю, не входя в серьезные противоречия с национальными меньшинствами. В результате полная стратегическая национально-государственная формула приобретала следующий вид: широкая национально-территориальная автономия Украины в федеративной демократической республике Россия[87].
Лапидарно программу украинского национального движения В. Винниченко формулировал ясно и определенно: «Народоправие, широкое местное самоуправление, управление хозяйственной и политической жизнью местными силами, точное определение прав и обязанностей целого государства и автономной единицы…» [88]
Вера в обязательное, неизбежное торжество демократии лежала в основе расчетов на то, что желаемого результата можно будет достичь почти автоматически, избежав конфликтов, даже исключая напряжение. Лидеры Украинской революции были убеждены, что общероссийская демократия, верная провозглашенным принципам, не должна была противиться волеизъявлению украинской нации и просто обязана была по достоинству оценить стремление украинцев не сепарироваться от русской, других наций бывшей империи, а искать общую базу для единых действий, упрочения федеративного государства. Получая возможность таким образом распоряжаться своей собственной судьбой, точнее – решать большинство важнейших вопросов самостоятельно, через автономные демократические органы власти, украинцы одновременно через принадлежность к федерации могли иметь и вполне ощутимые выгоды. Они бы пользовались преимуществами, которое имеет крупное государство на международной арене, эффектом от концентрации в единой государственной системе людских и материальных ресурсов. Поэтому федеративному центру логично было делегировать полномочия на проведение учитывающей интересы автономных образований внешней политики, строительство общих вооруженных сил, обеспечение функционирования единой финансовой системы, системы связи и путей сообщения, возможно, на решение и некоторых других важных для жизнедеятельности совместного государственного организма вопросов. Чрезвычайно важным представлялось и то, что при такой модели развития событий не разрывались бы живые экономические, политические, духовные связи, налаживавшиеся веками, – иное дело, что предстояло устранить имевшиеся тут перекосы и деформации[89].
Именно торжество демократии (ее высшим идеалом представлялось Учредительное собрание) должно было обеспечить такой прогресс в децентрализации бывшей империи, при котором определенные территории, на которых сложилось преобладание этнического элемента, получат право в собственных пределах вести дело сообразно с местными, национальными условиями и интересами (национально-территориальная автономия – ограниченное местное самоуправление, венчаемое представительным органом – Украинский сейм – аналог Учредительного собрания). Означенное представлялось хорошей и достаточной основой для решения проблемы, которая именовалась украинским вопросом. Ставя его в прямую зависимость от развития прогрессивных по содержанию событий в стране в целом, лидеры украинского движения не только не стремились противопоставить перспективную автономную Украину центрам России, а наоборот, с их деятельной помощью (демократической гарантией), не разрывая наработанных веками экономических, политических, идеологических, духовных и иных связей и традиций, достичь издавна вынашиваемой цели – найти возможности, пути к как можно более полновесной национальной самореализации в семье славянских народов (если «не заглядывать» в более далекую перспективу). Сущность стратегической цели, на которую ориентировалось украинство, излагалась М. Грушевским предельно четко и откровенно: «Украинцы не имеют желания от кого-либо отделяться, отгораживаться – они хотят только, чтобы им и всем гражданам Украины была возможность управлять краевыми делами, определять судьбу края без всяких вмешательств со стороны и без возможности таких вмешательств. Они сознают свои силы и способности и уверены в том, что когда край будет иметь свободу и будет гарантирован от всяких сдерживаний и вмешательств извне, он будет развиваться настолько сильно и успешно, что ему не нужно будет каких-либо искусственных ограждений от чужих влияний или конкуренций»[90]. А принадлежность к великой и могучей державе позволяла бы эффективно воспользоваться ее очевидными преимуществами на международной арене, особенно важными в условиях продолжения мировой войны.
Весьма примечательно и то, что обозначенная перспектива была для лидеров Украинской революции не скороспелой, сиюминутной реакцией на сложившуюся ситуацию, видением только «близлежащих возможностей». Их воззрения – свидетельство того, что они, как наследники славных освободительных традиций кирилло-мефодиевцев, сохранили верность выношенным идеям славянской федерации. Торжество Российской революции, федеративное переустройство государства они считали важнейшей стратегической целью, открывающей путь к реализации давних замыслов европейского масштаба. «Я твердо верю, да и не один я, – убеждал М. Грушевский, – что великая революция российская, только бы ее защитить от упадка и анархии, – очень повлияет на политическое переустройство всей Европы, на ее превращение в Европейскую федерацию. О такой федерации думали издавна политики и специалисты государственного права: они считали ее логическим выводом со всего дальнейшего развития европейской жизни. Она только казалась очень далекой до последних событий – так как теперь кажется близкой и осуществимой. И вот почему я и другие нисколько не озабочены полной политической независимостью Украины, не придаем ей никакого веса. Для ближайшего времени вполне достаточно широкой украинской автономии в федеративной Российской республике. А в будущем, надеемся, эта республика войдет в состав федерации европейской, и в ней Украина станет одной из наиболее сильных, мощных и надежных составляющих частей – одной из опор этой Европейской федерации» [91].
Думается, есть немало оснований утверждать, что такой четкой, конкретной программы к тому моменту не смогла выработать ни одна политическая сила в России.
Достаточно вспомнить, что Временное правительство, поспешившее провозгласить страну демократической республикой, не удосужилось ни принять сколько-нибудь целостной, внятной концепции своей деятельности, ни хотя бы принципиально определиться относительно животрепещущих вопросов момента – об окончании войны и заключении мира, об отношении к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, о созыве Учредительного собрания и конфигурации органов исполнительной власти. Полная неопределенность оставалась в аграрном, национальном вопросах, всячески тормозилось принятие рабочего законодательства[92].
Даже сравнительно более мобильные образования – порождения революционного творчества – Советы оставались долгое время в состоянии поиска приемлемой платформы. Ни мартовское совещание Советов в Петрограде, ни Первый Всероссийский съезд Советов в июне 1917 г. не смогли преодолеть разнобоя в подходах участников к назревшим проблемам жизни страны [93].
Хотя по объяснимым причинам, но все же только к концу апреля (Седьмая (Апрельская) Всероссийская конференция РСДРП(б), Петроград) смогли в общем и главном прийти к единству мнений большевики, совсем непросто воспринявшие курс на переход от буржуазно-демократической революции к социалистической[94]. Впрочем, и в последующем тут не обошлось без определенных трений.
Естественно, никакой речи не могло быть о полном согласии во взаимоотношениях и координации позиций на ближайшую и отдаленную перспективу между общероссийскими партиями (Партия народной свободы (кадеты), меньшевики, эсеры, бундовцы и др.)[95].
Глава Центральной рады М. Грушевский, его тогдашний ближайший сподвижник В. Винниченко, их соратники выполнили в тот момент очень важную, можно сказать – исключительную, историческую миссию (на такую роль, кроме них, вряд ли вообще кто был способен в украинском политикуме) – они в кратчайшие сроки смогли убедить самые широкие слои нации в том, что предложенный ими вариант научно обоснован, логичен, реально вполне осуществим, продуктивен. Грушевский адаптировал для сознания украинца с двухклассным церковно-приходским образованием теоретические выкладки сложнейших вопросов о возможных государственных системах (их преимуществах и недостатках), о различных вариантах политических конструкций государств и, как абсолютно обоснованный вывод – требования широкой национально-территориальной автономии в федеративной демократической республике России. Именно этой цели он и подчинил все свое творчество и всю организационно-политическую деятельность.
* * *
Революционные времена, с их скоротечностью, спрессованностью событий, не позволяют силам, берущим на себя авангардную роль, долго доказывать правоту своих теоретических воззрений и построений. Платформы, концепции, программы проходят быструю апробацию жизнью. Приобретающие все больший опыт массы зачастую буквально в считанные дни выносят свои неумолимые вердикты партиям, их поведению, их лозунгам. Сравнительно быстро слетает с сущности предлагаемых курсов пропагандистская шелуха, обнаруживается политическая мимикрия тех, кто рядится в модные, популярные словесные наряды с целью прикрытия своих целей, на деле расходящихся с красивыми обещаниями.
Короткий по историческим меркам период между Февралем и Октябрем продемонстрировал динамику развития революционного сознания масс, необходимости оперативной выработки способности объективно оценивать позиции и действия политических сил, лагерей, примыкать к движениям, в наибольшей степени ориентированным на решение самых насущных, самых животрепещущих проблем, концентрирующихся на главных направлениях – обеспечении социального и национального прогресса, или хотя бы приближении к обеспечению условий, позволяющих преодолеть системный кризис, переломить негативные тенденции, вывести на открытую дорогу позитивных преобразований.
Временное правительство, от которого ожидали решительных, по-настоящему революционных мер, направленных на разрыв со вчерашними, самодержавными порядками, принципиальное дистанцирование от них, оказалось в положении несоответствия вызовам эпохи, народным чаяниям, более того – в противоречии даже с объявленными смутными обещаниями.
Заявив о том, что первейшей задачей является созыв Учредительного собрания, правительство очень медленно «раскачивалось», вступив на путь откровенных проволочек, параллельно пытаясь закрепить позиции цензовых элементов страны, противодействовать активизации масс, подъемам революционной волны. Признать такую линию прагматичной вряд ли можно, поскольку искусственное затягивание с реальными шагами по внедрению в жизнь идеала, с которым многие и многие связывали будущее страны, ее народа, оборачивалось нарастанием массового недовольства. Ведь перманентно отодвигалась и перспектива решения социально-экономических проблем, прежде всего аграрной, а также национальной, которые Временное правительство, поддерживающие его круги отказывались решать до созыва Учредительного собрания.
Жизненно важными, неотложными были вопросы войны и мира. Все правительственные партии и организации (прежде всего – либералы, меньшевики, эсеры), соглашательское руководство большинства Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов выступали за продолжение войны до победного конца. Такая линия привела за короткое время (апрель-июль 1917 г.) к трем кризисам Временного правительства, перетасовкам (вариантам коалиций) в его составе, которые не только не завершались поворотами в стадию поиска эффективных, рациональных решений, а лишь каждый раз приводили к обострению общественных противоречий, усугубляли политическую ситуацию, оборачивались новыми репрессивными мерами против революционных сил, нарастающих массовых выступлений. Особенно активизировались антиреволюционные силы в после-июльский период. Восстановление смертной казни на фронте, запрет и преследования левых партий, разгул цензуры – самые наглядные примеры политического пейзажа тех дней.
Надо сказать, что лидерам Украинской революции практически не довелось затрачивать больших усилий для убеждения широких слоев украинства в правоте избранного курса, хотя в пропагандистской работе сыграл свою роль талант В. Винниченко, С. Ефремова, В. Прокоповича и др. Оказалось, что это именно те чаяния, которые веками внутренне вынашивались и к которым инстинктивно стремилась почти вся нация. В этом свете в значительной мере становится понятной та последовательность, с которой Центральная рада, получив от народа своеобразный мандат доверия, стремилась претворить в жизнь автономистско-федералистскую программу в своих трех первых Универсалах, принципиально ее отстаивала во взаимоотношениях с Временным правительством.
Типичной для 1917 г. стала картина: любого уровня собрания (вплоть до сельских сходов) обязательно избирали своим почетным председателем главу Украинской Центральной рады (так велик был авторитет М. Грушевского, даже портрета которого большинство украинцев никогда не видели, но о взглядах были уже наслышаны), а резолюции принимались в полном соответствии с пропагандируемой им платформой. В этих условиях даже бывшая Украинская народная партия, изменившая весной название на Украинскую партию самостийников-социалистов, во главе с Н. Михновским официально объявила о своей приверженности автономистско-федералистскому курсу[96]. Самостийнические лозунги раздавались очень редко, а соответствующие надписи на транспарантах и флагах демонстрантов «тонули» в море призывов, сформулированных М. Грушевским [97].
Доминирующие настроения той поры очень образно передает Винниченко, доказывающий, что в один миг исчезли все иные политические ориентации, кроме одной: «Всероссийская революция, Справедливость… За 250 лет пребывания в союзе с Россией, – с неподдельным пафосом, вдохновением пишет он, – украинство впервые в эти дни почувствовало себя в России дома, впервые интересы этой бывшей тюрьмы стали близкими, своими.
Мы стали частью – органической, активной, живой, желаемой частью – единого целого. Всякий сепаратизм, всякое отделение от революционной России считалось абсурдным, бессмысленным. Для чего? Где мы найдем больше того, что теперь мы имеем в России? Где во всем мире есть такой широкий, демократический, всеохватывающий строй? Где есть такая неограниченная свобода слова, собраний, организаций, как в новой великой революционной державе? Где есть обеспечение права всех угнетенных, униженных и эксплуатируемых, как не в новой России»[98].
Абсолютным торжеством таких настроений стали итоги работы Всеукраинского национального конгресса (съезда), состоявшегося в Киеве 6–8 апреля 1917 г. Обсудив наиболее животрепещущие проблемы переживаемого момента, делегаты пришли к единодушному заключению:
«1. Согласно историческим традициям и современным реальным потребностям украинского народа съезд считает, что только широкая национально-территориальная автономия Украины обеспечит потребности нашего народа и всех других народностей, живущих на украинской земле.
Что такое автономное устройство Украины, а также и других автономных краев России, будет иметь полные гарантии в автономном строе.
Потому единой соответствующей формой государственного устройства съезд считает федерацию и демократическую Республику Русскую.
А одним из главных принципов украинской автономии – полное обеспечение прав национальных меньшинств, проживающих на Украине»[99].
Считая свои планы ограниченной, «мягкой» децентрализации государства назревшими, справедливыми, конструктивными, не угрожающими целостности России, руководство Украинской революции всячески доказывало, что шаги центральной власти навстречу предполагаемой национально-территориальной автономии отдельных национальных краев и областей не только не будут иметь негативного, тем более разрушительного последствия, а наоборот – будут вызывать всевозрастающие симпатии, авторитет центра, доверие и тяготение к нему, вести к превращению окраин, получающих демократическое самоуправление, в прочную опору новой власти, нового строя.
Руководство Центральной рады с первых же дней революции предприняло довольно энергичные усилия, чтобы убедить Временное правительство, политические силы России в своей абсолютной лояльности новому, республиканскому строю, в его полной поддержке, готовности вносить свой вклад в закрепление демократии, в масштабах всей страны.
Не будучи сторонниками радикализма, форсированных, тем более – силовых методов достижения цели, стремясь к максимальной легитимности, почти к «стерильности» своих действий, руководители Центральной рады предлагали решить назревавший вопрос автономии Украины постепенно, поэтапно, надежно подготавливая широкое общественное мнение к адекватному восприятию намечаемых изменений.
Так, направив в середине мая 1917 г. делегацию в столицу, украинские лидеры обратились к Временному правительству и Исполкому Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов со специальной декларацией – докладной запиской. Создается впечатление, что Центральная рада не столько требовала законных прав для Украины, сколько извинялась за то, что ход событий, настроения масс вынудили ее обратиться к высокому руководству, «потревожить» его: «Украинская Центральная Рада как представительный орган в организованной украинской демократии до сих пор играла, да и сейчас играет, сдерживающую и направляющую в организованное русло роль.
Но она могла и может это делать только до того времени, пока эта организация идет в контакте с естественным развитием народного движения. Если в силу чего-либо она должна будет прекратить или даже утратить свою организационную деятельность, она будет снесена стихийным потоком»[100].
Руководители Украинской революции стремились убедить официальный Петроград в том, что они его союзники, что их беспокоят спокойствие и порядок в крае в той же степени, как и столичное начальство. И обращение к правящим инстанциям продиктовано прежде всего стремлением не выпустить взрывоопасную ситуацию из-под контроля: «Мы берем на себя смелость обратить самое серьезное внимание Временного правительства, Совета рабочих и солдатских депутатов и всей российской демократии на современное положение вещей и призываем пойти нам навстречу в решении нашего тяжелого, ответственного задания – направления украинской стихии по такому руслу, которое не только не помогало бы усиливающейся брани, а наоборот, помогло бы организации сил всей России…» [101]
В свете вышеизложенного определенным преувеличением представляется оценка авторов новейшего труда о том, что «весной 1917 года власть на Украине перешла к Центральной Раде»[102]. Реально этот процесс займет довольно значительное время и завершится гораздо позже.
Конечно, в плане социальной природы, программных ориентаций, избираемой тактики руководство Центральной рады было довольно близким, в чем-то по существу даже родственным, Временному правительству, умеренно-реформистским силам Петрограда. Потому оно стремилось сначала найти соглашение с официальным правительством и чтимым им руководящим государственным центром, оттягивая «на потом» реализацию нараставших требований масс. Грушевский пытался даже упредить возможную негативную реакцию российской стороны на провозглашенный совершенно закономерный лозунг «украинизации», публично призывал ни в коем случае не допустить рецидивов «насильственной украинизации».
Безусловно надуманными являются бытующие подчас подозрения, что украинская сторона, начиная с минимальных просьб – предложений центральной власти, далее хитростью (это, дескать, несложно предположить) могла втянуть официальный Петроград в процесс, по ходу которого затем неизбежно наращивала бы требования, ведущие к политической дестабилизации и в конце концов – к развалу страны.
Гораздо больше оснований считать искренними именно несколько неловкие оговорки в деловой, дипломатической переписке с Временным правительством (они отражались и в других официальных документах), согласно которым лидеры Украинской революции квалифицировали свои очень осторожные, эластичные шаги – просьбы к Временному правительству, как в значительной степени вынужденные. Массы не только доверяли Центральной раде, но и в условиях революционной эйфории все более проявляли нетерпение, начинали оказывать давление на своих вождей.
В 1917 г. шаг за шагом (где-то в обостренном противоборстве, где-то достигая очень незначительного понимания, согласия Временного правительства) как бы «нарабатывалась» модель функционирования полиэтнического государства в условиях закрепления демократии, о стремлении к чему неустанно твердили практически все тогдашние политические силы.
Именно в этом контексте, как представляется, может быть, с наибольшей степенью вероятности и убедительности определен масштаб влияния украинского фактора на общероссийский революционный процесс 1917 г.
Однако Временное правительство попыталось строить взаимоотношения с Центральной радой на основе жесткого неприятия любых украинских инициатив. В официальных ответах на предложения, в ходе переговоров прибегали к любым аргументам – возражениям. Например: Временное правительство не вправе решать такие кардинальные вопросы, как территориальный, который может быть только компетенцией Учредительного собрания; непонятно вообще, что собой представляет Украина, каковы ее границы, кто имеет право претендовать на автономный статус; Центральная рада, сформированная по этническому принципу, не может претендовать на роль выразителя интересов всего многонационального населения Украины и т. д. Массы же в революционной атмосфере считали себя вправе явочным порядком решать вопросы, которые представлялись важными, актуальными. Так «снизу» началось движение за сплочение воинов украинцев в тылу и на фронте в отдельные украинские части. Для руководства этим процессом, его стимулирования в мае 1917 г. в Киеве был проведен Первый всеукраинский войсковой съезд. Работу в этом направлении было решено продолжить на Втором съезде, созыв которого был назначен на начало июня. Из Петрограда посыпались грозные оклики, воспрещающие шаги по украинизации армии как разваливающие ее в условиях войны. Министр А. Керенский телеграммой запретил созыв Второго съезда, что обернулось обратным эффектом: дополнительная информация лишь увеличила число посланных из частей депутатов.
Прибывшие на форум солдаты торжественно поклялись не покидать Киев до тех пор, пока Центральная рада, не обращая внимания на реакцию Временного правительства, не примет государственного акта, определяющего судьбу Украины. До этого в подобном духе высказался и весьма представительный Всеукраинский крестьянский съезд[103].
В этих условиях, чтобы не разойтись с массами, от имени которых она говорила и действовала, Центральная рада наконец-то решилась выразить волю народа Украины в своем Первом Универсале, провозглашенном на Втором Всеукраинском войсковом съезде 10 июня 1917 г. Центральная идея документа заключена в словах: «Да будет Украина вольной. Не отделяясь от всей России, не разрывая с государством российским, пусть народ украинский на своей земле имеет право сам распоряжаться своей жизнью. Пусть порядок и строй на Украине дает избранное всеобщим равным, прямым и тайным голосованием – Всенародное Украинское Собрание (Сойм). Все законы, которые должны дать этот строй тут у нас, на Украине, имеет право издавать только наше Украинское Собрание.
Те же законы, которые должны порядок определить по всей российской державе, должны издаваться во Всероссийском парламенте»[104].
Фактически в Универсале начала реализовываться платформа (концепция) Украинской революции, утвержденная национальным конгрессом. А последовавший буквально через пять дней очередной шаг – создание Генерального секретариата во главе с очень влиятельным и популярным писателем и драматургом В. Винниченко, как органа исполнительной власти (с заявленными функциями правительства, характерными для государственных образований) недвусмысленно говорил в пользу намерений Центральной рады развивать и углублять начатый процесс.
Временное правительство, безусловно, чувствовало, и в принципе довольно объективно оценивало размах Украинской революции, в которой настроения масс (низов) оказались гораздо радикальнее (и нетерпеливее) в осуществлении весьма умеренной программы, предложенной Центральной радой. Это, скорее всего, и сказалось на поведении Временного правительства, которое серьезно нервничало, в частности, по поводу той же стихийно развернувшейся украинизации армии, к которой Центральная рада имела весьма опосредованное отношение, даже пыталась сдерживать самочинные действия солдатской массы. Официальный Петроград пытался действовать превентивно, «с порога» отвергая очень ограниченные, не выходящие за рамки элементарной демократии требования украинцев, всерьез полагая, что на этом процесс не остановится, покатится дальше – к развалу страны на неуправляемые национально-административные субъекты. Отсюда окрики, запреты, угрозы, реализация которых была не просто проблематичной, но и заведомо невозможной. В результате авторитет правительства в этой сфере терпел только ощутимый урон, а страх перед возможными последующими шагами со стороны активизирующегося украинского движения неудержимо нарастал.
В ситуации довольно ощутимого влияния украинского фактора на всю общественно-политическую жизнь страны Центральная рада, опираясь на массовый подъем, безусловно, могла добиться более серьезных достижений в реализации своей программы. Однако лидеры Украинской революции считали, что в условиях укрепляющейся демократии, за которую тоже, как полагали, несут ответственность, они обязаны исключить любые силовые приемы, даже тактику эластичного давления, и только легитимным способом получить желаемый результат, как законную реакцию, правомерное решение Временного правительства.
Избрав, таким образом, робкую, малоперспективную линию достижения стратегической цели, а именно – через зыбкую, больше утопическую, надежду убедить Временное правительство в необходимости спокойно, без возражений принять предложения украинской стороны, лидеры национально-освободительной революции были ошеломлены, оказались в растерянности, столкнувшись с резко негативными реакциями официального Петрограда.
Немало удивляло и то, что шовинистические действия Временного правительства решительно поддержали почти все общероссийские, в том числе позиционировавшие себя демократическими, партии, имевшие достаточно прочные позиции и в самой Украине.
Единственной партией, решительно выступившей в поддержку законных требований украинцев, их шагов к введению собственной государственности, были большевики. Их лидер В. И. Ленин в статьях «Украина», «Украина и поражение правящих партий России», «Не демократично, гражданин Керенский!» и др., опубликованных в «Правде», со всей бескомпромиссностью разоблачал «великорусских держиморд» за их позицию в украинском вопросе.
Процитировав в статье «Украина» положение I Универсала, которые касались требований разрешения национальной проблемы, В. И. Ленин отмечал: «Это совершенно ясные слова. С полнейшей точностью заявлено в них, что в данное время украинский народ отделяться от России не хочет. Он требует автономии, ничуть не отрицая необходимости и верховной власти “всероссийского парламента”. Ни один демократ, не говоря уже о социалисте, не решится отрицать полнейшей законности украинских требований. Ни один демократ не может также отрицать права Украины на свободное отделение от России: именно безоговорочное признание этого права одно лишь и дает возможность агитировать за вольный союз украинцев и великороссов, за добровольное соединение в одно государство двух народов. Именно безоговорочное признание этого права одно лишь в состоянии разорвать на деле, бесповоротно, до конца, с проклятым царистским прошлым, которое все сделало для взаимоотчуждения народов, столь близких и по языку, и по месту проживания, и по характеру, и по истории. Проклятый царизм превращал великороссов в палачей украинского народа, всячески вскармливал в нем ненависть к тем, кто запрещал даже украинским детям говорить и учиться на родном языке»[105].
Гневно заклеймив политику Временного правительства, вождь большевиков показал ее полный крах относительно Украины, призвал соглашательские партии, входившие в коалицию с буржуазией, поддержать права украинцев вплоть до отделения в собственное государство: «Революционная демократия России, если она хочет быть действительно революционной, действительно демократией, должна порвать с этим прошлым, должна вернуть себе, рабочим и крестьянам России, братское доверие рабочих и крестьян Украины. Этого нельзя сделать без полного признания прав Украины, в том числе права на свободное отделение»[106].
В. И. Ленин, большевики доказывали: путь к тесному интернациональному единению, как идеалу коммунистов, лежит именно через безоговорочное признание всех национальных требований, какими бы кардинальными они ни были. «Мы не сторонники мелких государств, – писал лидер РСДРП (б). – Мы за теснейший союз рабочих всех стран против капиталистов и “своих” и всех вообще стран. Но именно для того, чтобы этот союз был добровольным, русский рабочий, не доверяя ни в чем и ни на минуту ни буржуазии русской, ни буржуазии украинской, стоит сейчас за право отделения украинцев, не навязывая им своей дружбы, а завоевывая ее отношением как к равному, как к союзнику и брату в борьбе за социализм»[107].
Деятели украинского политического лагеря высоко оценивали подобную принципиальную позицию.
Однако не все большевики имели одинаковые взгляды на сущность украинской проблемы, пути ее разрешения. Особенно рельефно разнобой сказывался в местных организациях. Так, лидер Киевской организации Г. Л. Пятаков, некоторые его сторонники выступали против лозунга права наций на самоопределение, рассматривали национальное движение как реакционное явление.
Руководство партийных организаций промышленных Левобережья, Донбасса, Юга (Э. И. Квиринг, С. И. Гопнер, В. Г. Юдовский, П. И. Старостин, А. И. Хмельницкий и др.) считали эти регионы неопределенно украинскими, предлагали решать вопрос об их включении в состав Украины путем референдумов.
Находясь в эпицентре украинского движения – Киеве, местные большевики очень сложно выстраивали свои отношения с Центральной радой, украинскими партиями, их руководством. В действиях последних наряду с демократическим содержанием в национальной сфере они усматривали противодействие радикальным, максималистским, интернационалистским настроениям и политике РСДРП(б) в главном вопросе – о свержении Временного правительства и установлении диктатуры пролетариата. А потому – позиция украинского руководства расценивалась как реакционная, контрреволюционная, буржуазно-националистическая.
Перспективу развития революции организации РСДРП(б) связывали не столько с Центральной радой, сплотившимися вокруг нее украинскими партиями (им, пожалуй, было больше недоверия и рассматривались они лишь в определенных эпизодах как временные, ситуативные попутчики), а с трудящимися массами, прежде всего с рабочими и крестьянами.
Из общей армии наемного труда, достигшей к началу 1917 г. 18,5 млн человек, на Украину приходилось более 3,6 млн, или около 1/5 рабочих России. Наиболее организованным, сплоченным, политически активным отрядом пролетариата Украины являлись индустриальные рабочие, численность которых превысила 636 тыс. человек (73 % всех промышленных рабочих). Приблизительно 2/3 промышленных рабочих Украины были сосредоточены в Донецко-Криворожском бассейнах, что и предопределило особо значительную роль этого района в борьбе пролетариата за власть.
В деле революционной мобилизации пролетариата большевики исключительно большую роль отводили Советам рабочих депутатов, привлечению их на свою сторону.
В ряде мест большевики завоевали прочные позиции в Советах уже в момент их создания. Так, на Нелеповском руднике все 10 членов Совета рабочих депутатов, избранного 4 марта, были большевиками. Председателем Совета стал Н. И. Дубовой. Он же был и председателем объединенного Совета Щербиновки, Нелеповки и Никитовки. В Берестово-Богодуховском Совете 18 из 20 депутатов были большевиками. Возглавлял Совет большевик Р. Я. Терехов. Кальмиусско-Берестовский районный Совет возглавляли большевики Т. И. Кириленко и Д. Ф. Мельников. Председателем Херсонского Совета рабочих депутатов, несмотря на засилие в нем соглашателей, стал большевик И. Ф. Сорокин. В Полтаве председателем исполнительного комитета Совета в конце апреля избрали большевика С. Л. Козюру. В исполкоме Краматорского Совета 11 из 17 мест принадлежало большевикам, в исполкоме Луганского Совета большевики получили 11 мест из 35.
Деятельность большевиков в Советах была очень активной и разносторонней. Особое внимание они уделяли объединению и координации действий Советов в борьбе за решение общеполитических вопросов и удовлетворение насущных потребностей трудящихся.
По воспоминаниям активных участников революционной борьбы в Горловско-Щербиновском районе большевиков С. М. Белозерова, Я. Борина, Н. И. Дубового и М. И. Острогорского, «районный и местные Советы тогда же (с весны 1917 г. – Авт.) фактически являлись полновластными административными органами в районе, так как ими сразу же были захвачены милиция и все другие административные учреждения. Благодаря этому обстоятельству в районе не было более популярного лозунга, чем “Вся власть Советам!”»[108].
Несмотря на то что во многих городах Украины большевики в первых составах Советов составляли 10–20 %, они играли значительную роль в деятельности этих органов. Создав свои фракции, большевики организованно и планомерно выступали инициаторами революционных начинаний, требовали сокращения рабочего дня, улучшения положения рабочих, активно боролись против империалистической войны.
Члены РСДРП(б) повсеместно выступали инициаторами перевыборов Советов. Так, луганские большевики в июне приняли резолюцию, призывавшую «к реорганизации Совета путем введения туда новых представителей на основе пропорционального представительства и отзыва из Советов его членов, которые ничего общего не имеют с интересами рабочего класса»[109]. Несмотря на сопротивление соглашателей, большевики Киева в результате майских перевыборов увеличили свою фракцию в Совете рабочих депутатов до 90 человек (около трети всех членов Совета), а в исполком провели 11 своих депутатов (из 40). В состав исполкома от большевистской фракции вошли А. В. Иванов, М. Л. Леонтьев, М. М. Майоров, А. А. Сивцов, И. М. Фиалек и др. [110]
В результате частичных перевыборов увеличилось количество большевиков в Винницком и Харьковском Советах. Перевыборы и в других местах Украины подтвердили, хотя в городских и уездных Советах непромышленных районов и в несколько меньшей степени, общую тенденцию вызревания классового сознания пролетариата, солдат, крестьян, постепенного падения влияния меньшевиков и эсеров, представителей других мелкобуржуазных партий, классовая позиция которых как пособников эксплуататорских классов становилась все более явной.
Призывы большевиков усилить влияние Советов, сосредоточить в их руках всю полноту власти встречали возрастающую поддержку трудящихся. Глубокий внутренний процесс революционизирования масс, происходивший в стране, проявился в их стремлении превратить Советы в действительно полновластные органы. Отдавая свои голоса большевикам или сочувствующим им беспартийным трудящимся, массы тем самым порывали с политикой соглашательства. И хотя в период двоевластия преобладающее большинство Советов оставалось эсеро-меньшевистским, первые перевыборы убедительно доказали временный, преходящий характер такого положения, неизбежность большевизации Советов в процессе дальнейшего развития революции.
Уделяя главное внимание завоеванию влияния в Советах рабочих депутатов, большевики развернули активную работу по воссозданию существовавших ранее и формированию всеохватывающей сети новых профсоюзов, избранию фабрично-заводских комитетов, созданию других организаций трудящихся и привлечению через них масс к активному участию в политической жизни, в подготовке социалистической революции.
Большевики Украины пользовались влиянием во многих профсоюзных организациях. В Киеве председателем союза металлистов был большевик А. В. Иванов, секретарем – большевик Е. Г. Горбачев. В Луганске в правлении профсоюза металлистов работали большевики Ю. X. Лутовинов, А. П. Шелихов и др., в Екатеринославе председателем правления профсоюза металлистов был большевик И. Г. Жуковский, в Одессе – большевик П. И. Старостин. Во главе профсоюза металлистов в Харькове стояли Г. А. Романович, Ф. П. Судик и другие большевики. Позже этот союз возглавил Ф. А. Сергеев (Артем). В руководство союза металлистов Николаева, объединявшего 13 тыс. рабочих, входили члены РСДРП(б) И. С. Скляр, С. Ф. Радченко, Н. И. Лихачев.
Большевики Украины направляли борьбу и других профессиональных союзов. Так, в Киеве правление профсоюза портных полностью состояло из большевиков. Тут проводили работу Д. И. Иткинд и И. Ф. Смирнов. 20 человек насчитывала большевистская фракция союза печатников. В профсоюзе деревоотделочников работал В. Н. Боженко, кожевников – А. А. Сивцов.
Центральное бюро профсоюзов Луганска и Славяносербского уезда состояло преимущественно из большевиков. Председателем бюро был избран член РСДРП(б) И. Д. Литвинов, возвлавлявший одновременно Луганский союз металлистов[111]. Под влиянием и руководством большевиков действовали союзы горняков Горловско-Щербиновского и Макеевского районов. Работали члены РСДРП(б) и в других союзах. Однако в большинстве профсоюзов в середине года еще преобладали соглашатели, что предопределяло необходимость умножения усилий большевиков в борьбе за завоевание этих массовых организаций трудящихся.
Постепенно завоевывая большинство в руководящих органах профсоюзов, большевистские организации превращали профсоюзы в боевые революционные организации пролетариата, привлекая их к политической борьбе за победу социалистической революции.
Еще более успешными оказались результаты работы местных большевиков в фабзавкомах Украины. Под их влиянием фабзавкомы начали объединяться в городском масштабе. Руководство ими возглавили Центральные советы фабрично-заводских комитетов. В ряде городов Донбасса, в Харькове, Екатеринославе, Луганске, Киеве и других городах Украины руководство Центральными советами фабзавкомов возглавили большевики. Руководили они и фабзавкомами многих предприятий. Так, председателем завкома завода ВКЭ в Харькове был член городского комитета РСДРП(б) К. О. Киркиж. В состав рабочих комитетов и правлений входили члены Харьковского комитета С. Ф. Буздалин, А. Ф. Пастер, Г. А. Романович и другие большевики[112].
На многих предприятиях Донбасса, Екатеринослава, Харькова большевики значительно упрочили свои позиции в результате состоявшихся в апреле-мае перевыборов состава фабзавкомов. Председателем Брянского завкома в Екатеринославе был избран большевик Н. И. Хавский, секретарем – Э. И. Квиринг (затем И. Г. Жуковский). Большевик Н. В. Копылов стал секретарем объединенного завкома трубопрокатных заводов[113]. В процессе большевизации рабочие комитеты наряду с защитой экономических интересов пролетариата все активнее включались в политическую жизнь. Уже в период двоевластия многие фабзавкомы Украины вели активную борьбу за осуществление лозунга «Вся власть Советам!». Часто именно эти организации оказывали действенную помощь большевикам в переизбрании Советов, отозвании делегатов, не оправдавших доверия трудящихся, замене их большевиками.
Массовые организации пролетариата под воздействием большевиков не только активно участвовали в решении различных вопросов, связанных с улучшением положения рабочих и других слоев трудящихся, в первую очередь солдат и беднейших крестьян, но и подводили их к пониманию необходимости социалистической революции, сосредоточения власти в руках Советов как главной предпосылки решения назревших задач общественного развития. Благодаря усилиям большевиков эти организации стали для масс подлинной школой общественно-политической деятельности, где рабочие и другие слои трудящихся приобретали необходимый политический опыт.
В процессе развертывания революционной борьбы происходило постепенное объединение действий Советов, профсоюзов, фабзавкомов, создавались условия для еще более широкого сплочения рабочего класса. При этом объективной основой достижения прочного единства рядов пролетариата является переход рабочих масс, в первую очередь их организаций, на ленинские позиции, их неуклонная большевизация.
С первых дней Февральской революции на большинстве крупных предприятий, где, как правило, существовали влиятельные большевистские организации, началось формирование отрядов рабочей милиции и рабочих дружин. Уже в конце марта – начале апреля рабочие дружины Украины насчитывали в своих рядах 5–6 тыс. человек. В Киеве и Одессе их численность достигала 1000 человек, в Харькове и Екатеринославе – 500–600, в городах Донбасса и Юга – 200–300 человек. В Одессе к концу мая на многих заводах были образованы красногвардейские «десятки», а на более крупных предприятиях, таких как РОПиТ, «Анатра», железнодорожные мастерские, – красногвардейские «сотни». Два отряда красногвардейцев, находившихся под практически безраздельным большевистским влиянием, было создано членами союза рабочей молодежи Одессы[114].
Первоначально формирование Красной гвардии осуществлялось при партийных организациях, в отряды зачислялись преимущественно большевики. Со временем к формированию вооруженных сил пролетариата все более активно привлекались массовые организации рабочего класса. По поручению партийных комитетов организацией Красной гвардии занимались партийные работники: в Харькове – Е. Д. Тиняков, Луганске – А. Я. Пархоменко, Екатеринославе – Т. Л. Бондарев и М. И. Потапов, Одессе – Н. И. Чижиков и A. В. Трофимов, в Киеве – А. В. Иванов, В. Н. Боженко, Каменском – B. В. Тржасковский. Начавшийся процесс создания вооруженных сил пролетариата имел чрезвычайно важное значение. Определяя роль первых отрядов Красной гвардии, В. И. Ленин называл их «зачатком новой армии, организационной ячейкой нового общественного строя»[115].
Через созданную систему организаций рабочего класса пролетарии вовлекались в активную политическую жизнь, в решение назревших социально-экономических проблем. Они все в большей мере сознавали свою возрастающую роль, совершенствовали классовое мировоззрение, ежедневно, ежечасно, в зависимости от обстановки и наличных сил, отстаивали завоеванные позиции, расширяли плацдарм для новых наступлений, готовились нанести решающие удары по капитализму.
Не ограничиваясь «мирными» формами борьбы, большевики призывали трудящихся к испытанному средству – стачкам, которые в 1917 г. приобрели особую организованность, продолжались длительное время. В период мирного развития революции на Украине произошло 117 стачек, из них 30 – отраслевых[116]. Особенно успешной была стачечная борьба рабочих Харькова, Екатеринослава, Луганска, Киева, у руководства которой стояли большевики. Всеми имевшимися в их распоряжении средствами (оперативной информацией о ходе забастовок, обращениями и призывами к их поддержке, к активизации действий, а также вхождением в руководящие органы забастовщиков, формулированием целей борьбы, требований к предпринимателям и т. п.) большевики способствовали росту масштабов, массовости стачечного движения, достижению намеченных задач, завоеванию все новых рубежей.
Организации РСДРП(б) вели похожую деятельность и в других слоях населения, стремясь завоевать союзников для пролетариата. Большое внимание обращалось на крестьянство, в среде которого более 57 % составляли бедняки, эксплуатируемые не только помещиками, но и кулаками (более 12 % от общего числа сельских жителей)[117].
Большевистские организации Украины провели значительную работу по разъяснению крестьянским массам значения образования Советов крестьянских депутатов, оказали действенную помощь в их создании, слиянии с Советами рабочих и солдатских депутатов. В период двоевластия на Украине было организовано 38 уездных и 4 губернских Совета крестьянских депутатов (Киевский, Харьковский, Черниговский и Таврический)[118]. Но недостаточно высокий уровень сознательности крестьянских масс сказывался на партийном составе Советов, где довольно сильным было влияние соглашателей, особенно эсеров.
Для разоблачения несостоятельности аграрной политики соглашателей большевики нередко использовали трибуны крестьянских съездов (всего на Украине в период двоевластия состоялось 72 крестьянских съезда – 14 губернских и 58 уездных), различных собраний[119]. Так, на проходившем 30 апреля – 4 мая крестьянском съезде Херсонской губернии, в котором принимали участие 332 делегата, большевики И. С. Скляр и Я. И. Ровинский в своих выступлениях призвали к единству рабочих и крестьян в борьбе за власть Советов. Делегаты съезда с большим вниманием отнеслись к речам представителей большевистской партии.
Большевистская партия обращалась к передовым рабочим и революционным солдатам с призывом широко развернуть пропаганду и агитацию среди крестьян, разъяснять им цели революции, помогать освобождаться из-под влияния буржуазии и ее пособников. Трудящиеся крестьяне с большим энтузиазмом встречали деятельность большевиков в деревне, приветствовали их начинания, просили умножить усилия в деле проведения в жизнь ленинской аграрной программы, подлинно революционной тактики. «В том, что вы требуете разрешения этого вопроса (земельного. – Авт.) до Учредительного собрания, вы вполне правы, – говорилось в одной из корреспонденций в екатеринославскую «Звезду». – Вы в этом направлении кое-что уже сделали… За вас будет стомиллионное крестьянство, а главное – вся армия. И если вы начали это великое дело, то продолжайте его, не страшитесь никаких препятствий»[120].
Крестьяне с. Навозы Черниговской губернии писали в «Правду»: «Из далекой глуши, куда долетает твой смелый клич, клич борьбы с помещичьей и капиталистической Россией, приветствуем тебя как истинную защитницу интересов рабочего класса и многомиллионного крестьянства» [121].
Большевики активно поддержали процесс демократизации в армии, приветствовали создание солдатских комитетов и Советов солдатских депутатов, слияние последних с Советами рабочих и крестьянских депутатов. В марте-апреле комитеты были избраны в большинстве гарнизонов Украины и на кораблях Черноморского флота. Только на Юго-Западном фронте в солдатские комитеты входило более 75 тыс. человек[122]. Ко второй половине мая на этом фронте было создано более 10 600 комитетов, в том числе 4 армейских, 24 корпусных, 88 дивизионных, 535 полковых и около 10 тыс. ротных. В большинстве комитетов преобладали соглашатели. Из созданных на всех фронтах 14 армейских комитетов только комитет XI армии Юго-Западного фронта возглавил большевик Н. В. Крыленко. Большевик Г. В. Разживин был избран руководителем комитета 1-го Туркестанского корпуса, большевик Я. К. Пальвадре – комитета 1-го Гвардейского корпуса. Большевики В. А. Баруздин, Н. Г. Крапивянский, М. Н. Коковихин, Я. Я. Безайс являлись председателями полковых и дивизионных комитетов. В солдатских комитетах действовали и другие большевики.
Параллельно с солдатскими комитетами создавались Советы солдатских депутатов. По неполным данным, в мартовские дни 1917 г. на территории Киевского военного округа начали действовать 28 Советов солдатских депутатов, 22 Совета офицеров и военных чиновников и 5 объединенных Советов. К началу октября тут было создано 6 °Cоветов солдатских и офицерских депутатов[123].
Рассматривая солдатские комитеты и Советы солдатских депутатов как важнейшее средство борьбы за демократизацию армии, революционизирование солдатских масс, большевики создали в качестве опорных пунктов борьбы за солдатские массы свои фракции в выборных армейских органах.
Благодаря действиям большевиков были сорваны попытки буржуазии и контрреволюционного командования изолировать солдатские массы от пролетариата, было достигнуто объединение большинства Советов солдатских депутатов с Советами рабочих депутатов, что способствовало усилению пролетарского влияния на армию.
Идеи братания все шире овладевали солдатскими массами, активизировали их позицию по отношению к войне и виновникам ее продолжения. Н. В. Крыленко вспоминал, как он в составе группы солдат 13-го Финляндского полка участвовал в братании, после чего «был немедленно вызван в штаб, где получил строжайший выговор. В ответ на это солдаты отправили депутацию к командиру полка с угрозой поднять на штыки весь штаб, если ко мне будут применены репрессивные меры. Это была уже прямая угроза, прямой переход к революционным действиям»[124].
Работа большевиков в солдатской среде приносила свои плоды. Все чаще солдаты одобряли резолюции с требованиями передачи всей власти Советам, перевыборов Советов солдатских депутатов. Так, после выступления члена Киевского комитета РСДРП(б) А. Б. Горвица перед солдатами 148-й Воронежской дружины была принята резолюция о переходе всей власти к Советам, с осуждением политики подготовки наступления на фронте[125]. Подобные резолюции одобрили солдаты многих частей Екатеринославского и Харьковского гарнизонов. Участились факты, когда солдаты крайне неодобрительно, порой даже враждебно, относились к выступлениям оборонцев на митингах
и собраниях. В то же время речи большевистских ораторов вызывали их одобрение. Так было, например, 18 июня в Виннице во время организованного соглашателями митинга-концерта.
16 июня военному министру Керенскому, посетившему гвардейский полк XI армии, была вручена резолюция с выражением недоверия Временному правительству. Гренадеры заявили, что слушать Керенского не будут. Очевидец этих событий комиссар Временного правительства Кириенко отмечал, что «гренадерский полк – это маленький Кронштадт со всеми специфическими особенностями оплотов большевизма… Полк быстро воспринял большевистскую окраску и кроме большевистской литературы не доверял никакой другой»[126].
Все направления и формы борьбы большевиков за массы были рассчитаны на то, чтобы создать перевес сил, образовать большинство, готовое сломить сопротивление классового врага и обеспечить решение кардинального вопроса классовой борьбы – о власти, поддержать революцию, закрепить ее завоевания. Осуществляя ленинские выводы и установки о формировании политической армии социалистической революции, слиянии в единое русло различных потоков революционного движения, большевики сплачивали под своими знаменами и постепенно увлекали за собой большинство политически активной части общества.
Вместе с мощным нарастанием волны национально-освободительного движения ситуация на Юге России, то есть в Украине, накалялась все больше буквально с каждым днем, угрожая правящей верхушке страны непредсказуемыми последствиями, неотвратимыми потрясениями уже в ближайшее время.
Конечно, всех этих обстоятельств и тенденций в комплексе не могло не видеть, не понимать и не учитывать Временное правительство. Чувствуя, осознавая, что политика грубого противодействия любым подвижникам в Украине все более обнаруживает свою бесперспективность, может обернуться полным проигрышем, официальный Петроград решил сманеврировать, перехватить инициативу и прежде всего остановить своевольные действия Центральной Рады, дабы не допустить непоправимого развития событий. В Киев была направлена делегация (И. Церетели, М. Терещенко, Н. Некрасов), к которой присоединился А. Керенский[127].
Поскольку серьезных аргументов для противодействия объективно назревшим переменам (впрочем, как и реальных сил) у официального Петрограда не существовало, был запущен механизм торга, взаимных компромиссных уступок. За признание свершившимся фактом (т. е. легитимизацией) провозглашения автономного статуса Украины (а значит – и признание законной Центральной рады как ее высшего руководящего органа), согласие на формирование Генерального секретариата как местного органа власти Временного правительства столичные министры добились серьезных уступок со стороны представителей Центральной рады (официальные переговоры с украинской стороны вели М. Грушевский, В. Винниченко, С. Петлюра[128]). Таковыми стали обещание не делать впредь, до созыва Учредительного собрания или без согласия столичных властей, никаких самовольных шагов в деле форсирования автономии Украины, включить в Центральную раду представителей национальных меньшинств сообразно их удельному весу в составе населения, по существу сдерживание стихийного процесса украинизации армии (осуществлять подобного рода неотвратимые действия лишь в крайнем случае и с согласия военного министра и Верховного главнокомандующего).
Договоренности легли в основу двух симметричных документов – постановления Временного правительства по украинскому вопросу и Второго Универсала Центральной рады, обнародованных в один день – 3 июля 1917 г.[129]
Однако кадеты спровоцировали новый кризис, отозвав своих однопартийцев из правительства. Официально – в знак несогласия с достигнутыми в Киеве договоренностями, воспринятыми как недопустимая уступка «европейскому профессору (М. Грушевскому) и его коллегам». Попутно следует заметить, что авторы солидной монографии «История Новороссии» почему-то связывают июльский кризис с появлением Первого, а не Второго, Универсала Центральной рады[130].
Правительственный кризис совпал с общеполитическим, положившим начало открытому наступлению правых сил на демократические завоевания, рекламируемому как стремление «спасти страну», предотвратить надвигающиеся разруху, хаос, анархию. Привязавшись к «правительственной колеснице», лидеры Украинской революции, стремившиеся исключить из своего арсенала нелегитимные действия, пытавшиеся достичь желаемого результата мирными, ненасильственными методами, скорее проиграли, чем выиграли, ограничили свои возможности для перспективных действий.
И происходила такая метаморфоза не столько через мощное противодействие Временного правительства, его расчетливую и жесткую политику, сколько из-за непоследовательности поведения лидеров Украинской революции, боявшихся развития, нарастания национально-освободительного движения (все признаки объективной готовности масс, их сознания, настроений для серьезного углубления борьбы были налицо), особенно в сфере украинизации армии, где каждый 4-5-й военнослужащий в 1917 г. был родом из Украины.
Думается, есть достаточно веских оснований считать, что с начала июля влияние украинского фактора, олицетворяемого силами национально-демократической революции (Центральная рада, Генеральный секретариат, органы украинской власти на местах, национальные общественные организации), начинает медленно, но неуклонно снижаться, занимать все меньшее место в общем балансе процессов общероссийского характера.
Это весьма наглядно подтвердили уже события 3–5 июля в Киеве, получившие в документах и, соответственно, в историографии наименование «выступления полуботковцев»[131]. Конфликтная ситуация вызревала несколько ранее, а апогей ее обострения пришелся на момент переговоров правительственной делегации с представителями Центральной рады в Киеве.
Руководствуясь желанием избежать конфронтации с официальной властью, Центральная рада, Генеральный секретариат старались погасить национальный порыв солдатской массы к самодеятельности, созданию Второго добровольного украинского полка имени гетмана П. Полуботка. Лидеры Украинской революции болезненно рефлексировали на то, что в свое время (в апреле) не проявили должной твердости, когда надлежащим образом не противодействовали инициативе М. Михновского и его коллег, придерживавшихся «самостийнических» ориентаций, явочным порядком создать Первый украинский полк имени гетмана Богдана Хмельницкого. Центральная рада по существу тогда потерпела поражение и не хотела его повторения[132]. А недовольства, гнева Временного правительства украинские лидеры боялись больше, нежели утраты авторитета среди воинов, желавших прислужиться национальной идее (хотя среди добровольцев оказалось и определенное число лиц с сомнительной, а то и откровенно порочной репутацией).
Однако, никакие увещевания функционеров Центральной рады, Генерального секретариата, Украинского генерального войскового комитета (В. Винниченко, С. Петлюры, А. Шульгина, М. Ковалевского, М. Стасюка, М. Полоза и др.) не возымели должного влияния на более чем пятитысячную массу воинов, сконцентрировавшихся на сборном пункте в селе Грушки, в непосредственной близости к Киеву и требовавших объявить их самостоятельной национальной формацией. Лидеры же Украинской революции настойчиво добивались немедленной отправки солдат на фронт как обычного подразделения, главное – подальше от Киева.
После бурных дискуссий снятые с довольства солдаты – полуботковцы 5 июля организованно вошли в Киев, взяли под свой контроль ряд стратегически важных пунктов и потребовали от Центральной рады удовлетворения своих предложений. Однако руководство Рады вошло в соглашение с командованием Штаба Киевского военного округа, верными ему частями и с участием Украинского полка им. Б. Хмельницкого добилось вытеснения взбунтовавшихся солдат из города, водворения их в казармы распределительного пункта. Там часть «заговорщиков» была арестована, остальные разоружены и в спешном порядке отправлены по железной дороге на фронт[133].
При этом глава украинского правительства В. Винниченко слал в Петроград, где так же было весьма неспокойно, телеграммы поддержки правительству, успокаивая столичные власти, заверял, что с непокорными элементами удается справляться, сохраняя порядок. Вот одна из телеграмм Временному правительству: «В ответ на ваш запрос об откликах в Киеве на события в Петрограде, сообщаю: Центральной радой и исполнительными комитетами послана в Петроград телеграмма с заявлением о полной готовности всеми силами поддерживать В. П. и с осуждением выступлений безответственных групп. Издано воззвание к населению Киева и всего края. Однако петроградские события отозвались и здесь.
В ночь на 5 июля группа украинцев – солдат около 5000 чел., образовавшаяся из проходящих через распределительный пункт эшелонов, самовольно и вопреки разрешению У.Г.В.К. (Украинский Генеральный войсковой комитет. – В. С.), назвавшие себя полком имени гетмана Полуботка, захватила арсенал, вооружила себя и поставила караулы у правительственных учреждений. Немедленно Г.С. (Генеральный секретариат. – В. С.) принял решительные меры к восстановлению порядка. Вызванные войска гарнизона, как украинцы,
так и русские (здесь и далее подчеркнуто мною. – В. С.) охраняют город. Часть восставших арестована, остальные – под влиянием решительных мер Г.С. оставляют крепость и арсенал, охрану которых принимает на себя полк имени Богдана Хмельницкого, саперы, юнкера и другие части гарнизона. По согласованию Г.С. с командующим округом охрана города, окрестностей и восстановление порядка поручены члену У.Г.В.К. ген. Кондратовичу.
Секретариат в деле успокоения города идет в тесном контакте с местными комитетами общественных организаций и С.Р. и В.Д. (Советом Рабочих и Военных Депутатов, тут В. Винниченко допускает неточность – в Киеве Совет рабочих и Совет военных депутатов существовали и действовали отдельно. – В. С.). Местные организации большевиков, вместе с другими революционно-демократическими организациями, способствуют успокоению. Не верьте агентам и газетным сообщениям, они составлены поспешно, под влиянием непроверенных слухов, циркулирующих среди напуганного населения. Установлен пока только один случай ранения»[134].
Уже сам исторический эпизод, характер его протекания, поведение украинской власти (во всяком случае, подобным образом себя позиционирующей) демонстрируют серьезный симптоматичный дрейф Украинской революции на сближение, отчасти солидаризирование, и даже смыкание, не столько с демократическими элементами республиканского курса Временного правительства, детерминированного революционной эпохой, сколько с совершенно очевидным креном официального Петрограда «вправо», откровенным стремлением ужесточения методов реагирования на развитие спонтанных тенденций массового поведения, не укладывающихся в «прокрустово ложе» политического истеблишмента.
Но еще более поразительно, как подобное поведение не просто оправдывает, а по существу с неким победным, если не торжествующим видом восхваляет демократ, лидер партии социал-демократов, еще вчера разоблачавший империалистические великодержавные выпады против украинцев, да и, собственно, персонально против себя самого.
Немало удивляет (что, правда, с другой точки зрения может оцениваться как оправданные действия) и то, что довольно влиятельные политические силы прибегли к провокационным попыткам направить развитие событий в Киеве по «петроградскому сценарию». Начали усиленно распространяться слухи, появились панические публикации о том, что выступлением полуботковцев руководят
большевики, что существует связь между столичными и киевскими заговорщиками. Однако никаких реальных фактов подобные утверждения не имели, кроме тех, что активно притесняемые как местными органами власти Временного правительства, так и функционерами, направляемыми Центральной радой, исстрадавшиеся солдаты, ища «спасительную соломинку», обращались в конце концов за защитой к большевикам, которые просто не имели для того возможностей. Это признавал и Председатель Центральной рады М. Грушевский[135].
Впрочем, орган УСДРП «Робітнича газета», редактором которой был В. Винниченко, робко искала виноватых и в лице кадетов, и – более решительно – в лице самостийников во главе с М. Михновским, в руководимом им воинском Клубе полуботковцев [136].
В свете изложенного вряд ли можно согласиться со стремлением некоторых авторов квалифицировать выступление полуботковцев как «неудачную попытку украинства уже летом 1917 г. провозгласить независимость Украины»[137].
Неординарное явление олицетворило всю многогранность, противоречивость революционного процесса в Украине, соединение в нем элементов стихийности и осознанности, целеустремленного действия, высокого благородного порыва и эгоистического интереса, зеркально отразив все величие и трагизм переживаемой эпохи.
Один из выводов, который невольно напрашивается, заключается в том, что где-то с рассматриваемой хронологической вехи, а может – и конкретно – непосредственно именно с нее – начинает заметно угасать запал, порыв, инициативность, напор, страсть сторонников национальной революции, исчезает присущая ранее дерзость, стремительность. Конечно, больше, и в первую очередь, это проявлялось в настрое и поведении лидеров, порожденных в значительной мере сомнениями, неуверенностью в своих силах, потенциале сегмента общества, который они всколыхнули, призвали под свои знамена. Можно с большой долей уверенности говорить об уменьшении влияния украинского фактора на общероссийский процесс.
О явном смятении украинского руководства, боязни дать повод петроградским властям заподозрить себя в нелояльности, несоблюдении взятых обязательств красноречиво свидетельствует и факт, описанный в мемуарах главы Центральной рады М. Грушевского. Дело было как раз в момент обострения кризиса, связанного с полуботковцами. «4 июля, – вспоминает историк, – пришла ко мне, к Центральной Раде, депутация от эшелона, который следовал из Саратова на фронт. Заявили, что воины этого эшелона – украинцы – провозгласили себя полком моего имени и просят меня принять от них парад». Судя по всему, Грушевский не только был застигнут врасплох, но и серьезно колебался, как поступить. Потому он «послал их к Генеральному воинскому комитету и вскоре получил ответ Генерального комитета, что он (т. е. УГВК. – В. С.) принципиально согласен признать их «вторым украинским полком Грушевского, если они под этим титулом не собираются уклоняться от военных приказов (подчеркнуто мною. – В. С.)»[138]. Вот что, оказывается, больше всего беспокоило и руководство Центральной рады и органа, в чьи руки официально попало дело украинизации армии – УГВК во главе с С. Петлюрой, а именно – назваться можно как угодно, главное не войти в конфликт с воинским начальством и побыстрее оставить Киев. Только получив соответствующие заверения, М. Грушевский «принял парад, поприветствовал это (…) людское стадо, посланное на убой, поцеловал икону – показанную мне полковую святыню. Неделей позже их отправили на фронт – они пошли безо всякого колебания»[139].
Что и говорить, подобная путанная, боязливая политика Центральной рады не просто вносила дезорганизацию в процесс украинизации армии, доверенный мало что сведущему в данной сфере С. Петлюре, но и превращала Украинскую революцию, национально-государственное созидание в крайне уязвимое, беззащитное дело перед великодержавническими поползновениями и акциями Временного правительства.
Последнее же по-своему расценивало колебания Рады, Генерального секретариата, рассчитывая, что без надлежащей физической силы, без вооруженной опоры Украинская рада не составляет серьезной угрозы, не сможет противостоять грубому натиску, вынуждена будет согласиться с тем, что ей продиктуют, прикажут из столицы.
Подтверждений этому долго ждать не пришлось. Уже в конце июля разыгрались трагические события – обстрел приглашенной в Киев командующим войсками Киевского округа К. М. Оберучевым командой кирасиров Первого Украинского казачьего полка им. Б. Хмельницкого, направлявшегося на фронт. За показательную (или назидательную) гибель полутора десятка и ранение трех десятков солдат ответственности никто не понес, да и не собирался[140].
А параллельно происходило дальнейшее ослабление главных центров украинского движения.
Превратившись из национального в краевой орган, численно увеличившись за счет прилива представителей от национальных меньшинств (россиян, евреев, поляков и др.), Центральная рада, ее Президиум (Малая рада) вроде бы добились единения демократических сил, а на самом деле эффект оказался более символическим, пропагандистским, а не деловым. Начался процесс размывания пусть ранее менее многочисленной, но зато более монолитной мобильной армии активных борцов за украинскую идею, торжество украинского дела. Усложнилось, стало подчас более тяжелым принятие важных решений, усилились внутриинституциональные противоречия.
Затормозился процесс становления Генерального секретариата. Над прибывшей в Петроград делегацией для согласования «Устава высшего управления Украиной» откровенно издевались, всячески унижали. В конце концов правительство «спустило» Временную инструкцию Генеральному секретариату (вместо 14 секретарей должно быть 8, из них не менее 4 являться не этническими украинцами, пределы юрисдикции украинской власти ограничивались 5 губерниями из 9, секретариат должен быть местным органом власти Временного правительства, а не Центральной рады, которая может лишь предлагать кандидатуры на утверждение, и т. д.) [141].
Еще не став как следует на ноги, украинское правительство было ввергнуто в кризис. В. Винниченко, которому были предъявлены основные претензии как политику, не защитившему надлежащим образом интересы Украины (он возглавлял делегацию, но, не вытерпев мытарств, уехал из Петрограда до обнародования Инструкции), подал в отставку. За ним ушло и все правительство.
Д. Дорошенко, выдвинутому на пост главы Генерального секретариата, не удалось ни сформировать достаточно авторитетную команду, ни выработать хотя бы основные направления предполагаемого курса. Центральная рада отказала ему в утверждении. Пришлось вновь возвратиться к кандидатуре В. Винниченко. Он, несколько «поостыв», согласился повторно принять оставленный пост[142].
Тогда же просил об отставке от руководства Центральной радой (ввиду переутомления) и М. Грушевский. Но согласия не получил[143].
Конечно, все это не позволяло рассчитывать на серьезный прогресс в дальнейшей реализации концепции Украинской революции. Так, собственно, и произошло.
Инструкцию, хотя и с оговорками, Центральная Рада вынуждена была принять к исполнению. Правительство так и утвердили в урезанном виде 1 сентября 1917 г.[144] Оно занялось малопродуктивной и малоуспешной тяжбой с Временным правительством – выяснением, определением прерогатив – «перетягиванием одеяла». Время шло, энтузиазм масс падал. Сказывались и не прошедшие бесследно страхи от генеральского мятежа Л. Г. Корнилова, угрожала перспектива экономического коллапса.
Украинское руководство действовало нерешительно, поступательного движения практически не обеспечивало. Единственным исключением оказался Съезд народов, проведенный в Киеве 8-15 сентября 1917 г. Украинские деятели явно выдвинулись в разряд интеллектуальных лидеров, ведущих теоретиков в обосновании процесса децентрализации России, образования федерации из национально-автономных образований равноправных народов. Однако одобренные съездом документы не были программой непосредственного, безотлагательного действия, оставались набором благих пожеланий с труднопрогнозируемой перспективой практического претворения в жизнь при существующем петроградском правительстве[145].
Последнее же, чувствуя нарастание кризиса, ощущая его непосредственное «дыхание», все более прибегало к репрессивным мерам. Под надуманным предлогом отхода Центральной рады от выполнения взятых на себя обязательств – именно так было расценено решение начать техническую подготовку к будущим выборам в Украинское Учредительное собрание[146], чего, якобы, нельзя было делать без разрешения Временного правительства, – против Генерального секретариата было инспирировано уголовное дело. А В. Винниченко срочно вызвали в Петроград для объяснений[147].
Открыто встав на путь ужесточения репрессий после июльского кризиса, правящие партии России, Временное правительство усилили удары, прежде всего по радикально-революционному крылу общественных движений. Первой под прицел, естественно, попадала большевистская партия. Однако она мужественно переносила выпавшие испытания и, перестраивая ряды, меняя и совершенствуя тактику, не собиралась сворачивать с избранного пути. Ее организации в Украине, не теряя связей с массами, продолжали наращивать свой потенциал, усиливать позиции.
На пути к Октябрю организации РСДРП(б) не только добивались мобилизации масс на радикальное социальное переустройство общества, но и принципиально придерживались принципа национального самоопределения, открыто поддержали как подлинно демократичные и совершенно справедливые требования украинства о решении национального вопроса, о предоставлении Украине автономного статуса как первом шаге возрождения национальной государственности. При этом большевики категорически отвергали националистическую идеологию, всячески пропагандировали интернационализм, стремились воспитывать рабочих, всех трудящихся в духе уважения к собратьям по классу, укрепления межнациональной солидарности.
В ответ на попытки буржуазии разжечь «в глубине сознания человеконенавистнические чувства» партия призывала пролетариат к единству, взаимовыручке, взаимоподдержке и взаимопомощи вне зависимости от национальной принадлежности. «Русский рабочий не даст ввести себя в обман, – решительно заявляли киевские большевики, – у него нет вражды к своему рабочему иноплеменнику, он знает, что все рабочие – братья, к какому бы племени они ни принадлежали, что все они одинаково стонут под игом эксплуатации и угнетения, работая на хозяина, что их долг – слиться в одну братскую семью, объединиться для совместной борьбы с буржуазией. Под знаменем РСДРП весь многоплеменный и многоязычный пролетариат России поведет солидную борьбу против всех своих угнетателей[148].
Принципиальное проведение курса на социалистическую революцию, как залога социального и национального раскрепощения, снискало партии большевиков, ее организациям на местах все возрастающее внимание, прочный авторитет. А после очередных кампаний по дискредитации РСДРП(б), периодических физических репрессий партия выходила еще более окрепшей, закаленной и приобретала все новых сторонников.
Это позволяло преодолевать всевозможные преграды, такие отчаянные контрреволюционные атаки, как корниловский заговор. И успех достигался не применением силы, оружия, а мирными способами, эффективной работой в массах. Так, в разгар организации генеральской авантюры большевики Украины многое сделали, чтобы поднять народ на защиту завоеванных позиций. Выступая в печати, на митингах и собраниях, они стремились вселить в сознание трудящихся непреклонную веру в победу революционных сил, в тщетность попыток реакции и ее прислужников из мелкобуржуазных партий проложить дорогу военной диктатуре. Для того, чтобы не дать буржуазии задушить революцию, разъясняли большевики, рабочие, солдаты, крестьяне должны еще теснее сплотиться вокруг партии Ленина, приготовиться к решающим сражениям за власть не на парламентской трибуне, а на улицах и площадях, в вооруженном противоборстве с классовым врагом. «Атмосфера становится все более, более напряженной. Массы заметно “левеют”. Буржуазия явно перешла в наступление. Приближается буря, – говорилось в одной из редакционных статей «Голоса социал-демократа». – “Стонут чайки перед бурей, стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас перед бурей”.
Стонут меньшевистские чайки. Нам же нечего стонать. Мы верим, что буря очистит воздух, сметет все непрочное, гнилое и если и причинит кое-какой вред, то демократия России, если она действительно жизнеспособна и крепка, должна выйти из нее еще более мощной. Пусть же грянет буря!»[149]
По призыву большевиков трудящиеся Украины решительно выступали против Государственного совещания. На собраниях и митингах рабочие принимали резолюции протеста против контрреволюционных замыслов, заявляли о готовности отстаивать свои классовые интересы. Собравшись на митинг в день открытия Государственного совещания, рабочие Краматорского завода вынесли резолюцию, в которой заявили: «Протестуем против Московского совещания как центра контрреволюции, наносящего удар революционному пролетариату и трудовому беднейшему крестьянству. Призываем пролетариат к сплочению и приготовиться дать должный отпор контрреволюционным силам». 5000 рабочих завода и шахт Новороссийского общества в Юзовке, заслушав доклад членов областного комитета РСДРП(б) о текущем моменте, приняли резолюцию, в которой говорилось, что революцию в России «может спасти только твердая революционная власть, идущая из трудовых низов народа, власть большинства российского населения – рабочих, крестьян и солдат»[150].
К протесту рабочих присоединяли свой голос крестьяне и солдаты. Так, съезд крестьянских депутатов Изюмского уезда Харьковской губернии 13 августа решительно осудил Государственное совещание. «Признавая, что Московское совещание не имеет тех полномочий, которые ему приписывает Временное правительство, – говорилось в его решении, – съезд считает это совещание контрреволюционным и относится к нему с недоверием»[151]. 22 августа протест против Государственного совещания и происходившего на нем «братания» меньшевиков и эсеров с буржуазией выразил митинг солдат местечка Большой Токмак Бердянского уезда Таврической губернии [152]. Наглые действия Л. Корнилова и его сообщников, рассчитывавших на поддержку в Украине, особенно на Юго-Западном фронте, разбились о консолидированные действия трудящихся всех без исключения регионов края. В Харькове и Екатеринославе, Чернигове и Киеве, на шахтах и заводах Донбасса, в рабочих поселках и крестьянских уездах контрреволюционеры получили решительный отпор.
В то же время в некоторых других городах большевики придерживались иной линии поведения. В созданный в Екатеринославе Комитет спасения революции (его партийный состав оказался разношерстным) вошли большевики Э. Квиринг, В. Аверин и др. Однако они недолго питали иллюзии в отношении характера и классовой направленности деятельности комитета. Не придавая участию в нем большого значения, большевики развернули интенсивную работу среди трудящихся с целью мобилизации их на борьбу с контрреволюцией. «Комитеты спасения революции не спасут революцию, если они будут придерживаться тактики правительства “спасения революции”, – подчеркивала «Звезда». – Гражданская война начата представителями командующих классов, напавших на пролетариат и его революционные завоевания. Лучшее средство обороны – это нападение. И мы должны перейти от обороны к нападению. Да здравствует диктатура революционного пролетариата и беднейших крестьян!»[153]
В Одессе благодаря решительным действиям местного ревкома и Красной гвардии было не только предотвращено выступление корниловцев, но и парализованы попытки использования ими контрреволюционных воинских частей Румынского фронта, что имело далеко не местное значение.
Самоотверженная борьба рабочих и солдат против корниловщины развернулась под руководством большевиков и в других городах Украины, а также на Юго-Западном фронте. Даже соглашательский исполнительный комитет Юго-Западного фронта под давлением солдатских масс вынужден был принять резолюцию с требованием незамедлительного военно-революционного суда над заговорщиками[154].
Бурные события произошли в Бердичеве – втором после Ставки центре корниловщины. Солдаты арестовали А. Деникина и других членов командного состава штаба Юго-Западного фронта. То же произошло и в штабах VII и Особой армии [155].
В борьбе с корниловщиной большевикам удалось собрать под своими лозунгами рабочий класс и его союзников, сплотить, мобилизовать вооруженные силы революции и в то же время уклониться от навязываемого буржуазией преждевременного сражения. В деле подготовки восстания партия не форсировала событий, а, руководствуясь установками, решениями VI съезда РСДРП(б), предпринимала все зависящие от нее меры для предотвращения вооруженных столкновений, призывала рабочих и солдат стоять на страже революции, соблюдать выдержку, бдительность, не выступать без призыва. Эта тактика собирания сил и уклонения от боя в неблагоприятных условиях дала возможность подготовить пролетариат и его союзников к победоносной борьбе за власть рабочего класса и беднейшего крестьянства.
Могучая энергия масс за несколько дней смела выступление буржуазии. Разгром корниловского заговора имел громадное значение для дальнейшего развития революции. В этот, один из самых ее критических моментов раскрылось истинное лицо всех политических партий. Попытка буржуазии разжечь гражданскую войну с целью установления военной диктатуры провалилась. С головой выдали свою враждебность к социалистической революции соглашательские партии. В то же время неизмеримо возрос среди трудящихся авторитет большевиков, как умелых и дальновидных, стойких и решительных руководителей революционных масс, проявивших в своем объединении и порыве против корниловщины свою силу и организованность.
Ход политических событий во второй половине лета 1917 г. со всей очевидностью подтвердил правильность вывода о том, что только власть трудящихся способна решить вставшие перед страной и народом задачи. И не случайно главным показателем нового подъема в стране, начавшегося после разгрома корниловщины, стало оживление деятельности Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, действовавших как органы защиты завоеваний революции, а в ряде мест начавших осуществлять свою власть. В этих условиях трудящиеся все активнее требовали устранения от власти эксплуататорских элементов, передачи власти Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
Требование перехода власти к Советам стало в этот период действительно всеобщим, воплотило в себе основную тенденцию развития народной борьбы. 30 августа резолюцию о передаче власти Советам приняли: общее собрание дислоцированного в Харькове моторнопонтонного батальона, 10-тысячный митинг рабочих Брянского завода и собрание полкового комитета 271-го запасного пехотного полка в Екатеринославе, общее собрание рабочих трубопрокатного завода «С» в Нижнеднепровске, 31 августа – собрание рабочих завода Дитмара в Харькове, собрание рабочих клепального цеха судостроительного завода «Руссуд» в Николаеве; 1 сентября – Харьковская конференция фабзавкомов, областное совещание Советов рабочих и солдатских депутатов Донецко-Криворожского бассейнов, митинг рабочих гвоздильного завода Гантке в Нижнеднепровске. Такая же картина наблюдалась и в других городах, рабочих поселках страны.
Учитывая крутой поворот в развитии революции, характеризовавшийся резким изменением в соотношении сил, ЦК РСДРП(б) принял 31 августа резолюцию «О власти», которая в тот же день была одобрена подавляющим большинством голосов участников пленарного заседания Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Резолюция требовала отстранения от власти организатора корниловщины – буржуазии и передачи власти в руки представителей рабочего класса и крестьянства. 5 сентября большевистская резолюция «О власти» была принята объединенным собранием Советов рабочих и солдатских депутатов Москвы. Через несколько дней резолюцию с требованием перехода власти в руки рабочих и крестьян одобрило областное совещание Советов рабочих и солдатских депутатов Донецко-Криворожского бассейнов.
В Виннице на заседании Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, проходившем 3 сентября, большевик Н. Тарногородский внес предложение присоединиться к резолюции по текущему моменту, принятой Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов 31 августа. Предложение было принято 53 голосами против 3 при 9 воздержавшихся[156].
8 сентября на общем собрании Киевского Совета рабочих депутатов при обсуждении вопроса о текущем моменте и организации власти 119 голосами против 67 была одобрена большевистская резолюция, разработанная на основе резолюции Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов «О власти» от 31 августа. Трудящиеся города приветствовали это решение Киевского Совета. Так, состоявшееся 18 сентября общее собрание двух рот 147-й пешей Воронежской дружины, в котором приняло участие 500 человек, постановило переизбрать всех своих депутатов в Совет, поручить им руководствоваться в своей деятельности резолюцией от 8 сентября и войти в большевистскую фракцию[157].
В уездных и местечковых Советах происходили, хотя и несколько позже, в основном такие же процессы, как и в Советах крупных городов, промышленных центров. Орган ЦК партии большевиков с полным основанием мог в те дни заявить: «Много теперь в России городов и местечек, много сел и деревень, которые идут нога в ногу с Питером и Москвой» [158].
В сентябре перешел на большевистские позиции Глуховский уездный Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, присоединился к резолюции Петроградского Совета «О власти» Староконстантиновский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, в октябре потребовал перехода власти в руки Советов Дружковский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов[159]. В целом по Украине в сентябре-октябре с таким требованием выступили еще десятки Советов, а в ряде городов и пролетарских районов Донбасса они стали полноправными хозяевами положения.
Таким образом, своевременно корректируя тактику, избирая эффективные формы и методы борьбы, большевики добивались все новых успехов, доказывая тем самым обоснованность своих политических планов и расчетов. Если для противников РСДРП(б) каждый день усугублял положение, объективно свидетельствуя о беспочвенности политических притязаний и бесперспективности надежд, то пролетарская партия осуществляла такую тактику, которая в любых ситуациях приближала ее, руководимые ею массы трудящихся к заветной стратегической цели – социалистической революции.
Важной вехой в судьбе страны, всех ее народов должен был стать Второй Всероссийский съезд Советов, проведение которого предполагалось в последней декаде октября 1917 г. Еще до его решений именно с ним связывали свое будущее во многих регионах России, в том числе и в Украине.
В день открытия форума киевские большевики провозглашали: «Сегодня – в поворотный день Великой Русской революции – революционная армия рабочих, солдат и крестьян производит смотр своим всероссийским силам, сегодня главный штаб русской революции принимается за выработку плана наступления по всему фронту русской революции. Сегодня мы, пролетариат и гарнизон Киева, многотысячным, но единогласным мощным хором своим в согласии со всей истинно революционной Россией заявляем, что мы ждем от съезда осуществления следующей программы:
1. Немедленный переход власти [к] С[оветам] Р[абочих], Солдатских] и К[рестьянских] Депутатов в центре и на местах»[160].
Совет рабочих депутатов Несветайского горного района (Донбасс) направил в ЦИК Советов телеграмму, в которой приветствовал II Всероссийский съезд Советов как выразителя воли революционных классов. «Шахтеры, – подчеркивалось в телеграмме, – всеми силами поддержат съезд, его борьбу против империализма. Вся власть Советам! Да здравствует мир народов и социализм!»[161]
Практический переход власти к Советам в ряде населенных пунктов Донбасса, усилившаяся активность стачечной борьбы пролетариев, непрекращающиеся антивоенные выступления, братание на фронте, мощное крестьянское движение, нарастающая волна национально-освободительного движения были явными признаками начинавшейся по всей стране революционной бури. Председатель Петроградского Военно-революционного комитета Н. Подвойский писал в своих воспоминаниях, что «каждая новая партия делегатов, прибывавших на съезд с периферии, подтверждала, что вся страна созрела для пролетарской революции и что момент восстания выбран правильно»[162].
Осуществляя курс на вооруженное восстание, большевики привели в боевую готовность все силы политической армии социалистической революции. За ними шло большинство рабочего класса, прежде всего его наиболее сознательные слои. Рабочий класс открыто поддерживала половина состава армии. В единый фронт революции включилось мощное крестьянское движение и нараставшая волна национально-освободительной борьбы угнетенных народов.
Страна вплотную подошла к решающей битве социалистической революции. Ее политическая армия ждала сигнала штаба восстания.
43
См.: Очерки истории Коммунистической партии Украины. Изд. 4-е, доп. К., 1977. С. 181–182, 224–225; Варгатюк П. Л., Курас И. Ф., Солдатенко В. Ф. В. И. Ленин и большевистские организации Украины в Октябрьской революции. К., 1980. С. 16, 211, 287–294.
44
См.: Варгатюк П. Л., Солдатенко В. Ф, Шморгун П. М. В огне трех революций. Из истории борьбы большевиков Украины за осуществление ленинской стратегии и тактики в трех российских революциях. К., 1986. С. 341–429.
45
Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 31. С. 358.
46
Якупов М. Н. Деятельность конституционно-демократической партии в Украине (1917–1918 гг.): Автореферат дис… канд. ист. наук. К., 1994. С. 9; Солдатенко В. Ф., Любовець О. М. Революційні альтернативи 1917 року й Україна. К., 2010. С. 45.
47
См.: Солдатенко В. Ф., Любовець О. М. Революційні альтернативи 1917 року й Україна. С. 48–62.
48
См.: Грушевський М. Ілюстрована історія України. Київ-Відень, 1921. С. 542–543; Он же. Хто такі українці і чого вони хочуть // Великий Українець. Київ, 1992. С. 69; Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції. Т. І. Прага, 1921. С. 9; Винниченко В. Відродження нації. Ч. І. Київ-Відень,1920. С. 50–51.
49
Винниченко В. Відродження нації (Історія української революції [марець 1917 р. – грудень 1919 р.]). Київ-Відень, 1920. Ч. І-ІІІ.
50
Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції. Прага, 19211922. Т. I–IV.
51
Шаповал М. Велика революція і українська визвольна програма. Прага, 1928; Дорошенко Д. Історія України. 1917–1923 рр. Т. І. Доба Центральної Ради. Ужгород, 1932; Т. II. Українська Гетьманська Держава 1918–1930. Ужгород, 1930; Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917–1921. Т. 1. Центральна Рада. – Гетьманщина. – Директорія. Прага, 1942; Т. II. Кам’янецька доба. – Зимовий похід; Т. III. Польсько-український союз. Кінець збройних змагань УНР. 1943.
52
Українська Центральна Рада. Документи і матеріали: У 2-х т. Т. 1. 4 березня – 9 грудня 1917 р. Київ, 1996; Т. 2. 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. К., 1997; Український національно-визвольний рух. Березень – листопад 1917 року. Документи і матеріали. Київ, 2003; Директорія, Рада. Народних Міністрів Української Народної Республіки. Листопад 1918 – листопад 1920 рр. Документи і матеріали: У 2-х т., 3-х ч. Київ, 2006. Т. 1; Т. 2.
53
Мирні переговори між Українською Державою та РСФРР 1918 р. Протоколи і стенограми пленарних засідань. Збірник документів і ма. теріаліи. Київ; Нью-Йорк; Філадельфія, 1999; Українська Держава (квітень-грудень 1918 року). Документи і матеріали. У двох томах. К., 2015. Т. 1–2.
54
Грушевський М. Ілюстрована історія України. Київ, 1991; Он же. Про українську мову і українську школу. Київ, 1991; Он же. Очерк истории украинского народа. Киев, 1991; Он же. Хто такі українці і чого вони хочуть. Київ, 1991; Он же. На порозі Нової України. Київ, 1991; Великий Українець. Матеріали з життя та діяльності М. С. Грушевського. Київ, 1992; Михайло Грушевський. На порозі Нової України. Статті і джерельні матеріали. Нью-Йорк – Львів – Київ – Торонто – Мюнхен, 1992; Винниченко В. Відродження нації (Історія української революції [марець 1917 р. – грудень 1919 р.]). Київ, 1990. Ч. І-ІІІ; Паралельно деякі сюжети з тритомника у 1990 і 1991 рр. були надруковані у журналах «Наука і суспільство» та «Дніпро»; Он же. Заповіт борцям за визволення. Київ, 1991; Петлюра С. Народе укра'нський. Вибрані статті, листи, документи. Харків, 1992; Он же. Статті. Київ, 1993; Он же. Вибрані твори та документи. Київ, 1994; Он же. Статті. Листи. Документи. Київ, 2006. Т. IV; Он же. Відродження нації. Заповіт борцям за визволення. К., 2008; Мазепа І. П. Україна в огні й бурі революції 1917–1921: Дніпропетровськ, 2001: І. Центральна. Рада – Гетьманщина – Директорія. ІІ. Кам’янецька доба; ІІ. Зимовий похід. ІІІ. Польсько-укра'нський союз. Кінець збройних змагань; Он же. Україна в огні й бурі революції. 1917–1921. Київ, 2003; Дорошенко Д. І. Історія Укра'ни 1917–1923: в 2 т. Київ, 2002. Т. І. Доба Центральної Ради; Т. 2. Укра'нська Гетьманська Держава 1918 року; Шаповал М. Ю. Соціологія українського відродження. Київ, 1994; Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму // В’ячеслав Липинський. Повне зібрання творів, архів, студії. Т. 6. Кн. І. Київ; Філадельфія, 1995; Липинський В. Листування. Т. І (А-Ж). Київ; (Філадельфія, 2003, и др.
55
Грушевський М. Спомини // Київ. 1988. № 9. С. 115–149; № 10. С. 131–138; № 11. С. 120–137; № 12. С. 116–139; Винниченко В. Щоденник // Київ. 1990. № 9. С. 91–125; № 10. С. 96–110; № 11. С. 85–106; Дружба народов. № 12. С. 161–205; Скоропадський П. Спомини. Київ, 1992; Он же. Спогади. Київ; Філадельфія, 1995; Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє-минуле (1914–1918) // Український історичний журнал. 1992. № 6. С. 131–142; № 7–8. С. 140–146; № 9. С. 145–155; № 12. С. 152–159; 1993. № 1. С. 131–139; № 2–3. С. 104–114; № 4–6. С. 80–92; № 7–8. С. 102–114; Фещенко-Чопівський І. А. Хроніка мого життя. Спогади міністра Центральної Ради та Директорії. Житомир, 1992; Махно Н. Воспоминания. Киев, 1991. Кн. 1–3; Он же. Воспоминания, материалы и документы. К., 1991; Чикаленко Є. Щоденник, 1919–1920. К; Нью-Йорк. 2005; Омелянович-Павленко. Спогади командарма (1917–1920). Документально-художнє видання. Київ, 2007; Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє-минуле (19141920 роки). Київ, 2007;и др.
56
Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. Київ, 1993; Мли-новецький Р. Нариси з історії українських визвольних змагань 1917–1918. Львів, 1994; Верига В. Визвольні змагання в Україні 1914–1923 рр. Львів, 1998. У двох томах; Чернецький А. Спомини з мого життя. Київ, 2001; Доценко О. Зимовий похід (6.ХІІ.1919-6.V.1920). Київ, 2001; Петрів В. Військово-історичні праці. Спомини. Київ, 2002
57
Кучма Л. Учасникам міжнародної конференції «Центральна Рада, та український державотворчий процес» // Центральна. Рада, і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради). Матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. (У 2-х ч.). Ч. 1. Київ, 1997. С. 6–7; Он же. До читачів журнале «Пам’ять століть». 1998. № 1. С. 2–3; Будівля державності можлива лише на фундаменті злагоди та порозуміння. Доповідь Президента України Леоніда Кучми на урочистому засіданні, присвяченому 80-річчю проголошення Західно-Української Народної Республіки. Львів, 1 листопада 1988 року // Урядовий кур’єр. 1998. 3 листопада; Постанова Верховної Ради України «Про відзначення 125-річчя з дня народження видатного громадського, політичного діяча і письменника Володимира Винниченка» // Солдатенко В. Ф. Три Голгофи. К., 2005. С. 3–4; Про увічнення нам’яті видатних діячів Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки. Указ Президента України В. Ющенка // Урядовий кур’єр. 2005. 16 травня; Про заходи з відзначення 90-річчя подій Української революції 1917–1921 років та вшанування пам’яті її учасників. Указ Президента України В. Ющенка // Урядовий кур’єр. 2007. 18 квітня; До 90-річчя утворення першого Уряду України. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?artid=72875700; Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років. Указ Президента України № 17/2016 П. Порошенка. URL: http://www.president.gov.ua/documents/172016-19736
58
См.: Дисертації з проблем Української революції, захищені в Україні протягом 1991–2001 рр. // Проблеми вивчення історії української революції 1917–1920 рр. Київ, 2002. С. 279–294; Дисертації з проблем Української революції, захищені в Україні протягом 2001–2006 рр. // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 рр. Випуск 2. Київ, 2007. С. 244–258.
59
Українська ідея. Постаті на тлі революції. Київ, 1994; Павленко Ю, Храмов Ю. Українська державність у 1917–1919 рр. (історико-генетичний аналіз). Київ, 1995; Верстюк В. Українська Центральна Рада. Навч. посібник. Київ, 1997; Українська революція і державність. Київ, 1998; Кондратюк В. О., Буравченкова С. Б. Українська революція: здобутки і втрати в державотворчих змаганнях (1917–1920 рр.). Навч. посібник. Київ, 1998; Українська революція: 1917 – початок 1918 рр. (Проблеми, пошуки, узагальнення). Запоріжжя, 1998; Українська революція і державність. Київ, 1998; Реєнт О. П. Українські визвольні змагання (поч. ХХ ст. – 1921 рік). Події на східних теренах національної території // У робітнях історичної науки. Київ, 1999. С. 7–268; Рубльов О. С, Реєнт О. П. Українські визвольні змагання 1917–1921 рр. Київ, 1999; Солдатенко В. Ф. Українська революція. Історичний нарис. Київ, 1999; Українська соборність. Ідея, досвід, проблеми (До 80-річчя Акту злуки 22 січня 1919 р.): Зб. Київ, 1999; Курас І. Ф, Солдатенко В. Ф. Соборництво і регіоналізм в українському державотворенні 1917–1920 рр. Київ, 2001; Солдатенко В. Ф, Хало Л. Г. Військовий чинник у боротьбі за політичну владу в Україні в 1917–1918 рр. Наукове видання. Київ, 2002; Верстюк В. Ф, Солдатенко В. Ф. Революції в Україні: політико-державні моделі та реалії (1917–1920) // Політична історія України. ХХ століття: У 6-ти т. Т. 2. Київ, 2003; Події і особистості революційної доби. Збірник. Київ, 2003; Яневський Д. Політичні системи України 1917–1920 років: спроби творення і причини поразки. Київ, 2003; Солдатенко В. Ф, Савчук Б. Галицька армія у Наддніпрянській Україні. Київ, 2004; Любовець О. Українські партії й політичні альтернативи 1917–1920 років. Київ, 2005; Гай-Нижник П. Податкова політика Центральної Ради, урядів УНР, Української Держави, УСРР (1917–1930 рр.). Київ, 2006; Ковальчук М. Невідома війна 1919 року: українсько-білогвардійське збройне протистояння. Київ, 2006.
60
Українська революція і державність. Науково-бібліографічне видання. К., 2001.
61
См.: Радченко Л. О. Сучасна історіографія національно-демократичної революції в Україні 1917–1920 рр. Харків, 1996; Ее же. Українська революція. Концепція та історіографія. Київ, 1997; Его же. Українська революція: концепція та історіографія (1918–1920 рр.). Київ, 1999; Левенець Ю., Гошуляк І. Українська революція: здобутки і проблеми дослідження // Етнополітологія в Україні. Становлення. Що далі? Київ, 2002. С. 169–190; Капелюшний В. П. Здобута і втрачена незалежність: історіографічний нарис української державності доби національно-визвольних змагань (1917–1921 рр.). Київ, 2003; Солдатенко В. Ф. Новітні видання і дослідження з історії Української революції // Актуальні проблеми вітчизняної історії ХХ ст.: Зб. наук. праць, присвячений пам’яті академіка НАН України Ю. Ю. Кондуфора. Киїі, 2004. Т. 1. С. 237–305; Он же. Доба Української революції (1917–1920 рр.) у новітній історіографії // Гілея. Науковий вісник. Філософія. Історія. Політологія. 2005. № 1. С. 87–151; № 2. С. 68–103; № 3. С. 50–72; Он же. Актуальні теоретико-методологічні проблеми історіографічного освоєння досвіду Української революції 1917–1920 рр. // Наукові записки ІПіЕНД. Курасівські читання. 2005. Киів, 2006. С. 453–465; Он же. Новітні тенденції й актуальні проблеми історіографічного освоєння процесів революційної доби 1917–1920 рр. в Україні // Україна в революційних процесах перших десятиліть ХХ століття. Міжнародна науково-теоретична конференція 2021 листопада 2007 р. Київ, 2007. С. 5–24; То же самое // Український історичний журнал. 2008. № 1. С. 75–88.
62
См.: Солдатенко В. Ф. Феномен Украинской революции // Российская история. 2009. № 1. С. 34–46.
63
См.: Еволюційні і революційні процеси в історії права, держави і юридичної думки: до 100-річчя Української революції 1917–1921 рр. Матеріали XXXVI Міжнародної історико-правової конференції 1–4 червня 2017 р. м. Дніпро. К. Херсон, 2017.
64
Усенко І. Б. До 100-річчя Української революції 1917–1921 рр. // Еволюційні й революційні процеси в історії права, держави і юридичної думки. С. 15, 16.
65
См.: Кириченко В. Є. Українська революція – предмет наукового дослідження чи витвір національної свідомості // Там же. С. 23–24.
66
Верстюк В., Скальский В. Українська революція 1917–1921 рр. у політиці формування національної пам’яті в 2007–2010 рр. // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 років. Вип. 5. К., 2010. С. 5.
67
Андрусяк Т. Г. До питання про юридичну оцінку подій 1917-1920-х рр. // Еволюційні і революційні процеси в історії права, держави і історичної думки… С. 4950, 52.
68
См., напр.: Михайлов И. В. Украинская революция или революция на Украине // Вестник МГИМО Университета. М., 2010. № 1. С. 65–75; Королев Г. Украинская революция 1917–1921 гг.: мифы современников, образы и представления историографии // АВ Imperio. М., 2011. № 4. С. 351–375.
69
См., напр.: Турченко Ф. Г. Новітня історія України. 10 клас. Ч. 1. К., 1994. С. 67; Історія України. Навчальний посібник. Видання 3-е, доповнене й перероблене. К., 2002. С. 210–269.
70
Нариси історії Української революції 1917–1921 років. Кн. 2. С. 243.
71
Лисяк-Рудницький І. Що робити // Лисяк Рудницький Іван. Історичні есе: У 2 т.: Т. 2. К., 1994. С. 446–447.
72
Нариси історії Української Революції 1917–1921 років. Кн. 2. С. 243–244.
73
Там же. Кн. 1. С. 10.
74
Там же. Кн. 2. С. 312, 347 и др.
75
См.: Фон Хаген М. Великая война и искусственное усиление этнического самосознания в Российской империи // Россия и первая мировая война (Материалы международного научного коллоквиума. СПб. 1999. С. 399; Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ-ХХ ст. К., 2000. С. 103; Он же. Страсті за націоналізмом. К., 2004. С. 50–51); Реєнт О. П. Перечитуючи написане. К., 2005. С. 9091; Он же. Укра'на ХІХ-ХХ століть. Роздуми та студії історика. К., 2009. С. 73–75; Верстюк В. Ф., Горобець В. М, Толочко С. П. Укрш'на і Росія в історичній ретроспективі. Нариси: в 3 т. Т. 1. Укрш'нські проекти в Російській імперії. К., 2004. С. 407–408.
76
См. предметную дискуссию по данному аспекту: Солдатенко В. Ф. Освоєння досвіду революційної доби: новітній історіографічний дискурс // У вирі революцій і громадянської війни (актуальні аспекти вивчення 1917–1920 рр.) в Україні. К., 2012. С. 84–88.
77
Российская революция 1917 года. Т. 1. С. 9.
78
Киевская мысль. 1917. 4, 5 марта.
79
1917 год на Киевщине: Хроника событий. Харьков, 1928. С. 7.
80
Ленинский сборник. XXI. М., 1933. С. 33.
81
Голос социал-демократа (Киев). 1917. 9 апреля.
82
См.: Солдатенко В. Ф. Наймасштабніша опозиція в РСДРП(б) курсу на соціалістичну революцію // Революційна доба в Україні: логіка пізнання, історичні постаті, ключові епізоди. К., 2011. С. 63–76; Он же. Георгий Пятаков: оппонент Ленина, соперник Сталина. М., 2017. С. 108–127; Киевский комитет, выслушав и обсудив тезисы В. И. Ленина, находит их в общем неприемлемыми. Апрель 1917 г. // Исторический архив. 2017. № 2. С. 3–29; «Точка зрения Ленина в конце конференции захватила громадное большинство». Из протокола Киевского комитета РСДРП(б) от 8 мая 1917 г. // Там же. 2017. № 3. С. 12–23.
83
Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 31. С. 168.
84
Нариси історії Української революції 1917–1921 рр. Кн. 1. С. 96–105.
85
См.: Солдатенко В. Ф. Україна в революційну добу. Історичні есе-хроніки. Т. 1. Рік 1917. С. 116–117.
86
Грушевський М. Вільна Україна // Великий Українець. С. 99–100.
87
Его же. Хто такі українці і чого вони хочуть // Там же. С. 69–74; Якої ми хочемо автономії і федерації // Там же. С. 115.
88
Винниченко В. Відродження нації. Ч. І. С. 44–45.
89
Грушевський М. Якої ми хочемо автономії і федерації // Великий Українець. С. 121–131.
90
Грушевський М. Звідки пішло українство і до чого воно йде // Великий Укарїнець. С. 91.
91
Там же. С. 92.
92
См. семь томов академического издания: Революционное движение в России после свержения самодержавия» и поэтапно до октября 1917 г.: Документы и материалы. М., 1957–1982; Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистической революции: Документы и материалы. Март-октябрь 1917 г. Ч. 1–2. М.; Л., 1957; Волобуев П. В. Экономическая политика Временного правительства. М., 1966; Солдатенко В. Ф., Любовець О. М. Революційні альтернативи 1917 року й Україна. К., 2010. С. 42–62, 97-113, 154–183.
93
См.: Вопросы истории КПСС. 1962. № 5. С. 112–120; Первый Всероссийский съезд Советов. М.; Л., 1930; Игнатов И. Е. Всероссийские съезды Советов рабочих и солдатских депутатов. Л., 1927. С. 78–87.
94
См.: Протоколы и резолюции Бюро ЦК РСДРП(б) (март 1917 г.) // Вопросы истории КПСС. 1962. № 3. С. 145, 147, 151; Седьмая (Апрельская) Всероссийская конференция РСДРП (большевиков). Петроградская общегородская конференция РСДРП (большевиков). Апрель 1917 года. Протоколы. М., 1958; История Коммунистической партии Советского Союза Т. 3. Коммунистическая партия – организатор победы Великой Октябрьской социалистической революции и обороны Советской республики. Март 1917–1920 г. Кн. 1. (Март 1917 – март 1918 г.). М., 1967. С. 29–82.
95
См.: Думова Н. Кончилось ваше время.: [О поражении кадетской партии в 1917 г.] М., 1990; Меньшевики в 1917 году. Документы и материалы: в 3 т. М., 19941997; Канищева Н. Конституционно-демократическая партия // Политические партии России. Конец XIX – первая треть XX века: Энциклопедия. М., 1996. С. 267–273; Партия социалистов-революционеров. Документы и материалы: в 3 т. М., 2000; Смирнова А. А. На тернистом пути к нежеланной власти. Петроградские социалисты в феврале – мае 1917 года. СПб., 2005; Ее же. От коалиции к катастрофе. Петроградские социалисты в мае-ноябре 1917 года. СПб., 2006; Солдатенко В. Ф., Любовець О. М. Указ. соч. С. 46–62, 154–183; и др.
96
См.: Солдатенко В. Ф. Деміурги революції. Нарис партійної історії України 1917–1920 рр. С. 39–40.
97
Он же. Україна в революційну добу. Історичні есе-хроніки. Т. І. С. 172–174; 228–241.
98
Винниченко В. Назв. работа. С. 42–43.
99
Українська Центральна Рада. Документи і матеріали: У двох томах. Т. 1. С. 5455.
100
Вісті з Української Центральної Ради. 1917. № 8. Травень.
101
Там же.
102
См.: История Новороссии. М., 2018. С. 441.
103
См.: Солдатенко В. Ф. Українська революція. Історичний нарис. С. 211–232.
104
Вісті з Української Центральної Ради. 1917. № 9. Травень (май). В датировании номера очевидная техническая ошибка. – В. С.
105
Ленин В. И. Украина // Полн. собр. соч. Т. 32. С. 341.
106
Там же. С. 342.
107
Там же.
108
1917 год в Горловско-Щербиновском районе // Борьба за Октябрь на Артемовщине: Сб. воспоминаний и статей. Харьков, 1929. С. 132.
109
Борьба за власть Советов в Донбассе: Сб. документов и материалов. Сталино, 1957. С. 60.
110
Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине. Т. 1. С. 102.
111
Донецкий пролетарий. 1917. 21 июня.
112
См.: Гриценко А. П. Робітничий клас України у Жовтневій революції. С. 77–78.
113
Жуковский Й. (Трубний Мирон). На шляхах до Жовтня // Борці за Жовтень розповідають. 1957. С. 117.
114
ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС. Ф. 70. Оп. 3. Д. 59. Л. 81, 217.
115
Ленин В. И. Пролетарская революция и ренегат Каутский // Полн. собр. соч. Т. 37. С. 295.
116
Гриценко А. П. Робітничий клас України у Жовтневій революції. С. 96.
117
Короливский С. М., Рубач М. А., Супруненко Н. И. Победа Советской власти на Украине. М., 1967. С. 47.
118
Гамрецький Ю. М., Тимченко Ж. П., Щусь О. Й. Ради України в 1917 р. С. 17.
119
См.: Тимченко Ж. П. Селянські з’їзди на Україні в 1917 р. // УІЖ. 1969. № 11. С. 113, 114–117.
120
Звезда. 1917. 14 июля.
121
Правда. 1917. 6 мая.
122
Голуб П. А. Партия, армия и революция: Отвоевание партией большевиков армии на сторону революции, март 1917 – февр. 1918. М., 1967. С. 34.
123
Щусь О. Й. Створення Рад солдатських депутатів у тилових гарнізонах України в 1917 р. // Великий Жовтень і громадянська війна на Укра'ні. С. 54.
124
Голуб П. Солдатские массы Юго-Западного фронта в борьбе за власть Советов. С. 40.
125
Голос социал-демократа. 1917. 1 июня.
126
Борьба большевиков за армию в трех революциях. М., 1969. С. 156.
127
См.: 1917 года на Киевщине: Хроника событий. Харьков, 1928. С. 142–144; Українська Центральна Рада. Т. 1. С. 160–163; Солдатенко В. Ф. Україна в революційну добу. Історичні есе-хроніки. Т. 1. Рік 1917. С. 281–284.
128
Верстюк В. Ф. Українська Центральна Рада. Навчальний посібник. С. 165.
129
Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. Т. 1. С. 160–168.
130
См.: История Новороссии. С. 442.
131
Детальное освещение вопроса см.: Солдатенко В. Ф, Солдатенко І. В. Виступ полуботківців у 1917 р. (Спроба хронікально-документальної реконструкції подій) // Український історичний журнал. 1993. № 7/8. С. 17–29; № 9. С. 28–39; № 10. С. 3–20.
132
См.: Солдатенко В. Ф, Хало Л. Г. Військовий чинник у боротьбі за політичну і'Д.'їдд в Україні в 1917–1918 рр. К., 2002. С. 51–55.
133
Солдатенко В. Ф. Україна в революційну добу. Історичні есе-хроніки: в 4 т. Т. 1. Рік 1917. Харків, 2008. С. 309–324.
134
Киевская мысль. 1917. 6 июля.
135
Грушевский М. Спомини // Київ. 1989. № 10. С. 146.
136
Робітнича газета (Київ). 1917. 6, 7, 10 липня.
137
Капелюшный В. П. Здобута і втрачена незалежність: історіографічний нарис української державності доби національно-визвольних змагань (1917–1921 рр.). С. 128–129.
138
Грушевский М. Спомини // Київ. 1989. № 10. С. 146.
139
Там же.
140
См.: Солдатенко В. Ф., Хало Л. Г. Указ. соч. С. 143–146.
141
Киевская мысль. 1917. 6 августа.
142
Солдатенко В. Ф. Україна в революційну добу. Історичні есе-хроніки. Т. 1. Рік 1917. С. 348–356.
143
Грушевский М. Спомини // Київ. 1989. № 10. С. 123.
144
Українська Центральна Рада. Т. 1. С. 264–265.
145
Солдатенко В. Ф. Україна в революційну добу. Історичні есе-хроніки. Т. 1. Рік 1917. С. 392–396.
146
Українська Центральна Рада. Т. 1. С. 194, 252–253, 334, 338, 346–348.
147
См.: Солдатенко В. Ф. Володимир Винниченко: на перехресті соціальних і національних прагнень. К., 2005. С. 86–87.
148
Голос социал-демократа (Киев). 1917. 14 марта.
149
Голос социал-демократа (Киев). 1917. 13 августа.
150
Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине: Сб. документов и материалов. К., 1955. С. 530–531.
151
Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (март-ноябрь 1917 г.): Сб. документов и материалов. К., 1957. С. 448.
152
Звезда (Екатеринослав). 1917. 4 сентября.
153
Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 70. Оп. 3. Д. 31. Л. 32–33; Звезда (Екатеринослав). 1917. 1 сентября.
154
Известия Армейского комитета XI армии (Староконстантинов). 1917. 10 сентября.
155
Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 2148. Оп. 5. Д. 13. Л. 11.
156
Боротьба за владу Рад на Поділлі (березень 1917 р. – лютий 1918 р.). Документи і матеріали. Хмельницький, 1957. С. 102–104.
157
Голос социал-демократа. (Киев), 1917. 9 и 20 октября.
158
Рабочий путь. (Петроград), 1917. 13 сентября.
159
Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине. Февраль 1917 – апрель 1918: Сборник документов и материалов: в трех томах. Т. 1. К., 1957. С. 831.
160
Голос социал-демократа (Киев). 1917. 25 октября.
161
Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти на Украине: Хроника событий. Ч. 1. С. 662.
162
РГАСПИ. Ф. 565. Оп. 1. Д. 47. Л. 34 об.