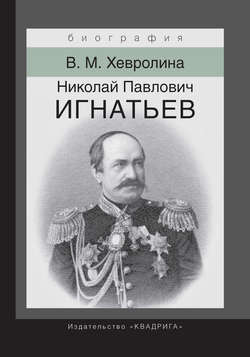Читать книгу Николай Павлович Игнатьев. Российский дипломат - В. М. Хевролина - Страница 4
Глава 2
Миссия в Хиву и Бухару
ОглавлениеПосле Крымской войны значение среднеазиатского направления во внешней политике России усилилось. Если в первой половине XIX в. основной целью российского правительства было налаживание торгово-экономических связей со среднеазиатскими государствами – Хивой, Кокандом и Бухарой, то теперь на первый план выдвигается политико-стратегический аспект. Крымская война показала всю остроту русско-английского соперничества. Ослабление влияния Англии на мировую политику стало одной из важных внешнеполитических задач России[47].
Англо-персидская война 1856 г., усиление позиций Лондона в Афганистане беспокоили Петербург, опасавшийся, что англичане будут стремиться распространить свое влияние на север региона. «Мы не можем быть равнодушными к английскому проникновению в Афганистан», – писал А. М. Горчаков в отчете МИД за 1856 г.[48] Указывая на нестабильность положения в среднеазиатских государствах, международные войны, набеги кочевников на русские торговые караваны, пограничные посты и т. п., министр считал, что единственное лучшее будущее для среднеазиатских ханств – «перейти под российскую власть», которая водворит тишину и порядок. Горчаков полагал, что благодаря действиям оренбургского генерал-губернатора В. А. Перовского, занявшего еще в начале 50-х гг. земли Большого Жуза (Заилийский край), Россия заявила свое право на владение этой местностью[49].
Однако Горчаков, стремившийся разрешать внешнеполитические задачи России мирными средствами, был противником военного наступления в Среднюю Азию и отвергал все попытки генералов действовать силовыми методами. Предложение Игнатьева о направлении в Среднюю Азию экспедиций с дипломатическими и научными целями встретило одобрение властей. Особенно ратовал за это директор Азиатского департамента МИД Е. П. Ковалевский, который сам в 1839 г. побывал в Бухаре с целью добиться торговых льгот и учреждения там российского консульства, а затем участвовал в походе Перовского на Хиву, однако оба этих предприятия окончились безуспешно[50]. Е. П. Ковалевский руководил подготовкой трех экспедиций в Среднюю Азию, направленных туда в 1858 г. В этом деле приняло участие и Военное министерство, а также местные генерал-губернаторы.
Первая экспедиция во главе с дипломатом и востоковедом Н. В. Ханыковым отправилась в Хорасан и Герат. Ее главной целью было ознакомление с политикой и положением Персии и Афганистана и налаживание сотрудничества России с последним. Одновременно экспедиция преследовала и научные цели – изучение флоры и фауны региона, путей сообщения и др.
Другая экспедиция, которой руководил полковник Н. П. Игнатьев, являлась дипломатическим посольством, направленным в ханства Хиву и Бухару с целью установления дипломатических связей и укрепления торговых отношений.
Третья экспедиция, возглавляемая поручиком русской службы Ч. Ч. Валихановым, известным впоследствии казахским просветителем и ученым, имела задачу проникнуть в западно-китайскую провинцию Кашгар, выяснить там обстановку и возможность восстановления торговых связей Кашгара с Россией. Чтобы не возбудить подозрений, Валиханов ехал под видом мусульманского купца.
История всех трех экспедиций исследована в литературе[51]. Изданы записки членов экспедиций. Так, история посольства Игнатьева отражена не только в обширных мемуарах самого руководителя, но и в записках его помощника Н. Г. Залесова, участников экспедиции Е. Я. Килевейна и М. Н. Галкина[52]. Кроме того, Залесов напечатал несколько корреспонденций из Хивы и Бухары в «Военном сборнике»[53]. В приложении к своим запискам Залесов поместил тексты некоторых документов экспедиции. Опубликованные источники в сочетании с документами Архива внешней политики Российской империи и личного фонда Н. П. Игнатьева в Государственном архиве Российской Федерации дают возможность показать роль Игнатьева как руководителя миссии и процесс формирования его как дипломата.
Поручить такую ответственную задачу молодому военному (Игнатьеву было всего 26 лет), не имевшему опыта дипломатической деятельности, было рискованным делом. Но Александр II и Горчаков не ошиблись в выборе. Поддержал кандидатуру Игнатьева и Е. П. Ковалевский.
Как уже говорилось в предыдущей главе, Игнатьев предлагал Горчакову направить в Среднюю Азию «ученые экспедиции», которые наряду с научными целями должны были выполнить разведывательные и политические задачи.
Однако миссия, возглавляемая Игнатьевым, имела официальный дипломатический характер. Для этого был найден подходящий предлог. Миссия отправлялась как ответное посольство.
В 1856 г. Бухара и Хива прислали свои посольства в Петербург с поздравлениями по случаю коронации Александра II. Как писал бухарский эмир, посольство «отправлено для большего скрепления уз, существующих еще со времен предков, и для упрочения взаимных отношений предшествовавших великих царей». Эмир добавлял, что нужно открыть дорогу к дружбе между обоими государствами, «дабы караваны и купцы двух держав приходили и уходили спокойно»[54]. Правитель Бухары предлагал также направить ответные посольства из России. Примерно таким же было и послание хивинского хана.
В декабре 1857 г., когда уже был решен вопрос об отправке экспедиции Игнатьева, бухарскому эмиру было направлено письмо Александра II о скором отправлении ответного посольства и намечены основные проблемы, которые следует урегулировать в отношениях двух государств: оказание покровительства российской торговле, возвращение русских пленных и вообще «устранение поводов к неудовольствию»[55]. Осенью 1857 г. Игнатьев, еще до своего отъезда в Европу, вчерне наметил основные задачи и путь следования миссии. В поданной Горчакову и Ковалевскому специальной записке он предлагал экспедицию Ханыкова и отправку посольства в Хиву и Бухару отложить до весны 1858 г., когда настанут благоприятные погодные условия. Посольство, считал он, более безопасно в политическом отношении и может открыто выполнить ряд топографических и других исследований на территории вплоть до Афганистана (исследование устья и берегов Амударьи до ее верхнего течения). Путь следования он намечал караваном до Арала, затем на судах Аральской флотилии и по Амударье до Чарджоу, откуда опять караваном до Бухары. Возвращение же предполагалось через Самарканд, Ходжент, Ташкент на Сырдарьинскую линию[56]. Таким образом, Игнатьев планировал посетить не только Хиву и Бухару, но и Кокандское ханство. Он не исключал встречи на Амударье с экспедицией Ханыкова, которая через северные районы Персии и Афганистана могла выйти в Коканд. Другой предложенный им вариант состоял в совместном следовании с Ханыковым до Термеза, откуда Ханыков должен был отправиться в Персию и Афганистан. Это предложение поддержал и Ковалевский. Тогда же, 20 октября 1857 г., Игнатьев в обстоятельной записке Ковалевскому изложил свое видение целей экспедиции: в политическом отношении посольство должно установить хорошие отношения с ханствами, добиться регулярных торговых связей. Необходимо было, по его мнению, достигнуть взаимного согласия между среднеазиатскими ханствами и даже заключения оборонительного союза для «пассивного противодействия Англии».
Игнатьев предполагал, что в будущем Россия займет Хиву, поэтому должно стремиться также к заключению оборонительного союза между Персией и Афганистаном и готовиться «к неприязненным действиям против великобританских владений в Индии»[57]. Как видим, мысль о нанесении удара Англии в Индии не оставляла его. Игнатьев предусматривал случай, когда государства Средней Азии будут просить покровительства России, опасаясь английского проникновения в регион. Он полагал, что следует тогда содействовать протекторату Персии над Афганистаном и ханствами и «принять меры для удаления ханами агентов английского правительства». В случае же противодействия агентов «разрешить посольству употребить силу оружия». Оружие можно было применить, по его мнению, и тогда, когда в ханствах будут чиниться препятствия посольству (непропуск флотилии, невыдача пленных). Игнатьев был настроен, таким образом, весьма решительно. Он писал в записке: «Экспедиция должна иметь в виду, кроме подробного исследования пройденного края и составления карт, подготовить средства для учреждения пароходства по р. Амударье, изучить край в военном отношении и составить соображения для занятия в случае надобности устья этой реки и нападения на Хиву и Бухарское ханство и утверждения нашего влияния на Амударье»[58].
Игнатьев подробно указывал в записке состав посольства, куда должны были входить чиновник из МИД со знанием татарского и персидского языков, офицер Генштаба (желательно Обручев или Быковец), топограф, офицер по фортификации, горный инженер (для исследования залежей полезных ископаемых), инженер по строительству каналов и плотин, два врача, приказчик торгового дома Закаспийского торгового общества. Помимо этого посольство должны были сопровождать отряды казаков и стрелков, а на кораблях Аральской флотилии и в фортах на Арале следовало сосредоточить запасы оружия, пушки, топливо, провиант и десант солдат. Особо оговаривалось наличие ракет и ракетных станков. Для перевозки посольства и десанта Игнатьев требовал канонерку, 2 парохода, 2–3 баржи и большое число малых гребных судов. В заключение Игнатьев намечал срок отправки экспедиции из Оренбурга – конец марта – начало апреля 1858 г., с тем чтобы прибыть в Амударью не позднее середины июня, пока река не обмелеет.
Таким образом, истинные цели посольства Игнатьева состояли не только в установлении дипломатических и торговых отношений с Хивой и Бухарой, но в укреплении политического влияния России в Средней Азии и ослаблении там позиций Англии. При необходимости предполагалось и употребление силовых методов.
Для руководства подготовкой экспедиции был создан комитет во главе с великим князем Константином Николаевичем. Было решено не соединять посольство с экспедицией Ханыкова, подготовить к весне Аральскую флотилию под командованием адмирала А. И. Бутакова. Подготовку же состава экспедиции, ее материальной части, военных сил возложить на оренбургского генерал-губернатора А. А. Катенина. Таким образом, Игнатьев, уехавший за границу, непосредственно не участвовал в подготовке посольства, что привело впоследствии к известным трудностям. Как писал Игнатьев позднее в своих воспоминаниях, Бутаков «считал Аральское море и впадающую в него Амударью своим исключительным достоянием, собираясь заведовать всеми изысканиями и стяжать исключительную славу, сопряженную со входом в эту реку первых русских военных судов», а Катенин, человек очень амбициозный, «смотрел на Оренбургскую степь и прилежащие ханства, как на свою вотчину»[59]. Он сам хотел руководить экспедицией, и назначение Игнатьева было ему неприятно. Катенин решил направить к ханствам крупный военный отряд и рассматривал посольство как часть этого отряда. Между тем Игнатьев требовал, чтобы был сохранен чисто дипломатический характер посольства, ибо военный отряд мог напугать хивинцев.
Прибыв в начале марта 1858 г. в Петербург, Игнатьев столкнулся с тем, что все было решено без него. Составом посольства он остался не совсем доволен, установленный срок отправки посольства из Оренбурга был, по его мнению, слишком поздним. Состав военного конвоя уменьшили, а число чиновников и офицеров в посольстве увеличили, и некоторых лиц Игнатьев считал совершенно бесполезными. Аральская флотилия располагала не таким большим количеством судов, на которое он рассчитывал. В ее составе было два железных парохода, построенных в Швеции, – «Перовский» (с 5 пушками) и «Обручев» (с 2 пушками), 3 баркаса и 5 шлюпов, не считая малых гребных судов[60]. В распоряжение посольства не могли быть отданы все суда.
19 апреля 1858 г. Игнатьев получил верительные грамоты и инструкции МИД и Военного министерства и выехал в Оренбург, куда прибыл 1 мая. В полученной им инструкции МИД от 18 апреля основными задачами посольства назывались:
1. Изучение ситуации в Средней Азии.
2. Упрочение влияния России в ханствах.
3. Расширение и улучшение условий русской торговли.
4. Уничтожение влияния англичан.
5. Свободное плавание русских судов по Амударье. «Открытие судоходства на этой реке составляет важнейшее из всех поручаемых вам дел, – говорилось в инструкции. – О достижении его будете стараться всеми возможными средствами»[61].
В устной беседе Ковалевский сказал Игнатьеву, что главная цель экспедиции – исследование Амударьи вплоть до Балха, изучение ее долины для заселения, исследование возможностей развития пароходства и торговли. «Конечной целью наших действий, – добавил он, – искать удобнейший путь в Индию по рекам Сыру и Аму или через Кашгар. Так как на Персию надеяться нам нельзя, то желательно достигнуть самостоятельного пути для будущих действий»[62]. Ковалевский одобрил также мысль Игнатьева о заключении оборонительного союза между Персией, Бухарой и другими независимыми ханами (исключая Коканд и Хиву, враждебно относившихся к России) «с целью, неприязненной против Англии», и полагал, что надо к этому стремиться.
Таким образом, перед посольством ставились главным образом политические цели. Этому соответствовала и другая задача – внушить властям среднеазиатских ханств опасения насчет политики Англии и уверить их в том, что она стремится обратить ханства в колонии по типу Индии. Посольство должно было также вести наблюдение за действиями англичан, в особенности в Бухаре.
Игнатьеву предписывалось в инструкции также добиться прекращения действий Хивы, подстрекающих кочевые племена (туркмен, каракалпаков и др.) нападать на русские караваны и почты, а в Бухаре потребовать возвращения русских пленных. МИД предлагал Игнатьеву не давать положительного ответа бухарскому эмиру, если он обратится за помощью в борьбе против Коканда. В отношении торговли следовало добиться уменьшения пошлин на русские товары (которые достигали до 10 % стоимости товаров, что делало русскую торговлю невыгодной). Пошлины требовалось снизить на 50 % и взимать их не на границе, а в месте продажи с продажной цены. Предлагалось также добиться разрешения на пребывание русского торгового агента в Хиве и Бухаре. Таким образом, уравнивались бы права русских и среднеазиатских купцов. Последние давно уже могли торговать по всей России и иметь постоянные магазины на Макарьевской ярмарке. Их товары (хлопчатобумажные ткани, шелка и др.) облагались гораздо меньшей пошлиной, вывозили же купцы не русские промышленные изделия, а золотую монету, что было также невыгодно для России.
Вопреки предложениям Игнатьева о возможности применения силовых методов инструкция требовала не придавать значения неприязни хивинцев, вести себя с ними осторожно, суда в Амударью вводить также осторожно, чтобы избежать ареста миссии. «Никаких видов на расширение наших владений не имеется», – подчеркивала инструкция. Таким образом, МИД придерживался осторожной политики и не предполагал пока никаких наступательных действий в регионе.
Инструкция Военного министерства предписывала производить сбор топографических, статистических и военных сведений в бассейне Амударьи, данных о путях сообщения в Хиве, Бухаре и из этих ханств в Персию, Афганистан, Коканд и Индию, а также о туркменских племенах и по возможности установить контакты с туркменскими старшинами.
В случае успеха посольства Игнатьеву предлагалось заключить с хивинским ханом и бухарским эмиром официальные акты о дружественных отношениях с Россией, но не в виде договоров, а в виде подписанных правителями статей (условий), предложенных Россией.
Прибыв в Оренбург, Игнатьев вступил в сложные отношения с Катениным. Последний был близок с отцом Игнатьева – П. Н. Игнатьевым. Сама идея посольства в Хиву и Бухару в принципе одобрялась Катениным, но он считал, что в первую очередь надо направить силы против Коканда и, заняв города Ташкент и Туркестан, укрепить Сырдарьинскую оборонительную линию (эта идея была реализована позднее, в середине 60-х гг.). Поэтому Катенин, знакомя Игнатьева с положением в Средней Азии, советовал ему, вопреки инструкции МИД, в случае обращения бухарского эмира, воевавшего с Кокандом, к России за помощью обусловить эту помощь передачей России Ташкента и Туркестана[63].
Катенин хотя и энергично занимался подготовкой посольства, но затянул ее, и выступление пришлось отложить до 15 мая. Состав подобранных им членов посольства также не совсем удовлетворял Игнатьева. Преследуя цели улучшения торговли, посольство оказалось без соответствующих специалистов, и Игнатьеву самому пришлось разыскать торгового агента. В своих воспоминаниях он писал: «Отсутствие подготовленных и образованных коммерческих агентов при посольстве было весьма прискорбно и лишило меня возможности извлечь ту пользу для торговых сношений России с ханствами, какую я предполагал»[64].
Катениным были подобраны переводчики, плохо знавшие персидский язык (дипломатический язык в Хиве и Бухаре). Они владели только татарским языком. По настоянию Игнатьева в состав миссии включили знающего персидский язык драгомана Баньщикова. Не было горного офицера или хотя бы штейгера, нужных для разведки полезных ископаемых. В то же время часть членов посольства была совершенно бесполезна. Игнатьев писал отцу 11 мая 1858 г.: «Орда, меня сопровождающая, приводит меня в отчаяние. Наивны, как малые дети, и помощи от них весьма мало»[65].
15 мая миссия вышла из Оренбурга в составе Игнатьева, секретаря Е. Я. Килевейна, дипломатического чиновника при оренбургском генерал-губернаторе М. Н. Галкина, двух офицеров Генштаба – капитана Салацкого и штабс-капитана Н. Г. Залесова, офицеров-топографов капитана Яковлева и подпоручика Зеленина, лейтенанта флота А. Ф. Можайского (будущего изобретателя первого самолета), астронома Струве, представителя Академии наук востоковеда П. И Лерхе, двух переводчиков, торгового агента и др., всего 27 чел. 14 чел. составляла прислуга, 125 чел. – конвой. Экспедиция располагала 202 лошадьми и 559 верблюдами[66]. В ее распоряжении было 22 повозки, лазаретная фура и полевая кузница. Всем членами миссии полагалась хорошая оплата – от одного до трех рублей в сутки. Запас продовольствия и фуража был сделан на 2 месяца. Для среднеазиатских ханов и их окружения был закуплен большой запас подарков, правда, мало соответствующих вкусам восточных владетелей (органы, люстры, зеркала, шарманки и проч.). Предвидя это, Игнатьев еще в Париже и Лондоне за свой счет купил дорогие пистолеты, гравюры, подарки для гарема и детей.
Чтобы лучше организовать работу многочисленного посольства, Игнатьев четко распределил обязанности между его членами: Залесову было поручено вести дневник посольства, статистику, составлять военно-статистическое описание, Килевейну – журнал дипломатической переписки и заведование казной, Галкину – сношения с пограничными властями и казахскими племенами, а также сбор торговых сведений, Лерхе – сбор этнографических, лингвистических и археологических данных. Впоследствии Игнатьев отмечал, что члены посольства постепенно приобрели необходимые навыки и удовлетворительно справлялись со своими обязанностями. При отъезде к посольству присоединился студент Петербургского университета Зоммер, который по собственному желанию сопровождал его до Арала, занимаясь сбором естественно-научных данных[67].
Генерал-губернатор Катенин с военным отрядом все же решил сопровождать караван, растянувшийся на две версты, но, как вспоминает Игнатьев, с большим трудом удалось уговорить его следовать поодаль и только до устья Эмбы.
Начиная путь, Игнатьев хотя и держался внешне бодро, но в глубине души испытывал неуверенность. Он писал отцу: «Иду даже на полную неудачу с твердою решимостью сделать все человечески возможное, чтобы исполнить волю государя, а об успехе и не думать, предоставив слепо воле Божией и себя самого, и результаты моей поездки. Может быть, назовут меня по возвращении дураком (что, признаюсь, было бы величайшим для меня наказанием) и оклеймят мои усилия – постараюсь безропотно это перенести»[68]. Такие же настроения были характерны и для других членов миссии, которые направлялись в места, «где было дикое варварство и отсутствовало понятие о международном праве», где их могло ожидать столкновение со «среднеазиатскими владетелями, у которых игра в жизнь и смерть человека есть не более как шутка»[69]. Однако все держались мужественно. 31 мая экспедиция достигла устья Эмбы. Здесь состоялась встреча Катенина с туркменским ханом Ата-Мурадом, который просил о русском покровительстве. Это совсем не обрадовало Игнатьева, который опасался, что хивинцы, воюющие с туркменскими племенами, враждебно встретят русское посольство. До них уже дошла весть о большом отряде Катенина, сопровождающем посольство, который был принят за авангард русской армии, идущий на Хиву. Все это впоследствии осложнило положение Игнатьева в Хиве.
Военный опыт очень пригодился Игнатьеву. За более чем месячный переход по степям и пустыням удалось избежать болезней и падежа скота. Этому способствовала рациональная организация переходов. Игнатьев начал движение с небольших переходов, постепенно увеличивая их (с 20 до 40 верст в день). Караван двигался только до полудня, а затем все располагались на отдых и ночлег. У казахов была куплена хорошая корова, и утром и вечером члены миссии пили какао и парное молоко.
Игнатьев следовал верхом впереди конвоя, члены миссии также ехали верхами. При вступлении в степь, где были казахские кочевники и можно было ожидать нападений, Игнатьев отдал приказ о перемещении членов миссии в середину каравана и о вооружении прислуги, находившейся при повозках. На ночлег все повозки выстраивались в каре, внутри которого располагались лошади. В случае тревоги все члены миссии должны были собраться в палатке Игнатьева[70]. Правда, эти меры предосторожности оказались излишними: на караван нападений не было.
12 июня экспедиция достигла берегов Аральского моря (залив Чернышова), где посольство должно было пересесть на пароходы Аральской флотилии «Перовский» и «Обручев». Но их не оказалось в условленном месте, и пришлось отправиться по берегу Арала сухим путем. С пароходом «Перовский» встретились только 18 июня, «Обручев» же должен был подойти позднее к устью Амударьи. Ввиду этого на «Перовский» погрузили лишь подарки и тяжелое оборудование в сопровождении некоторых членов миссии, остальные отправились дальше караваном вдоль Арала по нагорью Усть-Юрт. Место встречи было назначено в заливе Абугир близ устья Амударьи, где к пароходу должна была присоединиться часть других судов флотилии и войти в Амударью.
Первоначально Игнатьев хотел попасть в Хиву через г. Куня-Ургенч, но ввиду боев хивинцев и туркмен в этом регионе решил отправиться в г. Кунград, находившийся в дельте Амударьи. Пароходу было приказано плыть в Кунград, разведав при этом неизвестное побережье Абугирского залива. Посольство же отправилось в Кунград сухим путем в сопровождении хивинского конвоя, высланного навстречу миссии. 28 июня посольство прибыло в Кунград. Встречено оно было кунградскими властями недружелюбно.
Положение в Хивинском и Бухарском ханствах было напряженным. Бухара воевала с Кокандом, Хива – с туркменскими кочевниками, г. Куня-Ургенч и другие города были осаждены отрядами туркменского хана Ата-Мурада, находившегося в связях с Катениным. Это еще больше увеличивало подозрительность хивинцев. Вход русских судов в Амударью был запрещен.
Учитывая политическое положение в Хиве и Бухаре, Игнатьев еще в пути послал несколько писем Ковалевскому, где советовался относительно линии своего поведения. Так, в письме от 24 мая он предполагал в случае отказа ханов от предоставления привилегий русской торговле заявить вообще о прекращении торговых отношений. Что касается возможной просьбы бухарского эмира о помощи в борьбе против Коканда, Игнатьев разделял идею Катенина обусловить эту помощь получением Ташкента. Игнатьев предлагал также обещать хивинскому хану выплачивать 2,5 % пошлины с товаров, перевозимых российскими судами, если он разрешит плавание последних по Амударье[71].
Ответ Горчакова на это письмо, написанный 19 июля и полученный Игнатьевым только 26 сентября (когда последний уже готовился к выезду из Бухары), требовал смягчения позиции в отношении русской торговли (в случае отказа дать ей привилегии не прибегать к явным угрозам, а только намекнуть ханам о возможности отмены преимуществ среднеазиатских купцов в России. Иначе, считал Горчаков, пострадает и наша торговля). Предложение об уплате Хиве 2,5 % пошлины за проходящие русские суда было одобрено Министерством финансов.
Что же касается помощи Бухаре против Коканда, то Горчаков был категорически против: «Не желая, с одной стороны, в настоящее время распространения наших азиатских владений вооруженною рукою и будучи убеждены, с другой, что бухарский эмир не может быть нам надежным союзником, мы не имеем повода к принятию участия в войне его с Кокандом»[72]. Однако прошло несколько лет, и Россия, соединив Сырдарьинскую и Сибирскую укрепленные линии и заняв Ташкент и Туркестан, по сути дела, получила часть Кокандского ханства, против чего так выступал МИД. Горчакову удалось только оттянуть русское наступление, но не предотвратить его.
Еще находясь в пути, Игнатьев узнал о нежелании хивинцев допустить вход русских судов в Амударью. Это ставило под удар одну из главных целей экспедиции – исследование течения реки и водного пути к Афганистану. И хотя комитет по организации экспедиции в Петербурге разрешил ввод судов только с согласия хивинского хана, Игнатьев решил пренебречь этим и ввести пароходы «Перовский» и «Обручев» в Амударью, не дожидаясь официального отказа хана, поставив, таким образом, хивинцев перед фактом.
Из Абугирского залива он направляет письмо хивинскому мехтару (министру иностранных дел), где излагает задачи своей миссии и обосновывает необходимость ведения русских судов в Амударью тем, что, во-первых, они везут громоздкие подарки для ханов, во-вторых, что миссия будет следовать на судах до бухарских владений, так как переход в Бухару по пескам Кызыл-Кума невозможен для большого посольства[73]. Подобное же письмо было направлено кунградскому градоначальнику. Одновременно Игнатьев предписывает Бутакову прибыть в Кунград 25–26 июня ко времени предполагаемого приезда туда миссии; при этом произвести «общее обозрение и возможно подробное исследование фарватера реки», а также сделать топографический очерк прибрежной части Хивинского ханства. Для этого на пароход «Перовский» перегрузить фотографические инструменты и взять фотографа подпоручика Муренкова[74]. На «Перовском», как уже говорилось, находились все подарки ханам, громоздкость и драгоценность которых выставлялась предлогом для перевоза их водным путем. Однако расчет Игнатьева не оправдался. Прибыв в Кунград, он не нашел там пароходов: Бутаков долго не мог в камышах и плавнях найти судоходного рукава реки, а тот, который был отмечен на карте 1848 г., оказался заросшим и обмелевшим. Игнатьев, прождав неделю, решил отправиться в Хиву на предоставленных хивинцами лодках, которые тянули бечевой. Русский конвой поехал на лошадях берегом. Оставаться миссии далее в Кунграде было невозможно из-за враждебного отношения хивинцев. Последние перехватили письма Катенина к туркменским племенам и считали, что туркмены заключили союз с Россией против Хивы. Приветственный пушечный салют в Абугирском заливе, произведенный подошедшими сюда остальными судами Аральской флотилии, был принят в Хиве за начало военных действий. Подозревали, что миссия ожидает пароходы, чтобы захватить Кунград. Хивинский хан стал собирать войско, ожидая нападения.
В своих воспоминаниях Игнатьев обвинял Бутакова в том, что тот «лишил посольство того содействия, на которое рассчитывали в Петербурге при моем отправлении и на котором я основывал все свои соображения»[75]. Однако он признавал заслугу адмирала в том, что тот капитально исследовал устье Амударьи до Кунграда и составил карту дельты реки.
Прибытие пароходов в Кунград было враждебно встречено хивинцами. Простояв в Кунграде несколько дней, пароходы, выгрузив подарки, отправились обратно, ибо началось обмеление реки и Бутаков боялся, что не сможет выйти в Аральское море. Это несколько успокоило хивинцев.
Плавание на лодках оказалось тяжелым. Как вспоминал Н. Г. Залесов, плыли «день и ночь в усиленной испарине, под страшным палящим солнцем, в открытой лодке и притом подвигаясь, как рак», со скоростью 2–3 версты в час, одолевали комары[76]. Другой участник экспедиции, Е. Я. Килевейн, писал, что из-за опасения встречи с туркменами и для сокращения пути плыли по каналам и протокам, и лодки медленно продвигались через камыши. Осматривая берега, участники экспедиции видели, что все селения и города по берегам реки были разорены туркменами, молодые хивинцы угнаны в плен, а в аулах оставались только старики и дети[77].
Несмотря на тяжесть пути, члены посольства тайно от хивинцев производили обмеры реки и топографические съемки берегов. А. Ф. Можайский определил координаты Хивы.
18 июля миссия прибыла в Хиву, где была встречена весьма прохладно. Ее поместили в загородном доме. В течение 10 дней Игнатьев ждал, когда приедет казачий конвой, идущий берегом, и привезут подарки, за которыми хан послал обоз в Кунград. Он хотел предстать пред ханом во всеоружии. 28 июля состоялась первая аудиенция, на которой хану были вручены верительные грамоты и представлены члены посольства. Н. Г. Залесов характеризовал хивинского хана Сеид-Магомета как человека жестокого и подозрительного, держащего придворных в страхе[78]. Подозрительность его усугублялась тем, что два года назад его предшественник был убит во время аудиенции туркменским послом. Игнатьев, находясь под тяжелым впечатлением после приема, вечером того же дня писал отцу: «Унизительно и глупо заставлять русского представителя говорить с такими негодяями, как хивинцы, и считаться с ними на равной ноге. В такие страны посылать посольства не следует, а снаряжать нечто более внушительное»[79]. Члены посольства, опасаясь за свою жизнь, уговаривали его вернуться в Оренбург, тем более что топографическая съемка низовьев Амударьи и изыскательские работы были проведены. Но Игнатьев, хотя и признавал, что поездка в Хиву была слишком рискованной, не хотел пока оставить дело без завершения. Наконец, миссии отвели резиденцию в городе, но члены миссии жили в полной изоляции. Началось томительное ожидание. Несмотря на то что Игнатьев неоднократно заявлял о мирных целях миссии, хивинцы ему не доверяли. В Хиве распускались нелепые слухи о том, что на русских пароходах много оружия, что Катенин выступил в поход на Хиву. Встречаться с Игнатьевым хан отказывался, а его ближайшие министры не смели даже разговаривать с русскими. Членам миссии не разрешалось выходить в город, почта из России не доставлялась. В письме к Е. П. Ковалевскому от 20 августа 1858 г. Игнатьев писал, что «в народе ходили самые нелепые слухи о действиях русских, и всякий проходящий хивинец считал обязанностью ругать нас и рассыпать угрозы, напоминая о судьбе Бековича»[80]. Тяжелое положение посольства поколебало намерение Игнатьева продолжать экспедицию. Он был уверен, что и в Бухаре встретит подобный прием. В направленной им в МИД записке он выражал сомнения в успешности поездки в Бухару и предлагал весной следующего года послать в Бухару четыре судна, а пока вернуться в Оренбург. Разрешение МИД на возвращение миссии было дано, но дошло до Игнатьева с большим опозданием, когда он был уже в Бухаре.
Однако положение постепенно менялось. Хану понравились подарки. Вскоре он убедился и в нелепости распускаемых слухов. Членам миссии было дано разрешение выходить в город. Доставили почту. Было очевидно, что хан все-таки не хотел ссориться с могущественным соседом.
2 августа состоялась вторая аудиенция хана, на которой Игнатьев передал ему «Обязательный акт» с условиями русско-хивинского соглашения, предложенными Россией. Проект акта был написан Игнатьевым и утвержден МИД. В шести статьях акта Хиве предлагалось дать обязательство не предпринимать враждебных действий против России, не настраивать против нее туркменские, казахские и каракалпакские племена, обеспечить безопасность русских торговых караванов и имущества российских подданных в Хиве. В ответ Россия отказывалась требовать возмещения убытков, понесенных при грабежах русских караванов в прошлом. Хивинским купцам были обещаны преимущества, данные ранее купцам других азиатских стран. Разрешалось постоянное пребывание в Оренбурге хивинского торгового агента. В свою очередь, предлагалось пребывание в Хиве русского торгового агента и устройство караван-сарая. Товары из России должны были облагаться 2,5 %-ной пошлиной с продажной цены, взимаемой один раз при ввозе их в Хиву.
Особый пункт содержал требование свободного плавания русских судов по Амударье, причем хан мог брать 2,5 %-ную пошлину в свою пользу с перевозимых пароходами товаров.
Хивинским подданным, женившимся в России на мусульманках, разрешалось вывозить свои семьи в Хиву в случае согласия последних[81].
Хану предлагалось подписать эти условия.
Переговоры шли медленно. В итоге Игнатьеву удалось убедить хана принять почти все условия. Он даже превысил требования «Обязательного акта» об оценке привозимых из России товаров, договорившись, что она будет производиться не при их ввозе, а после продажи. Товары, посланные с караваном миссии одним из оренбургских торговых домов, были быстро распроданы в Хиве по этим правилам, и 2,5 %-ная пошлина с них составила 105 червонцев, в то время как по старым правилам надо было уплатить 520 червонцев. «Ежели бы нам удалось добиться чего-либо подобного в Бухаре, то первенство наше на среднеазиатских рынках и уничтожение перевеса торговцев магометанского вероисповедания над природными русскими было бы почти обеспечено», – писал Игнатьев Ковалевскому[82].
Однако допустить плавание русских судов по Амударье хан решительно отказался. Этого не хотели хивинские купцы, страшась конкуренции, но главное заключалось в опасении, что допуск русских судов преследует цель завоевания ханства. В 1858 г. Россия таких целей еще не ставила, но Игнатьев предполагал их в перспективе. В письме к Ковалевскому от 20 августа 1858 г. он замечал: «Нам рано или поздно придется занять устье р. Аму и построить там укрепления для облегчения плавания наших судов»[83].
МИД возражал против применения силы. Ковалевский предупреждал Игнатьева: «Сделайте, что можете сделать, но только не войну. Легко ее начать, да нелегко вести»[84].
Хивинцы, опасаясь, что русские суда войдут в реку, стали принимать меры к постройке крепости в устье и прорытию каналов для обмеления Аму. Одновременно хан предъявил Игнатьеву требование о возвращении кочевавших в российских владениях каракалпаков и установлении границы с Россией по Сырдарье. От обсуждения этих вопросов Игнатьев уклонился, ссылаясь на неимение полномочий.
Встречные требования хана возмутили Игнатьева. Он заявил, что Россия может ввести суда в Амударью и без разрешения хивинцев. (Еще раньше, предвидя отказ хивинцев, он писал отцу, что с величайшим удовольствием весной следующего года возглавил бы экспедицию по занятию низовьев Амударьи и прошел по ее течению к индийской границе[85]). Это было отступлением от инструкции МИД, которая требовала введения судов только с разрешения хана. Настойчивость и твердость Игнатьева, его убеждения в преимуществах дружбы с Россией подействовали было на хана, который, как показалось Игнатьеву, уже готов был согласиться на пропуск судов. Однако в это время до хана дошли известия о промерах и топографических съемках реки, сделанных русскими. Кроме того, ему не понравилась просьба Игнатьева отпустить пленных персидских солдат (о чем ходатайствовал перед Россией персидский шах): персидские пленники являлись рабочей силой, на которой строилось все благополучие Хивы. На 500 тыс. чел. коренного населения в ханстве было 200 тыс. рабов. Масла в огонь подлило известие о том, что в Кунграде на русском пароходе укрылся беглый персидский пленник, которого Бутаков решительно отказался выдать. Все это вкупе с требованиями владетелей Бухары и Коканда, которые, по словам хивинского хана, не разрешали ввод русских судов в Амударью, привело к твердому отказу последнего пропускать суда. Игнатьев понял, что дело проиграно. Чтобы соблюсти приличия и показать, что он покидает Хиву без злобы, посланник 23 августа устроил в резиденции посольства прием для важнейших сановников Хивы. Гости получили подарки, а кроме того, унесли в рукавах своих халатов многие предметы из дорогого сервиза, который Игнатьев вез с собой.
24 августа хан дал прощальную аудиенцию посланнику. Опасаясь за свою жизнь, Игнатьев поехал во дворец с двумя казаками, а конвою приказал готовиться к отражению нападения. Перед дворцом для устрашения посланника были посажены на кол два человека.
Хан заявил, что условием ввода судов в Амударью будет признание за Хивой территорий до Сырдарьи, Эмбы и Мерва. Это означало, что Хива претендует на уже освоенную русскими часть земель по Сырдарье и Эмбе, а также на владения туркменских племен. После отказа Игнатьева ему посоветовали быть сговорчивее, ибо он находится во власти хана. «Я ответил, – писал в своих воспоминаниях Игнатьев, – что у государя много полковников и что пропажа одного не произведет беды. Задержать же меня нельзя. Я вынул пистолет и пригрозил убить всякого, кто ко мне подойдет. Хан испугался, и я вышел»[86].
Наутро посланный от хана привез ответ на русские условия в запечатанном конверте на имя Александра II. Хан прислал также подарки для царя – богатый ковер и двух скакунов. Копии ответа Игнатьев не получил, но ему объяснили, что в нем хан ставил условием своего согласия на плавание русских судов признание границы с Россией по Сырдарье и Эмбе. Хивинцы прекрасно понимали невозможность этого, но такое требование давало им основание к отказу фактически допустить русских в свои владения.
28 августа 1858 г. посольство отправилось в Бухару. Перед отъездом Игнатьев написал обширное письмо Ковалевскому, где излагал причины неудачи миссии. Он указывал и на воинственность Катенина, и на нерасторопность адмирала Бутакова, и на поломанные в пути подарки. Но главное, по его мнению, заключалось в том, что хивинцы «ослеплены верой в свою недосягаемость», поэтому всякие переговоры с ними бесполезны. Игнатьев сообщал также, что Хива собирается направить в Петербург свое посольство для переговоров о границе и о направлении русских мастеровых и механиков для обучения ремеслам и даже постройки парохода, но советовал не пускать это посольство дальше Оренбурга, пока не будет письменного согласия хана на все русские условия[87]. Посольства из Средней Азии для России невыгодны, добавлял он, так же, как и бесполезны временные миссии. Одновременно Игнатьев отправил письмо Бутакову, где просил до 15 сентября пробыть в устье Амударьи и скрытно от хивинцев производить промеры и съемки[88].
Хивинский хан скрепя сердце отпустил посольство в Бухару. Он неоднократно предлагал миссии вернуться в Оренбург или по крайней мере в форт № 1 на Арале. В Хиве распускались слухи, что туркменские кочевники собираются ограбить караван миссии по пути в Бухару. Залесов писал перед отъездом: «Мы каждый день получаем сведения, что на ханских советах трактуют, как бы от нас отделаться: одни предлагают отравить, другие поджечь, а третьи, чтобы снять ответственность с хана, советуют нанять шайку туркмен, которая передушила бы нас где-нибудь по дороге из Хивы»[89].
Путь в Бухару пролегал частично по берегу Амударьи до г. Чарджоу, откуда надо было следовать на северо-восток до Бухары по пескам и где действительно орудовали разбойничьи шайки, грабящие караваны.
Игнатьев был в крайне подавленном состоянии. Залесов свидетельствовал, что он «немало перенес за это время тяжелых ударов и даже огорчений и уходил из Хивы, не подписав трактат. Но сожалеть ли об этом? И к чему бы повел этот трактат, если б он не был поддержан с нашей стороны силой? Доказанное уже дело, что среднеазиаты никаких трактатов не исполняют, если за трактатом не стоит угроза, которая во всякую минуту может быть приведена в исполнение»[90]. Как и Игнатьев, Залесов считал среднеазиатских владетелей коварными и вероломными, признававшими только силу и не имевшими никаких понятий о нормах международного права. Это было недалеко от истины, как и мысль о бесполезности временных посольств и договоров. История русских посольств в Хиву и Бухару в 30–40-е гг. XIX в. подтверждала, что все договоренности, которые были заключены с ханствами посольствами А. П. Бутенева и Данилевского, не выполнялись. Ханы видели в русских угрозу своей власти, которая постепенно надвигалась с севера на их владения. Русские власти распространяли свое влияние на подвластные среднеазиатским ханствам кочевые племена и также нарушали договоры. Если в 1842 г. во время приезда в Хиву миссии Данилевского граница с Хивой была установлена по Сырдарье, то к моменту миссии Игнатьева русские уже были на р. Янадарья, находящейся к югу от границы (ныне Жана-Дарья).
Караван миссии, отправившийся в Бухару, состоял из 170 верблюдов. К нему примкнули еще два торговых каравана по 50 верблюдов каждый. Путь шел по левому, нагорному, берегу Амударьи. До бухарских владений миссию сопровождал хивинский конвой. По дороге продолжали делать съемки берегов реки. При отъезде из Хивы Игнатьев послал письмо бухарскому везирю Мирзе-Азису (сам эмир находился в войсках, так как Бухара воевала с Кокандом). Он сообщал о своем пребывании в Хиве и постарался представить действия хивинцев таким образом, чтобы восстановить против них эмира (например, писал о том, что хивинцы свой отказ пропустить русские суда объясняли давлением на них Бухары). Игнатьев не погрешил против истины, но полагал, что акцент на подобные факты осложнит и без того не очень приязненные отношения между двумя владетелями. Этот дипломатический прием впоследствии вошел в арсенал средств, которыми оперировал Игнатьев-дипломат, и дал основания обвинять его в коварстве и хитрости. Однако иногда он срабатывал безошибочно.
Когда караван перешел на правый берег Амударьи, Игнатьев получил письмо из МИД, разрешавшее ему вернуться, но, как он писал в своих воспоминаниях, не воспользовался им, «опасаясь обвинений в трусости и неудаче»[91].
В составе конвоя многие казаки болели лихорадкой, один из них умер. Не обошла лихорадка и некоторых членов миссии. Заболевшего астронома Струве пришлось отправить к Бутакову на пароход в устье Амударьи. Больных везли в повозках. Игнатьев всячески поддерживал бодрость духа конвоя и членов миссии, заставлял песенников петь песни, шутил и балагурил. В одну из ночей караван подвергся нападению туркмен, но их разогнали выстрелами сигнальных ракет. Это ободряюще подействовало на всех, болезнь неожиданно прекратилась. «Доктор был очень смущен неожиданным для него результатом нравственно-нервного лечения», – писал Игнатьев. Однако об инциденте распространились преувеличенные слухи, а в Петербурге уже говорили о смерти Игнатьева[92]. Чтобы отразить нападения, Игнатьев распорядился перестроить караван: верблюды шли не одной, а четырьмя колоннами, ночами становились в каре, внутри которого помещались лошади. Конвой также ехал сомкнутым строем.
В г. Каракуле недалеко от Бухары караван был встречен почетным бухарским конвоем и 22 сентября торжественно вступил в Бухару при огромном стечении народа. Игнатьев, зная, что пышность и торжественность имеют большое значение в Азии, постарался как можно более эффектно обставить въезд посольства в город: полицейские шестами расчищали дорогу от толпы, впереди шествовал конвой из 12 казаков, затем 8 бухарских советников, Игнатьев на рослом коне и члены посольства в мундирах, завершали шествие 10 казаков в высоких шапках и 12 драгун. Все это произвело впечатление на бухарцев.
Вот как описывал въезд в Бухару Залесов: «Справа и слева около нас бежало множество блюстителей порядка с длинными белыми палками. Но ни эти последние, ни те, которые ехали верхом, решительно не могли удержать в порядке народ, который давил нас с боков, напирая с тыла, и совершенно заграждал путь, переливаясь, как волна, с одной улицы на другую. Спотыкаясь и падая в песок, любопытные, кроме того, целыми кучами сталкивались в канавы, придавливались к заборам и получали ловкие удары в спину, в шею и преимущественно в бритую голову. Но ничего не помогало, и правоверный, только лишь побывавший в песке или луже и с помощью полицейских украсивший свою физиономию волдырями, через несколько минут опять проталкивался к поезду и бежал около него с самым веселым лицом»[93]. Без сомнения, эта картина наполняла радостью сердце Игнатьева. Впечатление от приезда посольства могущественного северного царя было колоссальным и надолго запомнилось жителям Бухары. В своей дальнейшей дипломатической деятельности Игнатьев нередко прибегал к таким эффектным выездам, считая, что этого требует престиж России.
В Бухаре посольство встретило совершенно иной прием, чем в Хиве. Так как эмир отсутствовал, то Игнатьев сейчас же начал переговоры с везирем Мирзой-Азисом, который фактически управлял делами ханства. Из уважения к российскому посланнику везирь вел переговоры на европейский лад, то есть сидел на стуле, а не на ковре. Предложения русской стороны мало чем отличались от тех, которые были представлены Хиве: уменьшение на 50 % торговых пошлин и справедливая оценка товаров, допуск временного торгового агента и устройство караван-сарая для русских купцов, освобождение русских пленных, наконец, разрешение плавания русских судов по Амударье. Относительно торговых вопросов в целом везирь не возражал. Со своей стороны он просил взимать в Оренбурге с бухарских торговцев 5 %-ную пошлину. Но эта просьба была Игнатьевым отклонена под благовидным предлогом. Он даже умолчал о тех уступках в торговых делах, которые предписывала ему инструкция МИД.
Затем продолжались переговоры с эмиром Насруллой, который вернулся в Бухару 11 октября. Эмир согласился возвратить пленных. Однако не все из них хотели вернуться в Россию. Многие пленные приняли ислам, женились, и их оставили в Бухаре, объявив, что они находятся под покровительством эмира как русские подданные. Согласились вернуться на родину лишь 11 человек, но Игнатьев считал, что важно было принятие эмиром принципиального решения о возвращении пленных. Эмир дал согласие и на установление 5 %-ной пошлины с товаров, ввозимых из России, и на устройство караван-сарая, и на пребывание торгового агента, и даже на свободное плавание русских судов по Амударье, а в случае сопротивления этому хивинцев обещал совместно с русскими властями предпринять меры для ликвидации препятствий.
Одной из главных тем переговоров был вопрос об английских происках в Средней Азии. Еще от везиря Игнатьев узнал о том, что в Бухару прибыли два англичанина, выдающие себя за афганских купцов, а трое проживали в городе под видом индийцев. Об этом он шифром донес Катенину и в Военное министерство. «Делаю бухарцам надлежащие внушения относительно действий англичан в Азии», – сообщал посланник[94]. 16 октября он докладывал Катенину об успешных переговорах с эмиром и добавлял: «Английскому агенту здесь не удается, и он уже собирается ехать обратно в Кабул»[95]. Еще находясь в Хиве, Игнатьев узнал, что несколько англичан обучают в Коканде артиллерийскую команду. В Бухаре эти сведения подтвердились показаниями пленных русских солдат. В Бухаре опасались англичан, стремящихся к проникновению в ханство, преследуя экономические и стратегические цели. Кроме того, Англия поддерживала афганское продвижение в Южном Туркестане, что не могло не беспокоить бухарского владетеля. Поэтому он сочувственно прислушивался к рассказам Игнатьева о действиях англичан в Индии и Китае и о грозящих Бухаре опасностях в случае английской экспансии. В Бухаре симпатизировали восставшим сипаям и выражали недоверие афганскому эмиру Дост-Мухаммеду, как ставленнику англичан. Эмир Насрулла заявил Игнатьеву, что не будет принимать английских посланцев и посоветует Дост-Мухаммеду также не пускать их в Афганистан[96].
Такая позиция эмира объяснялась в том числе его надеждой на помощь России в борьбе с Кокандом и Хивой. Эмир даже предложил заключить союз против Хивы и разделить территорию ханства между Бухарой и Россией. Игнатьев благоразумно заявил, что не уполномочен входить в такие переговоры, хотя и намекнул, что в случае неприязненных действий Хивы против России последняя может занять устье Амударьи и Кунград. Здесь посланник явно вышел за рамки своих полномочий.
16 октября 1858 г. Игнатьев писал Ковалевскому: «Нам, по-видимому, удалось поссорить хивинцев с эмиром, и он не прочь поделить с нами Хивинское ханство, если оно воспротивится свободному плаванию по Аму. Нам можно было бы взять устья и Кунград, подчинив себе каракалпаков, киргиз[97] и туркмен»[98]. Вообще Игнатьев больше склонялся к мнению военных, предпочитавших действовать силовыми методами в среднеазиатском вопросе, чем к осторожной позиции МИД. Да он пока и состоял на военной службе. Без сомнения, Игнатьев уже начинал формироваться как дипломат, но пока это сказывалось больше в методах его действий, чем во взглядах.
В ходе переговоров Игнатьев предложил эмиру отправить вместе с русским посольством при его возвращении в Россию посла, который мог бы вернуться весной уже на пароходе. Согласие эмира было получено. Договорились также о пробной перевозке товаров на пароходе, о сооружении пристани и закупках для пароходов угля.
Эмир всячески подчеркивал свое внимание к миссии. Члены ее свободно разгуливали по городу в европейском платье, их хорошо кормили. Жили они во дворце. Эмир прислал множество подарков: Игнатьев получил арабского скакуна (при приезде в Россию он подарил его наследнику цесаревичу Николаю Александровичу), кашемировую шаль, богатый халат. Все офицеры миссии получили шелковые халаты, а солдаты и казаки – хлопчатобумажные. Императору Александру II эмир послал в подарок слона.
В свою очередь, эмиру были переданы подарки – оружие, часы, подзорная труба. Больше всего ему понравились гравюры, которые Игнатьев преподнес от себя.
30 октября эмир вручил Игнатьеву грамоту Александру II и письмо к Горчакову, где подтверждалось его согласие с предложениями России, а 31 октября миссия выехала из Бухары в сопровождении нового бухарского посланника Наджмеддина-Ходжи. Обратный путь лежал через пустыню Кызыл-Кум. Так как надвигалась поздняя осень, всем казакам была куплена теплая одежда и сапоги. Приобрели новых верблюдов, запасы воды, спирта, продуктов. Н. Г. Залесов сообщал в своих воспоминаниях: «Игнатьев весел и доволен, он получил от эмира все, что желал, даже, может быть, более, чем ожидал. Остальное – дело правительства»[99].
Однако члены миссии покидали Бухару не с таким радостным ощущением. Бухара произвела на них неприятное впечатление. Город утопал в грязи, при дворе царили лесть и самообольщение, за малейшие проступки эмир вспарывал животы своим подданным. «Везде муллы и медресе, и это главная причина застоя», – отмечал Залесов[100].
В существующей литературе обычно говорится о заключении Игнатьевым договора с Бухарой. Однако договора подписано не было. Эмир поставил свою подпись на документе, где перечислялись условия России. Сам Игнатьев писал отцу 30 октября 1858 г., что он не заключил формального договора, так как не мог обещать выполнение требований бухарцев (состоявших главным образом в предоставлении различных торговых льгот бухарским купцам в России). «Я вообще того мнения, что мы уже слишком много делаем уступок и льгот всем иностранцам за счет собственных интересов, чтобы еще делать таковые диким среднеазиатским ханам, которые по милости нашей нравственной слабости и снисходительности смеют относиться к нам на каких-то правах равенства», – писал он. Посланник даже не сделал тех уступок, которые были разрешены МИД. В этом сказалось имперское сознание, присущее Игнатьеву. Он гордился тем, что «отличия, мне здесь оказанные, беспримерны в летописях сношений Бухары с европейцами… Я исполнил свой долг неукоснительно и в этих варварских странах не уронил достоинства нашего дорогого и великого отечества»[101]. Как видим, тщеславие и честолюбие Игнатьева совмещались с его патриотическими чувствами, верностью долгу и сознанием величия своей родины, интересы России всегда были у него на первом месте. Однако эти интересы понимались им только как усиление могущества России, в том числе за счет южных соседей. Он считал нормальным неравноправные отношения с народами, еще не приобщенными к европейской цивилизации, что было характерно для большинства политиков и дипломатов того времени.
Обратный путь длился больше месяца. Дорога пролегала большей частью через пески. В пути Игнатьев сдружился со слоном, иногда и ехал на нем. Он кормил слона на привалах, а тот, увидев Игнатьева, всегда кланялся ему и приветствовал ревом. Когда повозки и орудия отряда М. Г. Черняева, встретившего караван у р. Янадарьи, завязали в песках, слон охотно вытаскивал их. 23 ноября 1858 г. караван прибыл к русской границе в форт № 1 на Сырдарье. Здесь была уже глубокая зима. Реку пришлось переходить по льду. Слона и арабских скакунов, полученных в подарок, на зиму оставили в форте с тем, чтобы весной довести их до Самары, а далее по Волге до Твери.
В форте Игнатьев получил повеление Александра II покинуть караван и ехать в Петербург, так как ему давалось новое важное задание – отправиться в Китай. Сдав все документы и оставшиеся деньги (сэкономлено было 25,6 тыс. руб.), Игнатьев оставил миссию на Килевейна, а сам с Залесовым и своими лакеем и поваром отправился налегке в Оренбург. При отъезде Игнатьев собрал всех членов миссии и конвой и обратился к ним с теплыми словами. Он благодарил их за добросовестную службу в течение семи месяцев, за безропотное преодоление трудностей и лишений. Игнатьев подчеркнул, что ни в Хиве, ни в Бухаре не было ни одной жалобы от местных властей и населения на поведение конвоя, сохранявшего к тому же при всех трудностях веселость и бодрый дух. Казаки и солдаты «сохраняли молодецкий вид, достойно представляя русское воинство»[102]. Особые слова благодарности Игнатьев обратил к офицерам, выполнившим громадную работу изыскательского плана в труднейших условиях. Все солдаты и казаки получили от него денежные награды.
Вообще Игнатьев и во время службы в войсках, и в период дипломатической работы всегда тепло относился к солдатам, прислуге и конвою. Он заботился об их питании, одежде, никогда не применял рукоприкладства, был справедлив, но требователен. Благодаря этому он добивался исключительной дисциплины. Каждый подчиненный твердо знал свои обязанности и четко их выполнял. Неразбериха и разгильдяйство были исключены. Характерно, что во время пути и пребывания в Хиве и Бухаре миссия потеряла только одного казака, умершего от лихорадки, и 5 лошадей, а действовала она в труднейших бытовых и климатических условиях.
Возвращение в Оренбург не обошлось без приключений. Ехали в повозке в сопровождении трех верблюдов и двух вожаков-казахов, указывавших дорогу в снежной степи. По пути попали в буран и сбились с дороги. Провожатые, заявив, что «сам шайтан не найдет теперь никакой дороги», скрылись. Путешественники провели бессонную ночь и сильно обморозили руки и лица. Мороз достигал 20° при пронзительном ветре. К счастью, сбежавшие провожатые наткнулись на кочевавший аул и наутро вернулись со свежими верблюдами[103]. 6 декабря Игнатьев прибыл в Оренбург, где его считали уже погибшим. Здесь не обошлось без споров с Катениным. И Игнатьев, и Катенин сходились на том, что надо предпринимать наступательные действия в Средней Азии. Но Игнатьев считал, что весной следует начать экспедицию против Хивы и отсюда уже осваивать водный путь по Амударье к Афганистану и Индии. Катенин же хотел развивать наступление на кокандские крепости Джулек и Туркестан, с тем чтобы удлинить Сырдарьинскую укрепленную линию и угрожать Коканду.
По приезде в Петербург Игнатьев был принят Александром II и доложил ему о результатах миссии. Несмотря на неудачу в Хиве, они были впечатляющими. Достигнуто соглашение с Бухарой, что было важно для укрепления авторитета России среди племен и народов Средней Азии. Это обстоятельство оценил Горчаков, указав в отчете МИД за 1858 г., что в Бухаре, сильнейшем из среднеазиатских ханств, «мы успели утвердить наше влияние на основаниях, которые, по крайней мере, в настоящую минуту кажутся прочными»[104].
Важнейшим итогом экспедиции явилось исследование устья и течения Амударьи до Чарджоу, что составляло примерно 600 верст вверх по реке. Основные изыскания были проведены А. И. Бутаковым и А. Ф. Можайским. Было доказано, что на исследованном участке возможно плавание пароходов.
Посольство добилось более благоприятных условий для российской торговли с Бухарой. В отчете МИД за 1860 г. Горчаков констатировал, что с Бухарой установились хорошие отношения, развивается торговля. «Московские дома продолжали с успехом свои обороты и с некоторого времени стали отправлять русские произведения в Бухару, где оные весьма выгодно сбываются»[105].
Русское правительство получило ценную информацию о политическом и экономическом положении ханств. Так, Игнатьев составил обширную записку о Хивинском ханстве, где содержались сведения о населении, характере правления, правящей верхушке, духовенстве. Подробно сообщалось о состоянии армии (роды войск, командование, финансирование), финансовом состоянии ханства, порядке землепользования, сельскохозяйственных культурах, состоянии скотоводства. Особое внимание Игнатьев обратил на положение торговли. Отмечая полное отсутствие русских предприимчивых купцов, торгующих с Хивой, он рисовал заманчивые перспективы взаимовыгодной торговли: «Без торговли с Россией хивинцы обойтись не могут. Все необходимые товары, как-то: железо, сталь, чугун, медь, юфть, сукна, ситцы, миткаль, коленкор, чалмы, нанка, трико, бумага, сахар и пр. они получают из России»[106]. Игнатьев делал вывод, что следует обратить внимание на вывоз таких товаров из Хивы, как мясо, овчина, верблюжья шерсть, кунжутное масло, а также через Хиву получать афганские товары – пряности, мумие и др. Посланник отмечал, что английский текстиль, продающийся в ханстве, значительно уступает русскому.
Игнатьев считал, что Россия должна усилить свои позиции в ханствах. Эту мысль он всячески подчеркивал в докладе Александру II о результатах работы миссии. На тексте доклада царь наложил резолюцию: «Читал с большим любопытством и удовольствием. Надобно отдать справедливость генерал-майору Игнатьеву, что он действовал умно и ловко и большего достиг, чем мы могли ожидать»[107].
Экспедиция сыграла большую роль в жизни самого Игнатьева. Он был награжден орденом Св. Анны 2-й степени с короной и получил чин генерал-майора. За ним закрепилась репутация энергичного, настойчивого и бесстрашного человека, хорошего организатора и дипломата, что в дальнейшем повлияло на его карьеру.
Определились и взгляды Игнатьева на политику России в Средней Азии. Он считал, что благодаря экспедиции «рассеялся туман, заслонявший ханства от глаз русского правительства, которое, наконец, прозрело и узнало настоящую цену “дипломатических отношений” с хивинскими ханами и Бухарой»[108]. Это означало, что необходим поворот политики в сторону силовых методов, ибо соглашениям с азиатскими правителями верить нельзя.
Посольство, благодаря многочисленности и разносторонности участников, гораздо глубже оценило обстановку в ханствах, чем предшествующие миссии, показало экономическую и военную отсталость ханств, междоусобные раздоры. Это позволяло рассчитывать на эффективность военных мер. Тем более что были получены весомые доказательства проникновения в ханства англичан.
При свидании с Александром II в Петербурге Игнатьев получил поручение составить программу действий России в Средней Азии. 5 января 1859 г. такая программа была им представлена в Азиатский департамент МИД. Она включала 14 пунктов и предусматривала поддержание миролюбивых отношений с бухарским эмиром, предотвращение вмешательства англичан в среднеазиатские дела, развитие торговли со Средней Азией. Намечался ряд мероприятий против Хивы, в том числе поддержание внутренних раздоров в ханстве, междоусобной вражды с Бухарой, стремления казахских и каракалпакских племен, кочующих в северных владениях Хивы, отделиться от нее и перейти в российское подданство. Программа предполагала организацию судоходства по Амударье и устройство там укрепленных станций для русской флотилии. Низовья реки должны были быть весной 1860 г. заняты русскими, как и г. Кунград, где учреждалось русское управление. С целью ослабить Кокандское ханство предлагалось поддерживать стремление к отделению от него Ташкента и Туркестана, которые должны были стать независимыми территориями. Для ограждения торговых караванов намечалось строительство укреплений на Янадарье. Наконец, планировалось занять юго-восточный берег Каспия и подчинить влиянию России туркменские племена, но делать это осторожно, чтобы не осложнить отношения с Персией[109].
При сопротивлении хивинцев этим действиям Игнатьев предлагал «употребить» силу, для чего на пароходах Аральской флотилии должен был быть стрелковый десант. Также в будущем (в 1861 г.) предполагалось присоединить Ташкент и Туркестан к России и соединить Сырдарьинскую и Сибирскую линии.
Таким образом программа Игнатьева соединяла его собственный план и план Катенина. Но последний должен был быть реализован позже, чем план Игнатьева.
Участия в обсуждении своей программы Игнатьев не принимал, так как в марте 1859 г. уехал в Китай. В своих воспоминаниях он сетовал на то, что программа выполнена не была, и винил в этом Катенина, выступавшего против действий России на Амударье. Представляется, что немалую роль в отношении программы сыграл также и МИД, который всегда призывал к осторожности в среднеазиатском вопросе, тем более что весной 1859 г. создалась взрывоопасная обстановка в Европе: осложнение франко-итало-австрийских отношений могло привести к европейской войне. В отчете МИД за 1858 г. (а годовые отчеты Горчаков представлял всегда весной следующего года) перечислен ряд предполагаемых действий в Средней Азии, в том числе усиление Аральской флотилии и постройка укреплений на Янадарье с целью защиты торговых караванов и казахов-земледельцев, которых правительство старалось приучить к оседлости и хлебопашеству[110]. Намечалось также с целью защиты от нападений кокандцев создать укрепленную линию в Западной степи и построить укрепление Пишпек. Предложение Катенина об овладении городами Туркестаном и Ташкентом пока было признано несвоевременным.
Так что программа Игнатьева была отклонена по инициативе МИД, опасавшегося вступления России в военный конфликт в Средней Азии.
В отчете МИД за 1859 г. сообщалось о попытке А. И. Бутакова попасть в Хиву водным путем, но вход в Амударью оказался занесен песком. «Пароходство проблематично», – констатировал отчет[111].
План Игнатьева был частично реализован гораздо позже – во второй половине 60-х – первой половине 70-х гг., когда развернулось наступление российских войск в Средней Азии.
47
История внешней политики России. Вторая половина XIX века. М., 1997. С. 88.
48
АВПРИ. Ф. 137 (Отчеты МИД). Оп. 475. Д. 40. Л. 262 об.
49
Там же. Л. 270.
50
Жуковский С. В. Сношения России с Бухарой и Хивой за последнее трехсотлетие. Пг., 1915. С. 113–114.
51
Жуковский С. В. Указ. соч.; Халфин Н. А. Три русские миссии. Ташкент, 1956; Он же. Присоединение Средней Азии к России. М., 1965; Киняпина Н. С., Блиев М. М., Дегоев В. В. Кавказ и Средняя Азия во внешней политике России. М., 1984.
52
Игнатьев Н. П. Миссия в Хиву и Бухару в 1858 году флигель-адъютанта полковника Н. Игнатьева. СПб., 1897; Залесов Н. Г. Записки // Русская старина. 1903. № 4, 7; Он же. Посольство в Хиву и Бухару полковника Игнатьева в 1858 г. // Русский вестник. 1871. № 2–3; Килевейн Е. Отрывок из путешествия в Хиву и некоторые подробности о ханстве во время правления Сеид-Мохаммед-хана. 1856–1860 // Этнографический сборник. СПб., 1862. Вып. 5; Галкин М. Н. Выдержки из дневника следования в 1858 г. из Оренбурга в Хиву киргизской степью и Амударьею // Галкин М. Н. Этнографические и исторические материалы по Средней Азии и Оренбургскому краю. СПб., 1868.
53
Залесов Н. Г. Письмо из степи // Военный сборник. 1858. № 8; Он же. Письмо из Бухары // Там же. 1860. № 4; Он же. Письмо из Хивы // Там же. 1859. № 1.
54
Залесов Н. Г. Посольство в Хиву и Бухару… // Русский вестник. 1871. № 2. С. 450. Письмо бухарского эмира Александру II.
55
Там же.
56
ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 303. Л. 1–4.
57
ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 287. Л. 12.
58
Там же.
59
Игнатьев Н. П. Миссия в Хиву и Бухару… С. 6.
60
ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 285. Л. 1. Рапорт А. И. Бутакова от 1 декабря 1856 г. в Морское министерство.
61
Цит. по: Халфин Н. А. Три русские миссии… С. 43.
62
Игнатьев Н. П. Миссия в Хиву и Бухару… С. 30, 32.
63
ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 288. Л. 1–4. Пояснительная записка А. А. Катенина к инструкции МИД Н. П. Игнатьеву.
64
Игнатьев Н. П. Миссия в Хиву и Бухару… С. 19.
65
ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 4484. Л. 223.
66
Игнатьев Н. П. Миссия в Хиву и Бухару… С. 35. Н. А. Халфин дает другие цифры: членов экспедиции вместе с конвоем было 80 чел., а вместе с обозом 190. См.: Халфин Н. А. Три русские миссии… С. 47.
67
ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 2188. Л. 1.
68
Там же. Д. 4484. Л. 224. Письмо без даты. Место – Бивак на р. Бердянке.
69
Залесов Н. Г. Посольство в Хиву и Бухару… // Русский вестник. 1871. № 2. С. 431.
70
ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 289. Л. 1. Приказ Н. П. Игнатьева о порядке следования от 3 июня 1858 г.
71
ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 289. Л. 6–8. См. также: Игнатьев Н. П. Миссия в Хиву и Бухару… С. 57–60; Залесов Н. Г. Посольство в Хиву и Бухару… // Русский вестник. 1871.№ 2. С. 457–460.
72
Там же. Л. 39; Залесов Н. Г. Посольство в Хиву и Бухару… // Русский вестник. 1871.№ 2. С. 460.
73
Залесов Н. Г. Посольство в Хиву и Бухару… // Русский вестник. 1871. № 2. С. 462–463. Письмо от 20 июня 1858 г
74
Там же. С. 465–467. Письмо от 20 июня 1858 г.
75
Игнатьев Н. П. Миссия в Хиву и Бухару… С. 131.
76
Залесов Н. Г. Посольство в Хиву и Бухару… // Русский вестник. 1871. № 2. С. 445.
77
Килевейн Е. Отрывок из путешествия в Хиву… С. 5–6.
78
Залесов Н. Г. Письмо из Хивы. С. 278–280.
79
Игнатьев Н. П. Миссия в Хиву и Бухару… С. 139.
80
Залесов Н. Г. Посольство в Хиву и Бухару… // Русский вестник. 1871. № 3. С. 67.
81
ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 289. Л. 92–93; Залесов Н. Г. Посольство в Хиву и Бухару… // Русский вестник. 1871. № 3. С. 44–45.
82
Залесов Н. Г. Посольство в Хиву и Бухару… // Русский вестник. 1871. № 3. С. 70. Письмо от 20 августа 1858 г.
83
Там же. С. 69.
84
ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 289. Л. 77. Письмо от 19 июля 1858 г.
85
Игнатьев Н. П. Миссия в Хиву и Бухару… С. 141. Письмо от 28 июля 1858 г.
86
Игнатьев Н. П. Миссия в Хиву и Бухару… С. 175.
87
Залесов Н. Г. Посольство в Хиву и Бухару… // Русский вестник. 1871. № 3. С. 81. Письмо от 27 августа 1858 г.
88
Там же. С. 75–76.
89
Залесов Н. Г. Посольство в Хиву и Бухару… // Русский вестник. 1871. № 3. С. 50.
90
Там же. С. 51.
91
Игнатьев Н. П. Миссия в Хиву и Бухару… С. 194.
92
Там же. С. 195–196.
93
Залесов Н. Г. Письмо из Бухары. С. 347.
94
ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 289. Л. 153. См. также: Халфин Н. А. Три русские миссии… С. 57.
95
ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 289. Л. 166–167.
96
Халфин Н. А. Три русские миссии… С. 58–60.
97
Казахи.
98
ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 289. Л. 169.
99
Залесов Н. Г. Посольство в Хиву и Бухару… // Русский вестник. 1871. № 3. С. 57.
100
Залесов Н. Г. Посольство в Хиву и Бухару… // Русский вестник. 1871. № 3. С. 57.
101
Игнатьев Н. П. Миссия в Хиву и Бухару… С. 238–239.
102
ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 2159. Л. 37. Речь Игнатьева спутникам при отъезде в Петербург.
103
Залесов Н. Г. Посольство в Хиву и Бухару… // Русский вестник. 1871. № 3. С. 56–60.
104
АВПРИ. Ф. 137. Оп. 475. Д. 42. Л. 156 об.
105
АВПРИ. Ф. 137. Оп. 475. Д. 44. С. 281 об.
106
ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 318. Л. 9. Некоторые заметки о Хивинском ханстве.
107
Там же. Д. 300. Л. 1.
108
Игнатьев Н. П. Миссия в Хиву и Бухару… С. 274.
109
ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 310. Л. 1–4; Игнатьев Н. П. Миссия в Хиву и Бухару… С. 263–271.
110
АВПРИ. Ф. 137. Оп. 475. Д. 42. Л. 163–164.
111
АВПРИ. Ф. 137. Оп. 475. Д. 43. Л. 205.