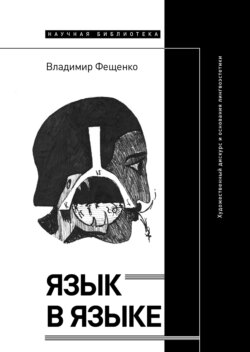Читать книгу Язык в языке. Художественный дискурс и основания лингвоэстетики - Владимир Валентинович Фещенко, В. В. Фещенко - Страница 14
Глава I.
ЛИНГВОЭСТЕТИКА КАК СИНТЕЗ ТЕОРИИ ЯЗЫКА И ТЕОРИИ ИСКУССТВА
2. Концепции языка как творчества: от В. фон Гумбольдта до Н. Хомского и современной лингвистики
Творчество в языке: взгляд лингвистов и философов языка ХХ века
ОглавлениеСловотворчество футуристов, трактуемое в гумбольдтовских терминах, нашло отражение в концепции П. А. Флоренского об антиномии языка. Антиномия языка, согласно ему, это равновесие двух начал – эргона и энергейи, и это равновесие должно соблюдаться в языковом творчестве. Флоренский осознавал попытки авангардных экспериментов как кризисное явление в эволюции языка. С одной стороны, он критикует искусственные языки, в большом количестве создаваемые в ту эпоху. Пафос таких философских языков – рациональность, противостоящая природе Логоса:
попытка творить язык, когда он не творится, а сочиняется, – разлагает антиномию языка. Живое противоречие диссоциируется; тогда получает перевес либо сторона ergon, либо сторона energeia [Флоренский 2000а: 153–154].
Другой путь «порчи языка», с точки зрения Флоренского, следует от энергетической природы языка:
Язык стихиен, следовательно, неразумен, и потому надо сочинить свой язык, разумный, – гласит неверие в разумность Слова; язык разумен, следовательно – безжизнен и бессуществен, и потому надо извести из недр своих – новый язык, нутряной, существенный, заумный, – требует неверие в Существенность Слова [там же: 155].
Здесь – полемика с языковыми экспериментами футуристов, подвергающих слово лабораторной обработке в поисках нового, более совершенного языка. Характерно для нас здесь не негативное отношение Флоренского к экспериментально-языковым процессам, а сам факт осмысления богословом и философом авангардно-поэтического творчества.
У философа Г. Г. Шпета, тоже придерживающегося гумбольдтианской линии в философии языка, возникает идея о творчестве как отборе языковых средств. Для него, в отличие от других последователей немецкого ученого, творение осуществляется не вообще в языке, а в процессе воплощения смысла посредством преобразования уже наличных языковых форм:
Смысл жаждет творческого воплощения, которое своего материального носителя находит если не исключительно, то преимущественно и образцово в слове. Именно развитие и преобразование уже данных, находящихся в обиходе форм слова, и есть творчество, как логическое, так и поэтическое [Шпет 1927: 45].
При этом Шпет признает за Гумбольдтом идею о давлении готового языка, традиции, на творческое сознание, ср. у Гумбольдта: «Тем же самым актом, посредством которого человек из себя создает язык, он отдает себя в его власть» [цит. по Рамишвили 2000: 15]. Следуя потебнианской линии в философии слова, русский философ утверждает необходимость особого творческого акта для конструирования смыслового содержания слова как предпосылки для сообщения и понимания. Таким образом, Шпет противопоставляет творческое репродуктивному, в согласии с духом учения немецкого классика. Шпет восполняет ту логическую процедуру, которая не была доведена до завершения Гумбольдтом, – применение понятия внутренней формы как носителя энергейи к области поэтического творчества, поэтического языка. Разграничивая логическую внутреннюю форму и поэтическую (в «художественно-поэтическом творчестве»), Шпет постулирует в последней идею о целемерном созидании:
Произведение есть продукт некоторого целемерного созидания, т. е. словесного творчества, руководимого не прагматическою задачею, а внутренней идеей самого творчества, как sui generis деятельности сознания [Шпет 1927: 142]35.
Представитель другого лагеря русской философии языка начала ХХ века В. Н. Волошинов основывает свою концепцию языка как творчества на критике школы «индивидуалистического субъективизма» с позиции социологического подхода. Согласно этому подходу, творческая природа слова реализуется только в процессе социальной коммуникации:
Слово – это костяк, который обрастает живой плотью только в процессе творческого восприятия, следовательно, только в процессе живого социального общения [Волошинов 1926: 260].
В результате взаимодействия человека с социумом возникают, по Волошинову, специальные виды «идеологического творчества»:
Творчество языка не совпадает с художественным творчеством или с каким-нибудь иным специально-идеологическим творчеством [Волошинов 1928: 149].
Критикуя положения потебнианской школы, рассматривающей творчество языка как аналогичное художественному творчеству, Волошинов решительно разводит эти понятия и утверждает социальный (идеологический) фактор в различных видах «творчеств». Аналогичный подход, уже с позиции соссюровской дихотомии «язык – речь», развивает и М. М. Бахтин, отрицая возможность «языкового творчества» в пользу «творчества речевого».
В других социолингвистических теориях 1920–1930‐х годов это положение доводится до экстремума, вплоть до критики самого понятия «языкового творчества». Лингвисты, наследующие учению Ф. де Соссюра, склонны отвергать возможность творческого влияния индивида или коллектива на эволюцию языка (если не считать творчеством любое объективное изменение порядка вещей). Соссюр считал, что язык конвенционален, и эти конвенции встроены в язык таким образом, что система никак не может быть поколеблена творческим актом речи. Поэтому в рамках таких теорий принято говорить не о языковом, а о речевом творчестве. По Соссюру, случайное творчество индивидуума в сфере речи способно запустить процесс новообразования в языке, но само по себе подвергнуть язык изменению не может:
…Новообразование, которое является завершением аналогии, первоначально принадлежит исключительно сфере речи; оно – случайное творчество отдельного лица <…> Все, что входит в язык, заранее испытывается в речи: это значит, что все явления эволюции коренятся в сфере деятельности индивида [Соссюр 1977: 199].
Советская исследовательница-лингвист Р. О. Шор с твердых соссюрианских позиций возражает против того представления, что языковое творчество есть достояние индивида:
…вся речевая деятельность индивида протекает в рамках передаваемого ему коллективом языка; <…> новые формы, создаваемые языковым творчеством индивида, слагаются на материале и по образцам этого языка [Шор 1926: 43].
Таким образом, русская лингвистика, ориентированная на социологический подход, будет отказываться от концепции языка как творчества. Исключение из этой тенденции представляют, впрочем, теории двух крупнейших лингвистов ХХ века – В. В. Виноградова и Р. О. Якобсона, – в равной мере учитывающих как гумбольдтианскую традицию, так и новое соссюрианское учение.
В. В. Виноградов рассматривает «индивидуально-языковое и литературно-художественное творчество» в рамках «социально-языковых систем». И он уже оперирует понятием творчества на основе соссюровского различения речи и языка. Язык литературного произведения, согласно виноградовской концепции, помещается в сферу parole индивидуально-языкового творчества. Последнее же не возникает само по себе, а только в результате творческого усвоения коллективного языка:
<…> языковое творчество личности – результат выхода ее из всех сужающихся концентрических кругов тех коллективных субъектов, формы которых она в себе носит, творчески их усваивая [Виноградов 2006: 249].
Сфера parole служит местом творческого раскрытия языковой личности. Творческими свойствами, согласно концепции Виноградова, наделяется не язык как социальное явление, а речь как реализация языковой личности. При этом художественная речь, преломляемая личностными формами, признается преимущественной областью индивидуально-речевого творчества.
О «языковом творчестве» рассуждал и Р. О. Якобсон в связи с традицией гумбольдтианства. Субъект, говорящий на языке как социальной системе, считает он, осуществляет индивидуальный творческий акт. И наоборот:
…конвенция, язык как социальная ценность реализуется только в индивидуальной речи, в индивидуальном уникальном творческом акте, который сохраняет язык, обеспечивает непрестанное действие языковой конвенции и одновременно в чем-то ее необходимым образом изменяет, ибо творческий акт всегда привносит нечто новое, то есть непременно нарушает эту конвенцию [Якобсон 2011: 34].
Творчество в языке, следовательно, связывается им с нарушением и преодолением конвенции системы. В понятии языкового творчества заключена, согласно Якобсону, не только антиномия языка и речи, но также дихотомия «норма (конвенция) – отклонение (нарушение конвенции)»:
В действительности и язык как социальная ценность, язык в его социальном аспекте является одновременно предметом, объектом, ergon, – и творчеством, энергией, и в то же время обе эти ипостаси объединяет язык отдельной личности – с одной стороны, это индивидуальное достояние, индивидуальная застывшая норма, с другой стороны – неповторимый акт творчества [там же: 45].
Таким образом, в якобсоновской концепции линия Гумбольдта и линия Соссюра (с которой он, впрочем, постоянно дискутировал) скрещиваются, и понятие языка как творчества получает новое наполнение, заимствующее черты обеих традиций.
Гумбольдтовская идея языка как творческого процесса нашла оригинальное продолжение в современном Р. Якобсону учении М. Хайдеггера об истоке художественного творения [Хайдеггер 1993а]. Согласно этому учению, в художнике – исток творения, а в творении – исток художника. Но в поэтическом творчестве еще одним источником творения выступает язык. Х.‐Г. Гадамер так резюмирует хайдеггеровскую идею:
Творение языка – это изначальнейшее поэтическое творение бытия. Мышление, способное мыслить все искусство как поэзию, раскрывая языковое бытие всякого художественного творения, само еще находится на пути к языку [Гадамер 1993: 132].
Согласно этой концепции, творческий процесс в языке представляет собой внутренний саморазвивающийся и рефлексивный процесс, своего рода творчество в квадрате.
На В. В. Виноградове и отчасти Р. О. Якобсоне в русской науке и на М. Хайдеггере с Х.‐Г. Гадамером в немецкой философии гумбольдтианская линия творческого подхода к языку приостанавливается, уступая место более актуальным во второй половине ХХ века структуралистским концепциям, согласно которым язык изучается не как процесс, а как самозамкнутая система и механизм воспроизводства языковых элементов и структур (см. об этом [Алпатов 2010]). Однако в определенный момент структурализм все же вновь поворачивает свой взгляд на В. фон Гумбольдта.
Так, Н. Хомский, в этом отношении неявно ориентирующийся на немецких романтиков, языковую способность трактует как творческий процесс порождения языковых форм, которые производятся или интерпретируются говорящими впервые. Эпитет «творческий» при этом обозначает у него свободу и множественность целей языкового употребления:
Человек как вид наделен совершенно специфической особенностью, он обладает уникальным типом умственной организации, которую нельзя объяснить строением периферийных органов или связать с общими особенностями его интеллекта; она находит свое проявление в том, что можно назвать «творческим аспектом» повседневного пользования языком, когда обнаруживаются такие его свойства, как безграничная множественность целей и свобода от контроля посредством внешней стимуляции [Хомский 2005: 25]36.
С другой стороны, в рамках советского языкознания к 1970‐м годам тоже вновь проступают черты деятельностного и энергийного подхода. На нем отчасти основано учение о языковых моделях А. Ф. Лосева [Лосев 1968], обращавшегося к гумбольдтианским идеям еще в своей ранней «Философии имени». К 1980‐м годам в академическом языкознании возникает термин «лингвокреативное мышление» [Серебренников 1988]37. Некоторые постулаты деятельностной лингвистики развивает В. В. Налимов в своей «вероятностной модели языка» [Налимов 2003], а переводчик Гумбольдта на русский Г. Рамишвили разрабатывает свое оригинальное учение о языке как творческом процессе [Рамишвили 1978].
Обозревая различные теории языка как творчества в мировой лингвистике, И. В. Зыкова делает важный вывод:
Они содержат множество важнейших и весьма тонких и проникновенных наблюдений над внутренними процессами и механизмами создания и функционирования языка, над ролью человеческого фактора в формировании языковой системы, полученных на разнородной (философской, психологической, семиотической и др.) «почве». Выработанное в них <…> научное знание составляет глубинно-сокровенную основу целостного содержания понятия лингвокреативности [Зыкова 2017: 597].
Справедливо и ее замечание о том, что эти теории укладываются в период, который можно условно обозначить «Гумбольдт – Хомский». Это положение совпадает с данными нашего собственного экскурса в историю идеи языка как творчества.
В 1990‐е годы самым заметным проявлением тенденции к изучению лингвокреативности стала концепция Б. М. Гаспарова [1996] о «языковом существовании», уже в рамках теории коммуникации. Также можно упомянуть работы английского лингвиста Р. Картера, рассматривающие различные проявления креативного мышления в обыденном языке [Carter 2004]. В авторитетном сборнике [Routledge Handbook 2015] аккумулированы статьи по различным аспектам лингвокреативности – от повседневной речи до современного искусства.
35
См. также о психологическом аспекте описываемого явления: [Зинченко 2010].
36
В этой связи О. К. Ирисханова отмечает, что к середине ХХ века в лингвистике «растет осознание того, что способность творческого применения языковых форм – это только внешнее проявление глубинных процессов, происходящих на уровне нашего сознания. С этой точки зрения поиск и нахождение новых языковых форм – это отражение поиска, передачи, объективации нового мыслительного (концептуального) содержания. Все это неизбежно приводит к необходимости рассмотреть проблему связи языкового творчества с теми знаниями о мире и языке, которыми располагает человек, и с его повседневной деятельностью [Ирисханова 2004: 25].
37
Ср. также с термином «креативная лингвистика» в [Алейников 1988].