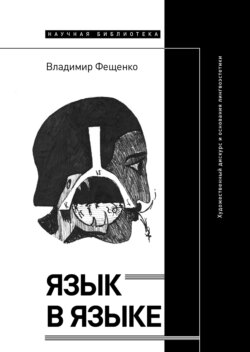Читать книгу Язык в языке. Художественный дискурс и основания лингвоэстетики - Владимир Валентинович Фещенко, В. В. Фещенко - Страница 8
Глава I.
ЛИНГВОЭСТЕТИКА КАК СИНТЕЗ ТЕОРИИ ЯЗЫКА И ТЕОРИИ ИСКУССТВА
1. Искусство и язык, язык и искусство: межнаучный трансфер понятий в истории лингвистики и эстетики
Языки искусства. Символизм и авангард
ОглавлениеГумбольдтовская формула «язык искусства» (вариант: «язык как искусство») обрела новое хождение в текстах русского символизма и авангарда, уже в переосмысленном и более материальном виде.
Одновременно с ранними поэтическими опытами гумбольдтианец А. Белый теоретически осмысляет этот революционный поворот отношения к языку. В статье 1902 года «Формы искусства» читаем:
Перевод действительности на язык искусства <…> сопровождается некоторой переработкой. Эта переработка, будучи по своему внутреннему смыслу синтезом, приводит к анализу окружающей действительности. Анализ действительности необходимо вытекает из невозможности передать посредством внешних приемов полноту и разнообразие всех элементов окружающей действительности [Белый 1994: 90].
Поэзия понимается Белым как «узловая форма, связующая время с пространством» [там же: 91], соответственно, язык поэзии аккумулирует в себе элементы всех прочих форм искусства и знания.
Тезис о том, что «слово само по себе есть эстетический феномен» [Белый 2006а: 205], перенимается А. Белым у А. А. Потебни. Белый был внимательным читателем харьковского ученого-лингвиста и воспринял от него представление о языке как о носителе непрерывного творчества мысли. Поместив потебнианские положения в собственно эстетический контекст, Белый придал им определенную обоснованность, равно как и немало поспособствовал привнесению достижений лингвистической мысли в область художественного творчества. От декларирования автономности слова-символа Белый, вслед за Потебней, делает очередной теоретический шаг, состоящий в том, что «из объединения внешней формы и содержания провозглашается единство формы и содержания как в словесном, так и в художественном символе» [там же: 207]. Делая такой вывод из изложения идей Потебни, Белый предваряет и обосновывает один из главных лозунгов русского символизма. Одновременно закладывается основа для понимания лингвистической природы художественного знака – как синтетической формосодержательной единицы.
У М. Волошина встречаем формулу «язык искусства» в эссе «Индивидуализм в искусстве», где уподобляются и различаются язык обыденный и язык художественный:
В искусстве, кроме языка демотического, общедоступного, которым пользуются все, есть еще другой, скрытый язык – язык символов, образов, который в сущности и составляет истинный язык искусства независимо от подразделений искусства на речь, на пластику…
Мы все пользуемся этим языком бессознательно. Но у этого языка есть свои законы и уставы, настолько же нерушимые, как законы и уставы грамматической речи.
Этот гиероглифический язык искусства развивается медленно, постепенным накоплением и постепенным изменением, и внутреннее чувство художника так же протестует против варваризмов новых символов, как и против варваризмов языка [Волошин 1988: http].
Любопытно, что мысль русского поэта задолго предвосхищает на сущностном и даже на словесном уровне идею Ю. М. Лотмана об искусстве как «вторичной моделирующей (знаковой) системе»:
Канонические формы искусства в своей сущности сводятся к законам этого гиератического языка образов. И работа их развития идет так же бессознательно, как и работа над развитием языка.
Искусство в настоящее время может говорить только этим двухстепенным языком, и признание этого вторичного языка символов и образов есть уже признание канона [там же].
Художник и теоретик искусства В. Кандинский посвящает трактаты и статьи описанию грамматики нового языка искусства, каким для него выступает абстракция («язык форм и красок»):
И, разумеется, чем больше художник пользуется этими абстрагированными или абстрактными формами, тем свободнее он будет чувствовать себя в их царстве и тем глубже он будет входить в эту область. Также и зритель, которого ведет художник, приобретает все большее знание абстрактного языка и, в конце концов, овладевает им [Кандинский 1992: 55].
Живопись – это язык, который формами, лишь ему одному свойственными, говорит нашей душе о ее хлебе насущном; и этот хлеб насущный может в данном случае быть предоставлен душе лишь этим и никаким другим способом» [там же: 102].
Кандинский применяет понятие языка к разным искусствам: «язык музыки», «язык балетных движений», «живописный язык»27. Пользуется этой формулой и К. Малевич в трактате 1924 года:
Искусство всюду равно. Нет в Искусстве ни грамотного, ни неграмотного, народное творчество всегда будет свидетельством тому, что в Искусстве народ всегда грамотен был, есть и будет. Но никогда не будет грамотен по любому учебнику, никогда ему, народу, не будет противен язык Искусства, но всегда противна грамотность и учеба [Малевич 2014: 196].
Понятие «языка искусства» становится аксиомой для целого ряда авангардных художников, поэтов и теоретиков. Так, композитор А. Скрябин уподобляет законы музыки законам языка. Л. Сабанеев приводит по памяти мысль композитора, которая резонирует с воззрениями античных философов о подобии звуков речи и звуков музыки: «В языке, – говорил Александр Николаевич, – есть законы развития вроде тех, которые в музыке. Слово усложняется, как и гармонии, путем включения каких-то обертонов. Мне почему-то кажется, что всякое слово есть одна гармония» [Сабанеев 2003: 290]. Другой композитор русского авангарда, А. Авраамов, размышлял о «языках искусства» как о различных художественных методах:
Скажу просто: линия, звук, краски, объемные формы, все материалы, из которых искусство строит свои великолепные здания – суть лишь различные алфавиты, не более; когда хаос разложен достаточно глубоко, когда найдены законы, ими управляющие, они могут стать для человека-художника языком, на котором он сумеет передавать более тонкие движения духа, недоступные варварскому языку условных звукосочетаний, раз навсегда связанных с определенными «понятиями» <…> [Авраамов 2006: 458].
У поэта В. Хлебникова рождается целое концептуальное «гнездо» языков, образованных по единой схеме. В. П. Григорьев собрал целую коллекцию хлебниковских «образов языка»: это и «заумный язык», и «звездный язык», и «бурный язык», «личный язык», «нежный язык», «грубый язык», «безумный язык», «цельный язык», «числовой язык», «значковый язык», «язык зрения», «язык речей», «язык имен собственных», «священный язык язычества», «много-язык», «язык как пространство», «язык как время» [Григорьев 2000: 116–142].
Таким образом, поэтические, живописные и музыкальные практики нового русского искусства первых десятилетий ХХ века породили распространенное представление о том, что искусство оперирует некоторыми «языками», образы которых обусловлены конкретными художественными техниками (например, «язык красок» обусловлен у В. Кандинского живописной абстракцией). Понятие языка потребовалось художникам для формулировки и воплощения более строгих экспериментальных методов в художественной деятельности, чем это было принято в предшествующей эстетической парадигме.
27
См. нашу статью о лингвоэстетических основах текстов В. Кандинского: [Фещенко 2013].