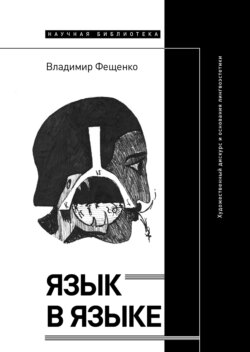Читать книгу Язык в языке. Художественный дискурс и основания лингвоэстетики - Владимир Валентинович Фещенко, В. В. Фещенко - Страница 22
Глава I.
ЛИНГВОЭСТЕТИКА КАК СИНТЕЗ ТЕОРИИ ЯЗЫКА И ТЕОРИИ ИСКУССТВА
4. Язык искусства и язык художественной литературы как знаковые системы: семиотические основания лингвоэстетического подхода
Структура эстетического знака: Г. Г. Шпет и концепции глубинной семиотики в России
ОглавлениеПервенство в обращении к семиотической проблематике со стороны эстетических учений принадлежит русскому философу Г. Г. Шпету. В предыдущих параграфах мы указывали на первостепенную роль этого мыслителя в интересующей нас лингвоэстетической линии филологических исследований. С одной стороны, он являлся важнейшим преемником и проводником идей В. фон Гумбольдта в русской мысли, в том числе его ключевых идей о языке как творческом процессе и языке как искусстве. С другой стороны, Шпет сформулировал ряд постулатов, относящихся к эстетическому измерению языковой деятельности. Но кроме этого вклада в философию языка и лингвоэстетику, необходимо подчеркнуть его пионерскую роль в обсуждении семиотических вопросов эстетической деятельности. До недавнего времени Шпет как семиолог не был открыт по-настоящему, ведь лишь пятнадцать лет назад был издан основополагающий его труд по семиотике – «Язык и смысл» [Шпет 2005]. Поскольку эта роль до сих пор не была должным образом описана в истории лингвистических и семиотических учений, считаем уместным остановиться на взглядах Шпета чуть более подробно47.
Первым на значимость идей Шпета для семиотических учений указал Вяч. Вс. Иванов в «Очерках по истории семиотики», отметив, что
Шпет был первым русским философом, давшим детальное обоснование необходимости исследования знаков как особой сферы научного знания и изложившим принципы феноменологического и герменевтического подхода к ней [Иванов 1999: 681].
Наряду с П. А. Флоренским и А. Белым он был назван в числе тех, кто предпринял в первые десятилетия ХХ века попытку общесемиотического синтеза, выделив область изучения знаков в качестве особого предмета гуманитарных исследований. Особенно значимыми оказались идеи Шпета, наследующие его учителю Э. Гуссерлю, о знаках как «всеобщем слое», который определяет исходные предпосылки любого социально-исторического знания48. Отдельно были отмечены восходящие к Шпету первые попытки семиотического истолкования эстетики и этнологии.
Небольшое внимание Шпету было уделено и в Тартуской школе, где в «Трудах по знаковым системам» была опубликована статья под названием «Литература», подготовленная Шпетом в 1920‐х годах для «Словаря художественных терминов» [Шпет 1982]. Однако говорить о преемственности идей русского философа в семиотических исследованиях 1960–1990‐х годов вряд ли приходится. Можно встретить упоминание о Шпете в некоторых учебных курсах по семиотике последнего времени, например в книгах [Почепцов 2001: 204–218; Мечковская 2004: 38–42]. Психологические воззрения забытого философа, относящиеся в том числе к проблеме языка и слова, стали предметом работы [Зинченко 2000]. Существуют интересные соображения о вкладе Шпета в развитие семиотической эстетики [Freiberger-Sheikholeslami 1982; Freiberger 1991]. Наконец, на роли Шпета в развитии структурализма и семиотики в России останавливается в своей книге Т. Г. Щедрина [2004]. Она особо подчеркивает принадлежность Шпета к той группе исследователей, которая развивала целостный конкретно-исторический подход к языку, видя в семиотике основу основ любого лингвистического знания49.
Шпет был первым, кто употребил в русской научной литературе термин «семиотика», понимая под ним «онтологическое учение о знаках вообще» [Шпет 2007: 230]. Впервые слово «семиотика» появляется у него в 1915 году в статье «Первый опыт логики исторических наук: к истории рационализма XVIII века» [Шпет 1915], которая затем преобразуется в третью главу «Истории как проблемы логики» [Шпет 2002]. В этом обширном труде философ развивает идею о сближении герменевтики как науки о понимании и семиотики как метода понимания знаков. История для Шпета имеет дело со словом как знаком, который интересует историка прежде всего со стороны своего значения, то есть того, о чем слово сообщает. Потребность в герменевтике возникает тогда, когда «зарождается желание отдать себе сознательный отчет о роли слова как знака сообщения» [Шпет 1989: 232]. Но эта же потребность, в свою очередь, ведет к необходимости принципиально семиотического подхода. В «Эстетических фрагментах» Шпет пишет, что «теория слова как знака есть задача формальной онтологии или учения о предмете, в отделе семиотики» [Шпет 2007: 208].
Еще позже, в 1920‐е годы, Шпет пишет работу «Язык и смысл», где прослеживает истоки семиотической мысли и закладывает основы новой семиотики, которую обозначает теперь более отчетливо как «науку о понимании знаков». Прежде всего, проблема, которая его интересует, – это проблема предмета и формы его выражения. Будучи предметом двойственной природы, знак, согласно философу, относится одновременно и к плану действительного эмпирического мира, и к плану идеальному, постигаемому в мышлении. Посредством понятия знака Шпет стремится добиться ответа на главные свои вопросы: что такое понятие, что такое слово и что такое смысл. При этом понятие «понятия», составляющее главный предмет семиотики Шпета, осмысляется не просто как логическая категория. Логическая форма понятия для него лишь остов самого понятия. Большее внимание он уделяет накладывающимся на логику «внутренним формам», которые опосредуют процесс понимания. В этом смысле шпетовский семиотико-герменевтический метод исследует по преимуществу природу гуманитарных понятий50.
Из всего обилия семиотических идей Шпета нам представляется главной его оригинальная концепция знака и смысла, которая в своей сущности отличается от прочих современных Шпету концепций: Ч. С. Пирса, Ф. де Соссюра, Г. Фреге, Ч. Огдена – И. Ричардса или К. Бюлера. Коренным отличием здесь является онтологизм учения русского философа и его направленность на процесс понимания знаков, что особенно существенно для семиотики художественного процесса. Категория отношения, как нам кажется, является опорным пунктом в шпетовской концепции знака51. «Онтологическое положение знака» мыслится Шпетом в том, что «он не только субъект отношения, которому соотносительно значение, но он сам также есть некоторое отношение, предполагающее свои термины» (520)52. Что подчеркивает Шпет, различая понятия «субъект отношения» и «отношение как таковое»? Субъект отношения – категория статическая, в то время как отношение само – это динамическая категория. Отношение значит в шпетовском смысле процесс отнесения. Именно на этом процессуальном значении категории отношения настаивает Шпет. Если знак как субъект отношения описывается своими внешними формами, то знак как отношение само по себе описуем посредством присущих ему «внутренних форм».
Различение внешних и внутренних форм в дальнейшем Шпет разовьет в отдельной работе «Внутренняя форма слова», но здесь, в семиотическом контексте, это различение важно для объяснения структуры знака. Шпет выводит следующую таблицу (531):
Как видно, внутренние формы определяются как формы самого отношения, тогда как внешние формы, иначе называемые Шпетом «формами сочетания», относятся к эмпирическому, материальному плану знака. Проецируя на структуру знака, эту схему уже нельзя изобразить в виде диадичной модели Ф. де Соссюра или триадичной модели Г. Фреге, Ч. С. Пирса и К. Бюлера. Модель Шпета принципиально динамична и описывает процесс создания и понимания знака, и в частности слова как знака.
Динамичность слова Шпет иллюстрирует на простейшем примере построения слов и высказываний:
«Часть» слова движется и движет к «целому слову», последнее – к «связи», например, суждения или более обширного высказывания, это – еще дальше и экстенсивнее и т. д. Часть влечет к целому, «вещь» – к «отношению», отношение – к отношению более высокого порядка; и в каких бы категориях – логических, грамматических или метафизических – мы ни выражали эту существенную особенность слова, всегда налицо динамизм и движение (584).
Для всех остальных современных ему теорий знака знак – лишь средство. Шпет вводит в процесс семиозиса категорию целесообразности. Движение сознания субъекта от воспринимаемого знака к значению, сообразующееся с определенной целью (с идеей целого произведения) и осуществляемое внутренними формами этого произведения, и называется им «пониманием» как динамическим (коммуникативным) осуществлением смысла.
Если считать, что семиотические учения Ф. де Соссюра и Ч. С. Пирса являются двумя магистральными традициями в современной семиотике, учение Г. Г. Шпета может быть признано третьей, неявной традицией, «мерцающей в толще истории». Ее отличие от пирсовской и соссюровской нам видится в постулировании внутреннего измерения знака (наличии внутренних форм наряду с внешними) и в целесообразности семиотического процесса (наличии цели создания знака). Для Соссюра знак произволен, и отношение между означающим и означаемым описывается в статичной категории значимости (valeur). Он допускает наличие связи между звуковым образом и понятием, но специфическая природа этой связи как таковой его не интересует. Пирс идет несколько дальше и вводит понятие интерпретанты, то есть некоторый момент субъективности семиозиса. Знак для Пирса – это нечто, означающее что-либо для кого-нибудь. Схема коммуникации выглядит для Пирса так, что определенный знак адресуется кому-либо, чтобы создать в уме этого другого идентичный знак. Пирсовская типология знаков предполагает различные логические связи между разными свойствами знака. Однако здесь также отсутствует внимание к тому, как именно осуществляется в динамике отношение между знаком и значением в смыслообразовании53.
Именно шпетовское понятие внутренней формы дает возможность анализировать глубинное измерение знака54. Не случайно концепция внутренней формы выводится Шпетом на материале анализа эстетических форм.
Поэтика должна быть учением о чувственных и внутренних формах (поэтического) слова (языка) <…> [Шпет 1989: 410].
Разработке этого учения он посвящает отдельное исследование «Внутренняя форма слова» (1927). В нем он следует концепции «внутренней формы языка» (Innere Sprachform) В. фон Гумбольдта, применяя ее к сфере индивидуального творчества.
Как указывает Шпет со ссылкой на книгу [Гайм 1898], термин «внутренняя форма» первоначально возник у В. фон Гумбольдта в эстетическом контексте, при чтении и анализе произведений Гёте. Сопоставляя язык с искусством и определяя поэзию как «искусство языка», немецкий филолог отмечал, что она создается «для внешних и внутренних форм, для мира и человека». Однако точное определение «внутренней форме» Гумбольдт не дает, что, в свою очередь, вдохновляет Шпета более отчетливо описать значение внутренней формы применительно к семиотической проблематике.
Во всяком словесном творчестве – научно-понятийном или художественно-образном, пишет Шпет, имеет место планомерное выполнение некоторого замысла. Здесь значимой оказывается именно внутренняя форма – как правило образования понятия (в науке) или образа (в искусстве).
Это правило есть не что иное, как прием, метод и принцип отбора, – закон и основа словесно-логического творчества в целях выражения, сообщения, передачи смысла [Шпет 1927: 98].
Можно говорить о внутренней форме понятия, или «внутренней логической форме», и о внутренней форме образа, или «внутренней поэтической форме». Совокупность таких «правил», законов комбинирования словесно-логических единиц (понятий, образов) Шпет называет «словесно-логическими алгоритмами»:
Такого рода алгоритмы суть также формы образования понятий, и, следовательно, диалектики самого смысла, динамические законы его развития, творческие внутренние формы, руководящие понимающим усмотрением смысла в планомерном отборе элементов, но допускающие свободу в установлении той или иной планомерности <…> [там же: 119].
Внутренние формы как алгоритмы, то есть «формы методологического осуществления, способны раскрыть соответствующую организацию „смысла“ в его конкретном диалектическом процессе» [Шпет 1927: 141].
Как, согласно Шпету, функционируют внутренние формы в художественном процессе?
Во-первых, утверждает Шпет, поэтический (художественный) язык, в отличие от языка прагматического (научного или обыденного), на первый план выдвигает не прагматические цели, а «свои собственные внутренние цели саморазвития»:
Направленность художественного творчества на самого себя, а не на прагматические цели, только в том и состоит, что оно неизменно, как свою внутреннюю форму, имеет в виду сами эти отношения. Они – подлинный объект и руководящая идея поэтического творчества [там же: 143].
Во-вторых – и это вытекает из первого тезиса, – искусство не покрывается одними «логическими внутренними формами», свойственными, опять же, языку обыденному, а имеет свои особые – художественные, или поэтические, внутренние формы. Художественный язык – это всегда «планомерно конструируемый организм», отличающийся единством и цельностью. Законы такой органичности суть «правила, лежащие в самом организуемом матерьяле, его собственные формы, сочетаемые и упорядочиваемые соответственно руководящей идее творчества». Идея эта «лежит не вне данного матерьяла и его форм, а в них самих, и потому автономно осуществляется в их единстве, как в художественной форме форм» [там же: 147]. Последняя создает уже конкретные приемы и пути образования художественных образов и смыслов. Таким образом, внутренние формы играют роль законов образования художественной речи, ее правил-алгоритмов.
Обогащение семиотической теории понятием внутренней формы было связано с поиском семиотических инструментов в анализе форм творческого присутствия человека в языке и эстетических форм в художественном языке. Глубинно-семиотический подход, основателем которого выступает Г. Г. Шпет, ставит во главу семиотического процесса самого человека. В соссюрианской и пирсианской семиотике мир знаков априори признается внешним по отношению к личности. Шпетовская семиотика человекомерна, или «целемерна», в его собственных терминах, объектом ее изучения является совокупность внутренне обусловленных знаков, которые производит и воспринимает человек в коммуникативном и творческом процессе.
Метафора «глубины» очень часто возникает на страницах работ Шпета. Не случаен и образ «капусты» со множеством «логических» слоев, возникающий в «Языке и смысле», описывающий «глубинные» отношения значений в знаке.
Проникая глубже в «смысл» самих понятий, мы встречаем только модификации основных логических структур – и в них законы «смысла» как сущности [Шпет 2005: 600].
Таким образом, русская глубинная семиотика по Шпету предстает как отдельный вектор семиотической традиции, существенно отличный от европейских семиотик по Пирсу и Соссюру. Более подробно эта традиция описана в нашей статье «Глубинная семиотика: Стадии погружения (От «внутреннего человека» к «человеку Авангарда»)»: [Фещенко 2006а]. В разделе антологии [Семиотика и Авангард 2006], который открывает эта статья, опубликован ряд текстов, существенных для осмысления описываемой традиции. Г. Л. Тульчинский предлагает называть эту область «глубокой семиотикой» (deep semiotics), понимая под ней расширение теории знаковых систем (семиотики) за счет категории смыслообразования. Такой подход
подобен переходу от двумерного, плоскостного рассмотрения [знаков. – В. Ф.] к стереометрическому, дающему анализу глубину (высоту). Из плоскости явленной дискурсивности анализ как бы ныряет вглубь, уходя к корням и источникам смыслопорождения, получая возможность рассмотрения его динамики [Тульчинский 2003: 74].
Предпосылки идей «глубокой семиотики» исследователь видит в работах М. М. Бахтина, Н. М. Бахтина, П. А. Флоренского, Л. С. Выготского. Здесь же он говорит о ней как о «третьей традиции», восходящей к В. фон Гумбольдту, В. Вундту, К. Фосслеру и А. Марти. Нам, однако, представляется более правильным говорить не о «глубокой», а о «глубинной» семиотике. По сути, это одно и то же, но в термине «глубинный», по нашему мнению, содержится важный элемент, оппозитивный значению «поверхностного», в то время как в слове «глубокий» не так выражена эта отличительная особенность.
Одним из представителей шпетовского направления глубинной художественной семиотики был искусствовед А. Г. Габричевский, работавший со Шпетом в ГАХН в 1920‐е годы, в частности над проблемами знака в искусстве. Критикуя формальный метод, он указывает на недостаточное внимание формалистов к выразительной и знаковой природе художественного произведения:
ни само искусство, ни другие сферы культуры не осмысливаются в своем своеобразии особых типов выражения, в своей внутренней знаковой структуре [Габричевский 2002: 19].
В статье 1925 года «Язык вещей» ученый говорит о том, что художественная система устроена подобно языку. Язык художественного произведения понимается как знаковая сущность:
Человек как существо социальное не только пользуется вещами, их пространственными и временными отношениями, но их понимает и их осмысляет. Они для него не только вещи, но и знаки, которые являются необходимым условием его общения с другими людьми. Всякое культурное единство, всякая социальная система является всегда в то же время системой знаков, ибо всякая вещь, начиная от собственного тела человека, его движений и звучаний и кончая любым отрезком мира, может быть принципиально вещью социальной, вещью выразительной, т. е. не только вещью, но и знаком, носителем смысла [там же: 31–32].
Отметим, что едва ли не впервые в русском научном дискурсе здесь возникает термин «знаковая система».
Среди записей А. Габричевского обнаруживаются некоторые тезисы относительно искусства как системы знаков:
Вещь – знак
Культура как система знаков
Включение абстрактной вещи в систему культуры через слово, миф, искусство
Произведение искусства как знак
означивающее – означиваемое
наглядность, чувственная конкретность
своеобразие натуральной структуры оптических элементов
чистая, подлинная зримость
<…>
Из всех вещей – знаков художественное произведение выделяется тем, что означиваемое совпадает с чувственно-наглядным составом означивающего (ср. сигнал, термин) [там же: 188].
Обратим внимание, что здесь вполне уверенно уже используются соссюровские семиотические термины, при этом делается важное наблюдение о частом совпадении означающего и означаемого в художественном объекте (тезис, который будет в дальнейшем уточняться всей семиотикой искусства). В серии статей и трактатов Габричевский сформулировал принципы пространственной семиотики живописного искусства, заложив основы целого семиотического направления. Коллега Габричевского по ГАХН, искусствовед А. Г. Цирес предложил называть это направление «художественной семиотикой» [Цирес 1927: 112]. В России это направление было насильственно прервано в 1930‐е годы, прежде всего в связи с закрытием ГАХН и репрессиями против основных разработчиков семиотики искусства. Воскрешение этих ростков было осуществлено уже в 1960‐е годы в «оттепельной» советской семиотике.
В промежутке между 1930‐ми и 1960‐ми годами научная мысль интересующего нас направления довольно активно развивалась в западной науке. Упомянем несколько имен и концепций, значимых для становления художественной семиотики. Эстетическим вопросам теории знака уделялось немало внимания в Пражской школе. Уже в «Тезисах Пражского лингвистического кружка» 1929 года формулируется основной закон художественного знака
47
См. еще более подробно о семиотических воззрениях Шпета в нашей статье [Feshchenko 2015].
48
Шпетовская концепция знака как внешне-внутренней структуры, несомненно, формулировалась с опорой на гуссерлевскую феноменологию знака-значения, изложенную во втором томе «Логических исследований».
49
См. также об отдельных аспектах семиотической концепции Г. Г. Шпета в [Ageeva 2008; Ioffe 2008; Velmezova 2008; Grier 2009; Radunović 2009].
50
См. об эстетических импликациях герменевтики и философии языка Г. Г. Шпета в [Haardt 1993].
51
В этом отношении Шпет оказывается неожиданно близок учению о знаке в древнеарабской семиотической традиции, в которой выделяются три элемента знака: «звукосочетание», «смысл» и «отношение указания». См. об этой традиции в [Смирнов 2005].
52
Здесь и далее в скобках указываются страницы по изданию [Шпет 2005].
53
Отношения между знаком и значением изучаются, впрочем, непосредственной последовательницей Пирса В. Уэлби в ее триадической теории значения, смысла и значимости [см. о ней Киосе 2017].
54
См. [Пильщиков 2014].