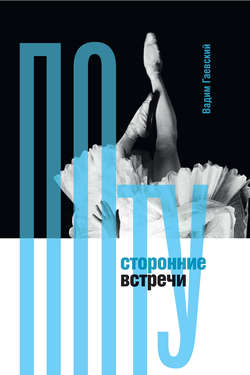Читать книгу Потусторонние встречи - Вадим Гаевский - Страница 11
Часть I. Время «Жизели»
Париж – Петербург
Первый акт. Шпага Альберта
ОглавлениеПервый акт настолько естественно слажен, настолько последовательно идет от беззаботного начала к безутешному концу, что не слишком разборчивый зритель и не сможет его по достоинству оценить: никаких эффектных сцен, никаких внезапных неожиданных поворотов. Страшный поворот, конечно же, есть, но он подготовлен всем предыдущим и совсем не внезапен. Эффектная, даже эффектнейшая сцена тоже, конечно, есть – сцена сумасшествия и смерти Жизели, но она поставлена с таким режиссерским совершенством и так в самом деле страшна, что и не хочется называть ее эффектной. Между тем именно неэффектность первого акта и есть его главное открытие, прорыв в какой-то неизведанный художественный мир, в какую-то новую постромантическую стилистику – стилистику достоверности, которая придет в балетный театр гораздо позднее. При том, однако, что весь первый акт, не только его финал, принадлежит именно романтическому театру – но не своей внешней стилистикой, а своим внутренним фатализмом. Еще раз повторим, еще раз восхитимся, еще раз ужаснемся: естественный ход событий от радостной безмятежности к роковому концу, естественный ход неотвратимых событий или, еще короче, естественная неотвратимость. Уже в самом начале, в тройной экспозиции, в последовательном появлении трех главных героев – Лесничего, переодетого графа Альберта-Лойса и Жизели завязывается узел, который не развязать, который начинает стягиваться и приводит к неизбежному финалу. По существу, житейская история – не первая и не последняя в этом роде, в которой доверчивая влюбленность, легкомысленное увлечение и столь же легкомысленный обман и, наконец, слепая ревность и мстительный смертельный удар – все сплетено неразрывно, все действует наверняка, все лишено какой бы то ни было роковой окраски и какого бы то ни было театрального произвола, тем более намеренной театральной игры, а между тем все здесь присутствует – исподволь, но и наглядно – и рок, и театральность, но в виде реальных предметов. Предметы весьма распространены в обиходе, в старинном и современном быту, а в то же время являются неотъемлемой частью классического театрального реквизита: дамское ожерелье и мужская шпага. И, конечно, тут не только театральный реквизит, тут реквизит всей романтической литературы: подвески королевы и шпага д’Артаньяна сразу приходят на ум как художественные знаки эпохи.
Ожерелье и шпага – вот украшения и вот действующие двигатели интриги спектакля. У них своя функция, своя роль, своя партия в режиссерской партитуре первого акта. Партия ожерелья не так велика, она разыгрывается в двух сценах после середины акта. Партия шпаги как никогда велика, она больше значит, чем платок шекспировской Дездемоны или браслет лермонтовской Нины. Она начинает играть с первых же сцен, когда мнимый Альберт-Лойс отстегивает шпагу и отдает ее оруженосцу, чтобы тот спрятал ее в сторожке. Эта спрятанная шпага тоже играет, играет почти весь акт, тем более что Альберт-Лойс по привычке пытается выхватить ее автоматическим жестом руки, выдавая себя и подчиняясь охватившему его гневу. Но главная сцена у шпаги еще впереди, и главная функция шпаги еще не раскрыта. Этих функций у шпаги несколько, и можно лишь оценить остроумную находку либреттистов, позволившую рассказать о многом с помощью одного предмета. Это, во-первых, и в самом деле украшение акта – красивая, в драгоценных камнях дворянская шпага, необходимая подробность дворянской экипировки и дворянского этикета. А во-вторых, блестящий и ясный способ представить подлинный образ Альберта-Лойса, его дворянское происхождение, его графский (или герцогский) титул. И, в-третьих, понять его подлинное желание – не соблазнить наивную девочку, а, сняв шпагу, освободить себя и от этой экипировки, и от этого этикета, на короткое время почувствовать себя на воле. Наивная девочка не подозревает в нем негодяя не потому, что наивна, а потому, что он и в самом деле не бессердечный негодяй, не опытный совратитель, он сам достаточно инфантилен. В дальнейшем действии функция шпаги претерпевает ряд метаморфоз, пока не наступает главный и самый волнующий эпизод, пока шпага не оказывается в руках Жизели. Она пытается с ней играть, она пробует ею заколоться. Тяжелая шпага с длинным и острым клинком в слабых руках тоненькой девушки – это, конечно, поражающий режиссерский ход, ярчайшая метафора перевернутого сознания, перевернутого мира. Нечто подобное стало доступно в кинематографе век спустя, когда кинокамерой управлял оператор Урусевский. Странно сказать, что фильм «Летят журавли» играл в нашем прокате роль похожую на ту, что балет «Жизель» играл в нашем балетном репертуаре.