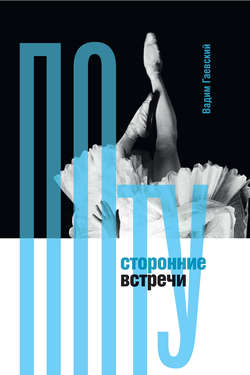Читать книгу Потусторонние встречи - Вадим Гаевский - Страница 5
Предисловие
Пачка Спесивцевой
ОглавлениеВ середине 20-х годов XX века парижский фотограф Борис Липницкий, снимавший классический балет, достиг художественного мастерства, изумляющего еще и сейчас, несмотря на все технические достижения в области фотоаппаратуры. Он стал работать на уровне – и на гонорарах – модных парижских модельеров. В историю балета и в историю фотоискусства вошли две серии его фотопортретов двух русских балерин, вышедших в разное время из одной школы, – Ольги Спесивцевой, недавно ставшей эмигранткой, и Марины Семеновой, только что, в конце 1935 года, побывавшей в Париже на неожиданных гастролях. Спесивцева – в позах из балета «Жизель», возобновленного для нее, Семенова – в позах из балета «Лебединое озеро», фрагменты из которого она показала в концертной программе. Но «Жизель», спесивцевскую «Жизель», танцевала и она, это было центральной частью гастролей. Обеих балерин, естественно, сравнивали, привнося в сравнение и балетоманскую страстность, и политическую нетерпимость («императорская» Жизель Спесивцевой, «большевистская» Жизель Семеновой), в пылу жаркой полемики не замечая того, что следовало бы заметить: графическую утонченность спесивцевских поз, скульптурный драматизм семеновских поз, два образа, два стиля, две эпохи.
Но вот что объединяет эти фотопортреты: виртуозная работа парижского фотографа и петербургская чара балерин; об этом, о парижской виртуозности и о петербургской чаре, будет специально рассказано в дальнейшем тексте. А здесь надо добавить, что обе серии отличаются не только невиданной красотой, им присущ скрытый лирический пафос. Это как бы прощальные фотографии, сделанные французами по-русски: на долгую разлуку. Может быть, нам кажется это теперь, когда мы знаем, что́ вскоре случится в жизни Спесивцевой, вынужденной покинуть Гранд-опера (после неудачной попытки самоубийства), и что́ случится в жизни Семеновой после возвращения в Москву (арест, суд и немедленный расстрел любимого мужа и, соответственно, опала в Большом театре). А может быть, проницательный фотограф что-то такое предполагал и в самом деле.
Но среди этих удивительных фотокартин есть одна (возможно, принадлежащая коллеге Липницкого Рене Виолле), превосходящая все остальные. Это фотопортрет Спесивцевой, снятой во весь рост, в белой сильфидной пачке, в молитвенной позе из второго акта «Жизели». Кажется, что силуэт, поза и пачка составляют одно целое, объединенное линией, тончайшей, как у Матисса или Пикассо, но строгой, как того требует балетная наука. Поразительное единство театральной истории и человеческой судьбы – особенно если знать эту историю, то есть либретто балета «Жизель», и если знать эту жизнь, то есть захватывающий и скорбный сценарий, по которому прожила почти девяносто лет уникальная исполнительница балета. Поразительно достоверное запечатление балетной легенды.
Есть и еще один след балетного мифа. Документальный кинематограф сохранил заснятый любительской кинокамерой первый акт (увы, только первый акт) «Жизели» в исполнении Спесивцевой уже после ухода из Опера и небольшого кордебалета. Спесивцева немолода, спектакль заснят между 1933 и 1934 годами, но никаких признаков близящегося увядания нет как нет, и никакой печати давно ушедшего Серебряного века тоже не видно. Есть балерина, не похожая ни на кого, и есть танец, не совсем обычный. Предельная экзальтация, чуть ли не дансантный экстаз, эмоциональный подъем, эмоциональная воспламененность, нечто подобное тому, что у Достоевского предшествует приступу падучей. Как и сама сцена сумасшествия, в которой спесивцевская Жизель едва не падает и пытается заколоться.
О втором акте, вошедшем в легенду, мы знаем лишь с чужих слов, очень схожих. Почти все зрители говорят о бестелесности балерины, граничащей с чудом. И лишь Юрий Слонимский говорит о другом, о той ярости, с которой Жизель-Спесивцева пыталась спасти своего неверного друга. Мысль Слонимского (моего наставника в далекие институтские дни) мы можем продолжить и предложить в следующем виде: в «Жизели» у Спесивцевой не только яростная защита возлюбленного, но и яростная защита любви; мир вилис для Спесивцевой страшен тем, что отрекся от любви, и таким она видит не только этот старинный балет, но и свое послевоенное время. Это, конечно, вполне естественный ход, впервые сделанный столь страстно. Спесивцева, по-видимому, самая великая заступница любви в современном балетном театре. Анна Павлова, «Умирающий лебедь», танцевала умирание любви; Тамара Карсавина, Коломбина, танцевала лукавство любви; но только Спесивцева танцевала безумство любви, наполнявшее ее безумный – или полубезумный – танец. Манию любви, если вспомнить название, которое Дуня Смирнова дала сценарию своего (и режиссера Учителя) фильма. Но здесь следует покинуть территорию балетного театра и вспомнить о литературе. В те самые годы, когда Спесивцева покоряла Париж, другой эмигрант из России и очень скоро Нобелевский лауреат писал свои несравненные новеллы, в которых любовь представала как последнее прибежище для людей, у которых отнято все – родина, прошлое, будущее, даже собственное имя. Почти как в «Жизели», в ее втором акте. Волнующая встреча прозаика и балерины. Прозаика с могучим и легчайшим пером, балерины с неистовым темпераментом и в легчайшей пачке.
Эта пачка впервые появилась на парижской сцене в 1832 году, в балете «Сильфида», где Сильфиду танцевала Мария Тальони, а сильфидный костюм нарисовал художник Эжен Лами, один из штатных художников театра. Смысл художественного открытия, который сделал он (а вместе с ним и балетмейстер Филиппо Тальони, отец Марии), сразу не был ни понят, ни оценен, потому что поначалу казалось, что длинная белая пачка (которую называли тюником) может быть использована лишь в одном балете и лишь для одной роли – роли Сильфиды. Но дальше все поняли, что белая пачка может не характеризовать конкретную партию, но стать обобщенным символом всего романтического балета. Иначе говоря, белая пачка-тюник смогла рассматриваться как профессиональный костюм балерины (почти так же, как черный леотард-купальник у Марты Грэм и у Баланчина), как знак балеринской профессии и балеринской судьбы, знак избранности и на полет, и на жертву.
И у Спесивцевой высший профессионализм и острое чувство фатальности были не разъединены.
Это она танцевала в «Жизели» – роковая привязанность к мужчине, которая погубит ее, роковая любовь к танцам, которая обернется безумием и будет стоить жизни.
Этим была наполнена ее профильная поза, запечатленная навсегда, поза посвящения, поза моления, а может быть, и поза перед казнью. Бесподобная поза, где все играет и все поет: и тонкие кисти танцовщицы, и ее стройные ноги, и ее нежное неземное лицо, и ее острые выворотные пуанты. И ее силуэт, и ее пачка. Эта полупрозрачная пачка своеобразным панцирем оберегала Спесивцеву, защищала ее. От чего? От искушений нового балета 1910-х годов, но и вообще от любых искушений. Конечно же, он был полон всяческих, особенно декоративных искушений, этот новый балет, балет Серебряного века. Балет Михаила Фокина, Александра Бенуа, Льва Бакста – Льва Бакста более всего, с его опьяняющей, чувственно утонченной и дразнящей, чувственно перенасыщенной красочной палитрой. Тут не было воздуха, в этом сине-красно-зеленом мареве, который сотворил Бакст, в этом сине-красно-зеленом гареме, который он соорудил на сцене, одни лишь вспышки яростных вожделений. А пачка Спесивцевой как бы из воздуха сотворена, как бы наполнена воздухом, как бы рисует по воздуху свои удлиненные полуовалы. Тут нет и не может быть никакой пламенеющей экзотики, никаких одалисок, или гурий, или других соблазнительных дев, никакого сладостного изнеженного Востока. Тут строгая европейская красота, красота нежного славянского рисунка. Сразу и гордость, и смирение, сразу и недоступность, и кротость.
Но вспомним Пушкина: «Затем, что ветру и орлу / И сердцу девы нет закона». Слова Пушкина приходят на ум, когда узнаешь, что за побегом Спесивцевой из Петрограда в Париж (а, в сущности, это был побег, хотя и устроенный как командировка) стоит не кто-нибудь, а сам этот неистовый искуситель, один из вождей нового балета, творец нового красочного театрального костюма, оппонент пачек, пуантов и академических поз, иначе говоря, Лев Бакст, почти шестидесятилетний Лев Бакст, которому жить-то осталось меньше года. Но вот же – сманил, одурманил, очаровал, совсем не только карьерными или денежными перспективами. Париж, сначала у Дягилева, потом в Гранд-опера, принес ей славу, невиданную, долгожданную славу, но именно здесь ее настигли первые приступы душевной болезни. Во время репетиции, после нервных объяснений с Сержем Лифарем, она попыталась шагнуть в открытое окно, ее удержали, спасли, но продолжать работать в театре стало невозможно. Потом ее подхватил барон Дандре, да-да, тот самый барон Дандре, злосчастный муж (а ныне вдовец) Анны Павловой, попавшийся на взятках. Благородная Павлова тогда все оплатила, все постаралась загладить и как-то завершить, чтобы потом навсегда уехать из России. Теперь же Дандре руководил оставшейся без хозяйки гастрольной труппой и провел запланированное турне за океаном. Но в Австралии случился рецидив, Ольга ушла из гостиницы, долго куда-то шла по дороге, и здесь окончательно оборвалась ее сценическая жизнь, а через некоторое время, уже в Нью-Йорке, на двадцать лет прервалась ее жизнь на свободе. Выйдя из клиники, она попала на ферму Александры Толстой, где получали приют многие русские эмигранты, обрела сознание, обрела душевный покой, стала мастерить куклы, стала петь, и вдруг оказалось, что у нее поставленный голос. И что замечательно в этой истории, что придает трагически сложившейся жизни таинственный окончательный смысл, так это то, что Карлотта Гризи, первая Жизель, для которой балет и был создан в 1841 году, в начале карьеры выступала как оперная певица и даже пела в Париже.