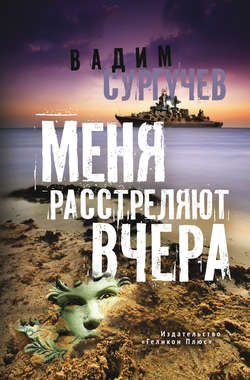Читать книгу Меня расстреляют завтра (сборник) - Вадим Сургучев - Страница 12
Юго
роман
Часть 2
Глава 2
ОглавлениеДни растянули в один. Закольцевали бесы и катят по кругу. Я не знаю дней недели, я могу приехать на работу, а закрытая офисная дверь напомнит, что сегодня выходной. Я в полёте-в-себя, наверху делать нечего. И дышать нечем. Выгляну иногда, выпью кофе из твоей кружки, не мытой с последнего твоего касания, вдохну выдохнутый тобой воздух и – опять в себя. А ночами светло – наверное, снежит, вьюжит, выбеливает кристаллами чьих-то замёрзших слёз. Моих? Нет, я не плачу. Я лишь тихонько выглядываю в окно – не оставлен ли знакомый след носочком в сторону дома? Я не плачу, я лишь нахожу себя выхваченным из дрёмы, сидящим у входной двери.
У продавщицы из магазина напротив – мы с тобой давно её знаем – твоё имя. И у моей начальницы. И у почтальонши тоже. И у почему-то мокрой подушки. А я пишу тебе – что мне остаётся, кроме этого? Ты не отвечаешь. Не доходят письма? Сломалась почта или замёрз почтальон? Хотя нет – электронный почтальон не мёрзнет. Наверное.
Ты молчала в ответ на мольбы: «Знаешь, попытался обрести разум, сидел за кофе и пачкой сигарет. Один. Думал. У меня совсем нет сил не любить тебя. Я хочу сказать, что правда не могу без тебя. Не умею. Дай мне, пожалуйста, один шанс. Я постараюсь тебе доказать, что я не настолько плохой и бесчувственный. Я стану тем, кем скажешь. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Я сделаю. Только давай мне иногда знать, как ты живёшь и всё ли у тебя хорошо. Я не жалуюсь, нет. Каким я должен стать? Каким? Скажи – стану. Скажи: никогда больше ко мне не прикасайся – не коснусь. Только вернись. Только проснись. Ответь только! И только не проси не думать о тебе. Только не проси не любить. Не кради у меня, не забери у меня маленькой частички тебя».
Молчала.
* * *
Молчала и на это:
«Прочертил мелованной мыслью круг вокруг. Внутри окружённые – мы, что снаружи – не знаю, неинтересно. Хорошо помню твои добрые, мягкие руки, что качали меня и пели колыбельные песни. Я кривил беззубый рот, а ты кормила меня из себя, и я, радостный, замолкал. Расслаблял во сне свои несерьёзные ещё мускулы и пачкал пелёнки, а ты не ругалась, молча мыла меня, меняла бельё и шла стирать. Гуляли с тобой – ты катила меня в коляске и рассказывала первые сказки о разнице добра и зла. Я внимательно сосал соску и морщил розовый лоб – слушал. Потом я пошёл в школу и ты, вручив мне огромный букетище, пошла рядом, а чтобы не боялся, мягко обняла своей ладонью мою – и я не боялся.
Ты не ругалась, когда я приносил из школы двойки или приползал домой с расшибленными коленками. Мазала меня зелёнкой и, чтобы не показал нечаянно, что не совсем ещё мужчина, дула тёплым на раны – и я казался себе терпеливым маленьким мужчиной.
На Восьмое марта я вырезал аппликации из открыток, клеил на тетрадный листочек и размашисто вырисовывал свою к тебе любовь, а ты плакала. Плакала, но моё сердце не сжималось – я видел, что глаза твои счастливы.
Помню, впервые влюбился, как мне казалось, смертельно. Но не любили меня – думал, умру. А сзади подошла всё понимающая ты и просто положила свою тёплую ладонь мне на волосы, потеребила их легко и прижала к себе. А я рыдал, рыдал без удержу. Но умирать передумал.
Много раз потом происходило страшное, смертельное, но всегда случалось исцеляющее чудо. И имя ему – мама.
Ты – моя мама.
Сестра-ровесница, рядом родное сердце красавицы, от блеска которой не гибну в округе лишь я, – мне всегда было хорошо с тобой просто болтать о жизни и болтаться дотемна по городу. Ты не стеснялась моей неказистости, нет, напротив – никогда ни словом, ни взглядом не давала мне этого знать, подбадривала меня, говорила, что красив, но я видел себя в зеркало – спасибо тебе, родная, спасибо, я тебе иногда верил, мне так хотелось тебе верить.
Мы росли, и у тебя стало так влекуще всё округляться, ты превращалась в маленькую женщину. И почему-то этого стеснялась, опускала своё раскрасневшееся лицо всё ниже и ниже, особенно когда вокруг тебя стаями кружили сопливые ещё – и не очень – якобы поклонники.
Я не давал тебя обижать, как мог не давал. Помнишь, я пришёл домой с разбитым, свёрнутым набок носом? Я сказал, что упал с турника, а ты ревела, ругалась и пыталась дрожащими пальчиками набрать номер «Скорой помощи». А их просто было много, они стояли во дворе и говорили о тебе гадости, а я услышал.
Много позже, когда меня уже долго не было дома, у тебя случилась, как ты сказала, настоящая любовь. А я ревновал. Не говорил тебе, да и сейчас не скажу, но ревновал. Не физически конечно, а от тоски по прежней тебе, которой ты больше не будешь.
Сестрёнка моя любимая, когда мне плохо и остаюсь один, я представляю, как мы бредём с тобой рядом тихо и нежно туда, где меньше людей, и долго стоим у реки, молча вжавшись друг в друга, и гадаем: льдинки ли плывут по речке или маленькие веточки. И мне становится так тепло и спокойно, что откуда-то берутся силы жить дальше.
Ты – моя любимая сестричка.
Я так долго тебя ждал, я столько выкурил кислых сигарет, проводя томительно-резиновые минуты у окон родильного дома, вытоптав там целое футбольное поле, что когда ты появилась и тихонечко пискнула, заставив дребезжать стёкла окон в округе, помню, меня качнуло и я рухнул, зарыдав от счастья.
Дочка. Доченька. Маленькие платья для твоих куколок, твои платьица, которые чуть больше кукольных, – маленькая хозяюшка нашего дома, деловая и наивно-серьёзная. Везде у тебя порядок. Ты не любишь, когда я разбрасываю после работы свою одежду. Но не ругаешь, только морщишь маленький лоб и развешиваешь по местам мои рубашки и штаны – хозяюшка.
Отдаю тебе всё. И время своё, не всегда свободное. Заботу и нежность. Хоть я жесток порой – жизнь требует, – на тебя у меня нежности хватит. Придёшь домой, внутри, на душе, словно свалка мусора, а тут ты улыбаешься, на верхней губе застывший рубин родинки – тонкий простенок меж радостью и горем, и я чувствую, как кто-то заботливо прибрал в моей душе, как зацвели там, в бывшей грязи, ромашки, так на тебя радостную похожие.
Люблю носить тебя на руках, а ты залезаешь маленькими ладошками мне под рубашку, щекочешь, перебирая мои волосы на груди, тебе весело, а я полумёртв от счастья.
Когда, бывает, бредёшь, спотыкаясь о жизнь, случайно останавливаешься у пропасти, балансируешь, не особенно, в общем-то, желая удержаться, я вспоминаю тебя, родная, и понимаю – мне есть для кого жить. Это понимание меня всегда отбрасывает от обрыва.
Ты – моя любимая и единственная доченька. Спасительница маленькая, целительница, не осознающая пока своего дара.
Когда мы зацепились взглядом друг за друга, не знаю, как ты, а я сразу понял – эта девочка будет моей, она уже сейчас моя и всегда была моей, она и рождена для меня. А я для неё. Я всё в тебе уже знал, видел, трогал, слышал – и всё это уже любил. И ты тоже меня и моё знала – я не ошибся. Хочу жить-прожить с тобой, сколько не жалко Небу. Сколько бы ни отсыпано было – всё приму с благодарностью. Минута, до краёв наполненная твоим голосом, – это год счастья. Немного посидишь рядом с тобой, положив на плечо голову, – могу не спать три ночи подряд, столько черпаю в тебе сил. Подержу за мягкую ладонь – и в городской смог врывается чистый лесной ветерок. Загляну в глаза – солнышко встаёт над нашим часто унылым и грустным городом. Я тебя люблю, ты – моя жена.
Дочерчен мелованной мыслью круг. Зазеркаленно отражает внутренность себя – меня и тебя. Кто-то третий промеж нас, кто-то ласково третий. Это счастье меня в тебе. Это блаженство тебя во мне. Это ребёночек наш общий, мы выстрадали его – это Счастье наше».
И только на покаянно-успокоенное письмо моё из уже второго, пожалуй, десятка, ответила. Вот на это:
«Мне так хочется посидеть с тобой рядом. И не смотреть в любимые глаза, не смотреть. Как это больно – сгорать в их губительном для меня пламени и знать, знать, что никогда больше они не взглянут на меня ласково.
Просто посидеть и тихонечко поговорить с тобой.
Я мог бы кинуться тебе в ноги и молить о прощении.
И я мог бы все твои претензии ко мне – знать бы ещё их в лицо – опровергнуть. Мягко или резко. И в том и в другом случае – поверь! – мне есть что сказать.
Я не хочу, я не люблю, я не могу оправдываться. И я не могу и не хочу опровергать тебя.
Я хочу просто тебя слушать. Я не буду жаловаться и рассказывать о своём состоянии – я не очень то уверен, что тебе это интересно. Ты что-то говорила про своё умение ставить себя на место другого. Если это так – а это, видимо, так, – ты не можешь не понимать моё состояние подвешенности за горло.
Понимаешь, и всё-таки молчишь.
Что ж, я всё равно не перестаю тебя безумно любить, безбашенно обожать и боготворить. Не перестаю и не перестану.
Но я не жалуюсь – зачем? Я просто не могу без тебя жить – уже! Я просто не представляю себе мир-без-тебя – уже!
Я просто хочу посидеть с тобой рядом. Просто послушать. Прости меня».
Ты ответила почти сразу:
«Мне очень трудно сейчас. Такой период. Нужно быть одной. Если любишь – поймёшь». Это был твой ответ. А между тем прошло уже два месяца с тех пор, как ты неожиданно улетучилась, и на улице почти перестали скрипеть чужие шаги в сугробах, уже сопливила капель.
Кажется, тогда от такой объёмной безысходности и непонимания я взвыл и придумал написать тебе первое письмо. От Юрки. Это был контрастный шаг, мне казалось, что именно такой приведёт к изменению ситуации. Тогда я ещё не мог знать насколько далеко можно оказаться от истины, находясь в то же время рядом с ней. Слепая влюбленная ярость.