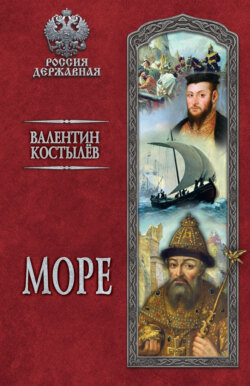Читать книгу Море - Валентин Костылев - Страница 7
Часть первая
Глава VI
ОглавлениеВ приемных покоях митрополита Макария людно, но тихо. Собравшиеся здесь игумены, монахи, белое духовенство, дьяконы, пономари и просвирни перешептываются о том, что митрополиту стало хуже. Недуг усиливается.
Предвидя скорую кончину митрополита, духовные лица тайно судили, всяк по-своему, об умирающем архипастыре.
Одни, уединившись в сторонке, обвиняли митрополита в том, что он, якобы честолюбия ради и по робости духа, потворствовал царю, не наставлял его «на путь правды и добра, как Сильвестр и Адашев». Ведь Макарий стал около царя с тринадцатилетнего возраста его. «Хитрец он, – говорили они, – руки умывал, подобно Пилату, видя жестокость государя, и тем его портил».
Другие, наоборот, восхваляли митрополита, говоря о его мудрой кротости и справедливости, называя его «тихим деятелем, егоже любит Бог». Они отвергали обвинения, возводимые на Макария, в честолюбии, напоминая о том, что сам митрополит много раз отказывался от своего сана, прося царя отпустить его в монастырь, чтобы провести остаток жизни «в молчальном уединении».
Они напоминали и о том, что мудрейший из старцев, Максим Грек, восхвалял «христолепную тихость, кротость и книжную ученость» болящего первосвятителя.
Третьи указывали на преклонный возраст Макария. Может ли немощный восьмидесятилетний старец обуздать объятого страстями буйного, грозного царя? Благо, что он никогда не льстил царю и не унижался перед ним. Сан митрополита держал с честью двадцать один год. Прежние митрополиты не могли продержаться на первосвятительском месте и двух лет.
Духовенство собралось для встречи царя с подобающей торжественностью.
Немногим из московского духовенства выпало счастье удостоиться чести лицезреть в этот день Ивана Васильевича.
На иеромонаха Димитрия Толмача было возложено блюсти чин этой встречи. Толмач ранее слыл помощником Максима Грека, мужа ученейшего и своей мудростью привлекшего к себе внимание великих князей Ивана Третьего и Василия Ивановича. После великокняжеской опалы, павшей на Максима Грека, Димитрий Толмач был бесстрашно взят митрополитом Макарием к себе на подворье. В благодарность Толмач посвятил митрополиту свой перевод псалтыря Бруно, епископа Вюрцбургского, за что Макарий его щедро одарил.
По пути следования государя от дворца до митрополичьего подворья Грязной расставил самых видных стрельцов с секирами. Они стояли в ожидании царя будто вкопанные – строгие, неподвижные великаны.
Пригревало полуденное солнце. Золоченые купола кремлевских церквей пламенели в вышине, похожие на громадные светильники, уходящие языками огней в голубую высь…
По сторонам устланной коврами дорожки, где должен был следовать государь, стояли с непокрытыми головами кремлевские жители, вышедшие из домов поклониться царю.
Иван Васильевич, опираясь на длинный посох, появился на Красном крыльце дворца, окруженный рындами и боярами.
На нем бархатная, широкая, опушенная соболями шуба, бобровая шапка, осыпанная драгоценными каменьями.
Ступал он тихо, медленно, в задумчивости. Иногда останавливался. Внимание его на минуту привлекла стая белоснежных голубей – закружилась, взлетела высоко над собором Успенья. В стороне, на кремлевском дворе, царь увидел толпу ратников. Они волокли на плечах бревна. Остановился, покачал головой, видимо чем-то недовольный, двинулся дальше по дорожке к собору. Провожавшие его вельможи подобострастно замедлили шаг, боясь забежать вперед. Они не спускали глаз с высокой фигуры царя, робко поглядывали на его шею, слегка прикрытую подстриженными скобою волосами. Шея сильная, жилистая, говорит об упрямстве и властности. Такая шея может склониться только перед Богом.
Боярин Воротынский Михаил Иванович, как и другие бояре, угнетаемый страхом и угодничеством перед царем, шел и думал: «Кто же ныне мы? Чего ради мы ходим по его пятам, как стадо несмысленное?!» Не торопясь, исподволь, унизил царь княжескую знать… Их же, боярскими, руками писал новые законы, их же, боярским, усердием судил неугодных ему бояр и князей.
А теперь проснулись, но уже многих не нашли в своей толпе… Их не стало. Кое-кто еще есть. Не заржавели мечи у князей. Но где вожак? Тому делу голова нужна. Вся надежда на Курбского.
И не один Воротынский за спиною царя втайне размышлял о Курбском. Не настал ли час? Смерть митрополита выбьет царя из колеи. Церковь осиротеет, ослабнет. Поддержки царю не будет. Самое время боярам и князьям поднять голос. Царь Иван Васильевич не таков, чтобы останавливаться на полдороге. Ни дед его, ни отец, ни мать, великая княгиня Елена, так круто не поступали с ближними к ним вельможами. Вот уже казнен прославившийся воинскими подвигами брат Алексея Адашева, окольничий Данила Адашев, со своим двенадцатилетним сыном, казнены родственные Адашеву трое Сатиных, казнен Иван Шишкин, убиты Юрий Кашин и боярин Дмитрий Курлятев да и еще кое-кто. Страх и ожидание еще худших дней носятся в воздухе. Все потеряло ценность. Ни богатство, ни наряды, ни пиры, ни праздники, ни почет и знатность – ничто не радует. Все разом может рухнуть, обратиться в прах.
«Страшно! Смотришь на жену и думаешь: “Долго ли, голубка моя, придется тебе жить с супругом твоим, Богом тебе предназначенным? Не увезут ли от тебя его и не срубят ли ему головушку неповинную, незнамо почему, незнамо за что?” Взглянешь на дите, и сердце захлестнет тоска смертельная: “Что-то с тобою в те поры будет, злосчастное мое дите?”».
День прошел – и слава Богу; угождать царю надо пуще прежнего, смиренно кланяться, с пристрастием улыбаться, во всем выказывать свою покорность, при всяком удобном случае унижать себя «в угоду тирану»
Тяжелые, мучительные думы. Воротынский еле передвигал ноги от душевной усталости.
Остановившись около митрополичьего подворья, Иван Васильевич оглядел с унылым, недовольным видом толпу своих провожатых. Бояре низко поклонились ему.
В это время, распевая псалмы, навстречу государю вышли архипастыри в полном облачении; впереди всех с крестом в руке выделялся игумен Чудова монастыря, старец Левкий, снискавший особое расположение царя.
Приняв благословение от Левкия, Иван Васильевич в сопровождении духовенства направился в покои митрополита Макария. Митрополит принял государя, лежа в постели. После взаимных приветствий царь и митрополит пожелали остаться одни.
– Стар я, государь, мой батюшка… Стар и немощен. Видать, уже и с постели не подняться мне. И молитва не помогает. Давно жажду повидаться с тобой, батюшка Иван Васильевич. И лекари твои не помогли… Видать, Господу Богу угодно прибрать меня… Пожил я… устал… Прощай! Совесть моя спокойна. Молитвою послужил родине. Не страшусь предстать пред Всевышним.
Иван Васильевич сел около митрополита, участливо посмотрел в его исхудалое, морщинистое лицо.
– Многоценная жизнь твоя, – тихо произнес он, – во благо царю и всей земле нашей! Твоя паства, как цветы от солнечного согревания, растет и множится. И счастье и страдания твои меркнут перед тем, что содеяно тобою. А мои дела ничтожны перед теми страданиями, что выпали на мою долю. Сделанное вчера – сегодня разрушается, и кем? Моими же людьми. Что сделаю завтра – не могу верить в незыблемость того. Твои дела всем видны и никогда не забудутся!.. Своими писаниями ты говоришь с веками.
Царь встал, прошелся из угла в угол по келье. В глазах его – тревога, подозрительность.
– Ангелы восхваляют имя твое, ты добр и милостив. Ради тебя, святой отец, снял я опалу с бояр… Простил Ивана Кубенского, князя Петра Шуйского, князя Александра Горбатого, Федора Воронцова, Димитрия Палецкого и других. Их было немало. Простил я и Семена, и его сына Никиту, то бишь князей Лобановых-Ростовских. Оба они были пойманы на явной измене. Я по слову твоему помиловал их.
– Помню, Иван Васильевич, помню, родной наш государь… Бог спасет тебя, батюшка!
– Увы, отец мой! Ведомо мне – князи те тайно сносятся и ныне с Литвою. Готовят гибель мне и посрамление нашему царству.
– Слыхал я и такое, Иван Васильевич… Правда ли? Не изветы ли их врагов?
Царь задумался. Видно было, как подергивается его плечо. Митрополит знал, что это обозначает сильнейшее волнение у царя.
– Клеветники есть… Проклятие им! Запутали. Ни один владыка не уберегся от увития сих ядовитых змей… Где сила, власть – там и клеветники! Не раз пытались они оклеветать и тебя, но я оттолкнул их от себя, жестоко наказал… Но могу ли я быть глухим к доказчикам? Что ты скажешь мне, святой отец, о дворянине Скуратове-Бельском, о Малюте?
Макарий слабо улыбнулся и тихо проговорил:
– Знаю я его… Мой богомолец. Благословил я его на службу тебе, государь… Упрям он, жесток, но предан тебе…
– То и я мыслю. За воинское дородство приблизил я его к себе. Он недруг мятежникам, правду молвил, преосвященный отец наш.
– Сила Святого Духа буди над вами!.. Пришли, государь, его ко мне ради смертного моего поучения. Блажен муж, еже печется о своем отечестве. Смягчить его сердце хотел бы я перед кончиною.
– Скажи мне, святитель, не есть ли грех в том, что восхотел я на службу свою, царскую, посадить чужеземца, латинской веры, душегуба морского, дацкого разбойника, коему поручить задумал я бережение наших судов в Западном море?
– Трудами чужеземцев не гнушались… древние пророки и цари. Вспомним Давида и Иисуса Навина… И ты бы, государь, вспомнил и своего деда и отца. Они в супруги взяли иноземок… И да благословен будет путь твоих кораблей, ибо то ко благу нашего царства.
Оба перекрестились.
– Друкарей[9] и рухлядь всякую словолитную из-за моря умыслил я к нам вызволить.
Митрополит через силу приподнял голову с подушки. Пристально остановил на лице царя свои впавшие от худобы глаза. Задыхающимся, больным, старческим голосом, тихо, с остановками рассказал: первопечатник Иван Федоров заканчивает «Апостол», но чем ближе к концу его работа, тем больше врагов становится у Печатного двора. Уже не раз пытались неведомые люди поджечь его. И на Федорова было ночное нападение подле Неглинки-реки.
Выслушав до конца жалобы Макария, царь гневно произнес:
– Крамола и здесь!.. Злодеи не ведают, что творят. Не от разделения ли и несогласия, не от гордости ли и самочиния распалось Израильское царство? Коли поймаем поджигателей, медведями я затравлю их.
Он с горечью поведал митрополиту о кознях своих врагов: не идут в открытую, а действуют исподтишка, подпольно пуская в ход обман, лесть, лицемерие. И сила их велика. По городу и государству ходят всякие слухи, суды и пересуды о войне. Иван Васильевич вспомнил митрополита Даниила. Во время княжения Ивана Третьего Даниил жестоко осуждал «завистников, поругателей и клеветников».
«Какую хощеши милость приобрести, – говорил Даниил, – иже зря некиих в течение жития сего настоящего осуждаешь, клевещешь и поносишь и других на это наводишь, яко лукавый бес?»
С негодованием передал царь митрополиту гадкие сплетни о нем самом; о том якобы, будто он, царь, предается содомскому греху с Федором Басмановым. О царице также всякую небылицу болтают враги царского дома. А ему, царю, ведомо: сплетники же из знатных, древних родов, и он, царь, признается – трудно ему бороться с клеветниками. Тайный враг страшнее явного.
Митрополит, слабо улыбнувшись, сказал: и про него непотребное болтают люди, предают хуле и его, святителя. Даже в глаза ему говорили, будто он не митрополит, не святитель, Богом избранный, а царский холоп, бесчестный угодник и ласкатель. И «Степенную книгу» написал будто бы неправедно, возводя на незаслуженную степень родословную Ивана Васильевича; и святых канонизировал в угоду московскому великому князю; Александра Невского причислил к лику святых якобы единственно ради того, что он предок Ивана Васильевича, како и великие князья московские; и печатное дело завел в угоду царю, «хотящему властвовать едиными печатными законами повсеместно и единым молением во всех селах и городах по его, царским, печатным богослужебным книгам…».
Великое, доброе дело ставится ему, Макарию, в укор!
Иван Васильевич слушал митрополита, гневно сдвинув брови, дрожа от негодования.
Он ясно представляет себе, какая угроза нависла над всеми его делами… А по лицу его ближайшего помощника и друга – митрополита видно, что недолго осталось ему жить. Смерть стоит за его плечами.
– Нет. Нет! – как бы про себя сказал царь и, обратившись к Макарию, произнес: – Новый лекарь объявился у меня знатный… Немчин из Голландии, Елисей Бомелий… Пришлю к тебе… Ты должен жить. Не покидай меня. Не умирай!
Иван Васильевич вдруг стал на колени, припав губами к холодной, морщинистой руке митрополита.
И как бы спохватившись, добавил:
– Благослови!
Порывисто склонил голову.
Макарий, застонав, снова приподнялся и трясущейся рукой, со слезами на глазах перекрестил Ивана Васильевича. Царь взял худую, морщинистую руку митрополита и крепко прижал ее к своим губам.
Вышел царь от митрополита гневный, мрачный. Бояре, рынды, монахи в страхе склонили свои головы перед ним.
* * *
Накануне отъезда в Дерпт Курбский собрал у себя своих друзей. За столом, уставленным кувшинами браги и меда, разгорелись горячие споры, перешедшие в пререкания.
Курбский много говорил о тихости и покорливости бояр, напуганных казнями, упрекал своих друзей в бездеятельности. Он осуждал упорное молчание Боярской думы, по его мнению, бездеятельной.
Казначей – боярин Фуников – попробовал возражать Курбскому:
– Не порочь нашей Думы, князь, не виновна она. Коли тиран изведал крови, то уж его так и тянет к ней… Его не остановишь! Дума в загоне!
Презрительно сощурив глаза, выслушал его Курбский и вдруг сердито крикнул:
– Умолкни, боярин! Легче мне было бы язвы сносить в ушах своих, нежели слышать такие речи. Дума в загоне! Побойтесь Бога.
Сутулый, рыжий, с блестящей от масла, расчесанной на пробор головой, Фуников имел жалкий, пришибленный вид. Гнев Курбского устрашил его. Да и остальные бояре и воеводы притихли, с робостью поглядывая на князя.
– Кровь за кровь – вот мой закон. Вы забыли, что лишил он князей власти, земли, чести, принизил древние, освященные церковью и ратной славой княжеские роды… Он вам головы рубит, а вы по старому, мудрому обычаю и отъехать из государства не можете!.. И уж от Думы отрекаетесь! Не так ли говорю я?
Лицо Курбского исказилось злобою, сделалось страшным. Глаза, казалось, вылезают из орбит от крика.
Тяжело переводя дыхание, Курбский продолжал:
– Он изведал кровь… А когда же мы изведаем его крови? Вы, князья, бояре, воеводы! Пошто вы держите меч в ножнах? Было время, когда вся сила ратная воевала лифляндские земли. А хан перекопский шел к Москве. Вы упустили то время, а ныне плачете. Плачьте же! Проливайте слезы о том, чего не вернешь!
– Обожди, князь, дай мне слово молвить, – замахал на него обеими руками старик, архиепископ Новгородский Пимен, только что прибывший из Новгорода якобы для того, чтобы навестить болящего митрополита Макария.
– Говори, – кивнул ему Курбский, продолжая стоять, тяжело дыша и окидывая всех недобрым взглядом.
– Новгородские священнослужители, воинские люди, торговые гости, дьяки, подьячие и весь наш народ крепко стоят на своем… Не нужен им московский царь!.. Не признаем мы его… Не худо было бы московским вельможам придерживаться батюшки Великого Новгорода, а не вилять хвостом туда и сюда. Кто древнее: мы или Москва?
Лицо Курбского просветлело.
– Истинно молвил преподобный отец! Нам, князьям, боярам и всем московским служилым людям, прибыльнее стать на дороге тирану заедино… плотною стеною, но не помогать ему душить древний Новоград. Москва неразумное дитя перед Новоградом.
Архиепископ Пимен шепнул соседям, будто новгородские торговые люди уже ведут тайный сговор с литовским королем, чтоб ему отдать Новгород и Псков. И то будет на пользу Русской земле и во вред царю Ивану.
Курбский назвал имя некоего Козлова. Хвалил его за расторопность: он-де ловко обманул царя Ивана, будучи посланным к королю Сигизмунду, остался у короля на службе. Ныне этот Козлов ищет друзей среди московской знати. А чтоб иметь связь с ним, надобно не заметно ни для кого сходиться у давнишнего друга его, Курбского, у Ивана Мошнинского, что живет под Москвою, в селе Крылатском.
Гнев Курбского, после слов архиепископа Пимена, смягчился. Пимен сразу раскрыл главную тайну сегодняшнего сборища.
– Буде хныкать, – строго произнес Курбский. – Пора и за дело взяться. Лихое лихому, а доброе доброму… Доколе жив великий князь и его пагубные ласкатели – жизнь родовитых князей и их семей в опасности. Положим сему конец!.. Уезжаю я в Дерпт, а вы не теряйте времени… сжимайте кольцо ненависти своей вокруг московского князя и его двора… Из Лифляндии явлюсь я к вам со всею своею ратью. Помните: митрополит Макарий на смертном одре… Схороним же вместе с ним и царскую корону. Новгород изберите своим родным гнездом. Кого же нам поставить во главе сего святого заговора?
Раздались голоса:
– Князя Владимира Андреевича! Кого же иного?
Курбский поморщился:
– Добрый он человек, да не смел, робок… и не надежен… Не тверд он!
С удивлением взглянули на него бояре.
– Не надежен? – воскликнуло несколько голосов.
– М-да… – раздумчиво повторил Курбский. – Не надежен. Я так думаю: у сего дела должен стать достойнейший из всех нас, боярин Иван Петрович Челяднин-Федоров…
Курбского поддержало несколько голосов.
Сам Челяднин, грузный, высокий боярин, погладил свою широкую бороду, задумался, храня молчание, хотя к нему были обращены взгляды всех присутствующих.
– Иван Петрович, друг, отзовись! – толкнул его в бок боярин Бельский.
Очнувшись от раздумья, Челяднин тяжело вздохнул:
– Ненадежный народ ныне появился и среди бояр… Эх-эх-эх! Дожили! Сами на себя ножи точим. Как людям верить-то? Около святых и то черти водятся. Так и во Святом Писании свидетельствовано.
– Мы все поклянемся тебе в верности! – сказал Курбский. – Не так ли? Клянемся?!
Со всех сторон понеслись голоса: «Клянемся! Слово перед святым крестом дадим! Клянемся, батюшка Иван Петрович!»
– Мне жизни своей не жаль. Пожил – ни много ни мало – шесть десятков лет с небольшим, можно и в домовину. И не о том я… Дороже жизни мне честь! Иван Васильевич не обижает меня, честит, жалует; обижаться на него не могу. Однако продавать себя царю не желаю. Прав Андрей Михайлович – недалеко то время, когда всё у нас возьмут…
– И жизнь отымут! – крикнул Курбский.
– И жизнь отымут, как отымают наши наследственные уделы… Кто такую власть дал московским великим князьям, чтобы в грязь топтать княжеские роды? Никто не давал. Разбойным промыслом завладели!
– Истинно! Похитили они власть обманом и коварством, – снова подал свой голос Курбский.
– Верно ты молвил, Андрей Михайлович, безмолвствует Боярская дума, не к месту, не ко времени притихла… Растет и множится своеволие Ивана Васильевича… Не в меру разошелся царек. На што нам война? Што нам море? Буде, побаловали. Што накрошил, то сам и выхлебывай!
– Золотые слова, князь! – воскликнул с усмешкой Фуников.
Челяднин обвел хмурым взглядом окружающих.
– Первым боярином и судьей посадил меня царь на Москве, но што я буду делать, коли не лежит у меня душа к похитителю нашего державства?.. Все, што делает он, не по душе мне…
Курбский оживился, голос его прозвучал восторженно:
– Мудрое слово сказал: «державство»! Мы на Руси должны править, наша – держава!
– Мы князья, мы большие воеводы, бояре, а ни земли, ни рати, ни судов своих не имеем… Нашего ничего нет. Всё его! Законно ли так? Справедливо ли? И меня он недавно лобзал, обнимал. Иудины ласки! Сладкими речами обволакивал он меня… Добивался измены старине. Не поддамся я тому соблазну… Нет!
– Обманщик он! – рявкнул Челяднин. – Сегодня поставит первым воеводою, а завтра казнит!.. Подальше от его добродетели.
– Проклятие! – послышалось со всех сторон.
Глаза у всех разгорелись, волнение охватило даже спокойного, покладистого Фуникова. Репнин, топнув ногой, крикнул в исступлении:
– Перекопского хана позвать. Выдать хану кровопивца. Смерть убивцу!
Курбский зашикал на него:
– Тише, не шуми, дядя Михаил! Хан будет!.. В Москву придет… Тише! Литовские люди мне весточку передали через Колымета Ваню… Хан давно ножи на Ивана точит.
Сразу настала тишина. Испуг появился в глазах некоторых бояр. Страшились московские вельможи татарских набегов. Татары обращали в пепел и боярские вотчины, делали нищими богатых, а то и жен и детей в полон уводили.
– Ладно ли будет так-то?.. – покачав головою, возразил Челяднин. – Не прогадать бы?
Курбский внимательно осмотрел своих гостей. Остановив взгляд на архиепископе Пимене, спросил его:
– Преподобный отец, благословишь ли на то дело?
– Нет. Негоже то. Единоборство с христианскими князьями, коли к тому нужда явится, в честном бою, не зазорно, а штоб неверных татар, язычников, наводить на своих же – не могу то дело благословить, князь!
Воцарилось тяжелое, неловкое молчание. Курбский не ожидал такого ответа от Новгородского владыки. Ведь он думал, что Пимен его поддержит.
– То же думаю и я… Наводить нехристей на Русь – грешно и бессовестно!.. Да и нам надо подумать, нельзя ли без чужеземцев согнать с престола Ивашку, заковать его в железа и отправить в заточение? Мы против царя, но не против Руси! На вечные времена заточить!.. – поддержал Фуников.
Курбский покачал головою:
– Нет. Не мыслю о боярской смелости, коль помощи от короля не будет… Сила царя велика, он окружил себя собаками, кои обнюхивают каждого честного человека… Бояре не дружны, о том говорил я… своей силы нет у нас. Без короля не сломить нам тирана… Не сломить! Он хитер и решителен.
Курбский пренебрежительно махнул рукой:
– Куда нам! Только король, вместе с… ханом!
Понурив головы, в раздумье, слушали его бояре.
Поднялся со скамьи Челяднин.
– Что там спорить? Добро! Принимаю на себя… Клянусь вам, братья, честно послужить родному делу.
Низко поклонившись, Челяднин снова сел.
Курбский мягко, на носках, подошел к нему, крепко обнял его и поцеловал.
– Господь Бог видит правду… Вседержитель на нашей стороне. Велика его святая воля. – И, обратившись к боярам, сказал: – А мы разве не сила? Поглядите: кто здесь? Вот Михаил Воротынский. Муж крепкий, мужественный, в полкоустроениях зело искусный. Народ его любит. Что воздал ему за службу царь? Ссылку!.. Опалу неведомо за што, неведомо про што… О, князь! Слезы проливали ратные люди, когда услыхали о таковой несправедливости…
Воротынский улыбнулся, вздохнул и тихо промолвил:
– Ну что ж! Бог ему судья! Забудем об этом. А как мы с Владимиром Андреевичем? Чью сторону он примет? Ты, князь Андрей, знаешь ли?
– Нашу! – с твердою уверенностью произнес Курбский. – Был я у него. Когда все пойдут – и он пойдет…
– Правильно молвил князь… Нашу, нашу! – подтвердил Мстиславский. – Тоскует и он.
– Эх-эх, друзья, а как жить-то хочется! Глянем на мир – все движется, все радуется; в Польше у вельмож праздники изо дня в день, а у нас? – покачал головою Курбский.
– А у нас – покойнички. Синодиками об убиенных все монастыри засыпали… – громко произнес архиепископ Пимен. – Что ни день, то список…
– Душа русская пустынею стала, по которой бродит лев рыкающий… скучает о крови… – подал свой голос молчавший угрюмо князь Михаил Репнин, свирепый, ощетинившийся вид которого привел в ужас сидевшего рядом с ним Фуникова.
– Коли ты уедешь, князь, как мы будем тут знать о тебе и ты о нас?.. Кого мы изберем из малых людей, штоб гонцами нашими быть и вести к нам и до тебя доносить? – спросил Челяднин Курбского.
– С Висковатым сговоритесь… Пускай гоняет по посольским делам Гаврилу Кайсарова да Колымета, а я буду засылать своего стрелецкого десятника Меркурия Невклюдова… То люди верные, надежные.
– В которое время ожидать нам весточку о твоем окончательном сговоре с королем? – продолжал задавать Курбскому вопросы Челяднин.
Все с настороженным вниманием прислушивались к ответам Курбского.
– Скоро… не пройдет и сорока дней от кончины митрополита Макария, как прискачет к вам гонец с моим словом… Во Пскове стану я твердой ногой…
– Псковичи и новгородцы с тобою, князь, в огонь и воду! – торжественно заявил Пимен. – Однако и Москве надобно помене думать о земном благоденствии, о чревоугодии и месте близ трона. О душе подумайте, московские бояре, не пощадите себя во имя правды! Вот мой сказ.
– Передай, преподобный отец, новгородцам и псковичам: будем добиваться правды, не жалея себя и детей своих, – ответил Пимену Челяднин. – Всюду будет наша рука: и в приказах и в воеводствах… Увянут в ней законы великого князя… Все пойдет наперекор ему. А коли он и в самом деле поведет в Лифляндскую землю войско, схватим его там и отдадим королевским людям.
– Этого подарочка – увы! – давно ждет король. Он сумеет отблагодарить вас за это… – усмехнулся Курбский. – Иван Васильевич и мне говорил, будто сам собирается идти на войну в ливонские земли… море отвоевывать… Море! Ему нужно море, и во имя сего проливает он моря крови!..
– Морского разбойника себе в товарищи взял…
– Васька Грязной приволок супостата.
– Схожая братия…
– Вору и слава воровская!
– Корабли водить будет в аглицкую землю.
– Порешить бы и его! – промычал Репнин. – Найти бы такого молодца, штоб придушил его где-нибудь…
– Колымет его знает… Пускай подговорит кого-нибудь… Отравить бы хорошо, – сказал Курбский. – Море – королю, нам – суша. Хватит нам своей воды. Через короля мы со всеми царствами сойдемся и по суху… Будешь жить в мире с соседями, весь свет объедешь и со всеми дружбу заведешь: и с дацкими, и с немецкими людьми, и с франками… без моря!
– Да будет так! – оживился Пимен. – Без своих морей новгородцы весь свет объехали, и везде нас знают и любят и золотом платят за наши товары… Москве, сколь ни прыгай, не прыгнуть дальше Новгорода-батюшки… Не посрамить древности!
– Море – бездельная выдумка. Обойдемся и без него.
Сказав это, Челяднин поднялся и, подойдя к Курбскому, обнял его:
– Ну, прощай!.. Храни тебя Бог! Надо расходиться: не подсмотрел бы Малюта со своими поскребцами. Помни, князь, свою клятву… Погибать, так вместе.
– Прощай, добрый боярин, дай Бог нам снова свидеться уже хозяевами на своих землях!
– Дай Бог!
* * *
Дьяки Посольского приказа приметили, что царь Иван Васильевич в последнее время стал чаще прежнего собирать их у себя во дворце. Беседы его были теперь какие-то особенные, не похожие на прежние. Раньше начинал он прямо с дела, отдавал приказы, посылал дьяков, диктовал грамоты иноземным государям. Теперь долго молча осматривал каждого дьяка, задавал вопросы, что этот дьяк думает о Жигимонде, о хане крымском, об Эрике, о Фредерике датском. Его интересовало, как смотрят дьяки на Перссона[10] свейского, прославившегося на весь мир своими лютыми казнями, да и что говорят о том на иноземных подворьях.
А к чему это? К чему такие вопросы?
Однажды царь, указав пальцем на изображение своего деда и тяжело вздохнув, сказал:
– Никто не слыхал о больших делах его, но подвиги его суть деяния истинного властителя; при своей великости они совершались невидимо, а Москва стала видимой всему миру. Разновластие князей, владычество татар, кичливость рода Гедиминова, двурушие Новгорода – всё в тихости, с Божьей помощью, одолел он. Не торопился, но был впереди всех. Державу свою поднял высокою рукою, и мне ли умалять ту высоту? Могу ли я отступиться от дедовских дел? Денно и нощно молю Господа Бога, чтобы мне быть достойным хранителем дедовских заветов. Я хочу заставить моих людей держать крестное целование грозно и честно, по старине.
Дьяки притихли, стояли ни живы ни мертвы, боясь пошевелиться. А царь вдруг спросил Ивана Колымета:
– Не слыхал ли ты, что болтают на немецком дворе о недуге митрополита?
Колымет смутился, челюсти его задрожали:
– Нет, великий государь, не пришлось слышать.
– Ну, а как ты? – Царь указал на другого Колымета, на Михаила Яковлевича.
– Тако ж не ведаю, батюшка-государь, – едва слышно ответил он.
Иван Васильевич, пристально вглядываясь в их лица, молча покачал головою.
Робость нашла на дьяков. Сегодня утром всей Москве стало известно, что прошлою ночью еще два десятка служилых, боярами ставленных людей брошено в пыточную избу. А ведь люди-то те были друзьями многих посольских дьяков. У Писемского часто бывал Юшка Сомов, бывший адашевский дьяк, мало того, приходилось за ним ухаживать, льстить ему, водкою поить. У Никифора Соловья – Кузьма Гвоздев, ближний к Колычевым, сватом был, в монастырь к Сергию преподобному вместе ездили. Иван и Михаил Колыметы у Сильвестра на побегушках были – его похлебцы, а теперь… Страшно подумать. О Курбский! Тебе бы тут быть, да посмотреть, да помучиться! На том весь служилый люд держался. Тоже и Микита Сущёв, первейшим другом Сильвестра был, а дворянин, оружейник Нефедов, и вовсе полгода толкался на усадьбе у Адашева. Да и мало ли кто у кого бывал и кто с кем виделся? А многие даже и детей крестить считали за счастье с ныне опальными государевыми вельможами. А если, бывало, бражничать кто-нибудь из них позовет, так после этого плевать на всех меньших людей хотелось! Господи, Господи, прости ты нас, грешных! Кто не любит под бочком у вельможи пригреться да этою близостью повеличаться, да и выгоду из того извлечь?!
Пот выступил на лицах приказных дьяков. А царь все говорит и говорит – и будто не слова, а булыжники на голову сыплются.
Вдруг Иван Васильевич грозно воскликнул:
– Что же вы притихли? Аль не любы вам мои речи?!
Дьяки вздрогнули.
– Любы!.. Любы!.. Любы, пресветлый государь! Любы!.. – нестройно, испуганными голосами наперерыв закричали дьяки, и все как один стали на колени, сделав земные поклоны.
Брови Ивана Васильевича гневно сдвинулись.
– Смотрите! Вы думаете, царь – простачок и ничего не знает! Ошиблись! Помилосердствуйте. Уделите кроху ума и государю! – Язвительная улыбка мелькнула на лице царя. – Всех переберу, докудова зло не измету! Наш извечный враг король Жигимонд далеко от нас… но я вижу его, собаку, как он бегает в ваши подворотни, хвостом вертит и скулит… смущает вас. Изменою захотел развалить наше царство… но Бог никогда не забывал Русской земли… Всевышний по вся дни помогал нам, видя скорби наши.
Долго и гневно говорил царь. Изо всех его слов, к которым с жадным любопытством прислушивались дьяки, становилось ясно, что Иван Васильевич задумал великий поход на своих же, на приказных и воинских служилых людей. И у кого была какая-либо тайна, тот холодел от страха, слушая царя.
Юшка Сомов, косоглазый, хитрый адашевский гонец и друг, которому сам Адашев дал кличку Вьюн, решил завтра же оседлать коня якобы по государевой надобности, на самом же деле чтобы ускакать в Литву. Там теперь друзей много – скучно не будет!
Оружейник, дворянин Нефедов, давно лелеял мысль скрыться из Москвы вместе со своим верным слугою. Многие дела сотворил Нефедов во зло государю. Известно стало от бежавшего боярина Телятьева, пересылку которого ему передали приезжавшие в Москву польско-литовские люди, что польские паны с радостью примут его; они нуждаются в хороших оружейниках. Да и кое-что мог бы он, Нефедов, поведать королю о слабостях царского оружейного дела и о новшествах, вводимых Иваном Васильевичем в войске.
«Подсеку твою гордыню, батюшка-царек, подсеку секирою острою, и ахнуть ты не успеешь!» – злобно думал Нефедов, с умилительной улыбкой кланяясь царю в ноги.
Один из самых приближенных царских дьяков, дворянин Никифор Соловей, тайно доносивший царю на многих бояр, клевеща на честных и обеляя ненадежных, старинный друг озлобленного на царя рода Колычевых, по-собачьи услужливо глядел в глаза царю, выражая всем видом своим готовность привести в исполнение любую меру против неверных бояр.
Царь, видя смирение своих холопов, лежавших у его ног, смягчился:
– Буде я кого из вас обидел, за грехи мои Богу отвечу, за пролитую кровь молиться стану… Неправедной казни избегаю. Да минует и вас змея коварной измены! Да сгинет чудище, коему продали свою душу бежавшие к королю мои холопы! Да растопчет копыто конское их иудино племя и меч расплаты опустится на их головы!
– Всуе хлопочут мои противники, цепляясь за старое. Как старику невозможно вернуть юность, так невозможно и нам с вами воскресить в государстве ушедшее в древность… Развалины прошлого не соблазнят того, кто построил новые чертоги более светлые, более крепкие, лучше защищенные от ветров и гроз… – сказал царь Иван Васильевич с насмешливой улыбкой. – Токмо безумец может думать о возврате протекшей жизни… Господь Бог дал нам молитвы поминовения, и этот дар принесем в воздаяние праху былой жизни, былых витязей… С Божьей помощью, други, ступим смело по новой дороге в предбудущие времена… Аминь!
Братья Щелкаловы, Андрей и Василий, и многие другие любимцы государя были спокойны, держались просто, не глядели с подобострастием на царя.
Так начался этот день Посольского приказа, день составления грамоты датскому королю Фредерику о том, кому и какими городами и землями владеть у Западного моря.
Было удивительно всем, что Иван Васильевич после такой беседы мог легко перейти к деловым занятиям и спокойно начать разговор об иноземных делах.
Царь приказал дьякам напомнить «приятелю и суседу» своему «Фредерику, королю дацкому», что Ливонию он считает своею исконною вотчиной, и если Москва что и берет в Ливонии, то это она берет свое, ей одной принадлежащее. И что московский государь всегда готов быть «союзником и доброхотом Дацкого куролевства».
К тому же он велел написать, что-де «наше царство столь широко и безмерно долго, однако ж от всех стран есть заперто к торгованию. От севера нас опоясывает Студеное море и пустые земли. От востока и полудни окружают дивии народы, с которыми никоего торгования быть не может. Торгование азовское и черноморское, кое бы наикорыстнее было, то держат крымцы. И тако нам остаются токмо три от страхов слободна торговища: посуху Новгород и Псков, а на воде Архангельское пристание, но от того выгоды мало, к тому и путь есть неизмерно предалек и трудовен».
Иван Васильевич сказал, прослушав письмо к королю Фредерику:
– На берегах Балтийского моря два прямых государя – я и Фредерик. Свейский Эрик гнется то туда, то сюда. Скудоумен, задорен, непостоянен. Искал союза со мной, а ныне милуется с послами Жигимонда. Союза ищет с ним против Москвы. А кто ж ему поверит? Малые ребята знают – спит и видит Эрик, как бы ему вытеснить из Лифляндии Польшу…
Писемский, умный, уважаемый царем дьяк Посольского приказа, побывавший во многих странах Европы, слушая Ивана Васильевича, недоумевал: на что надеется царь? Стоит ли продолжать борьбу за Балтийское море? Три сильные державы разобрали по частям Ливонию, их полки уже идут вкупе против царя; Польша и Швеция готовы поднять все державы на Москву. Дьяку Писемскому, как бывалому послу, хорошо известно, какое возмущение поднялось во всей Европе при известиях о победах царя Ивана в Ливонии. Тяжелые, грозовые тучи надвинулись на Русь, а государь словно бы этого и не замечает. Упрямо пробивается на запад.
Ведь уже часть Эстонии захвачена Швецией; остров Эзель стал под покровительство Дании; Лифляндия, вместе с Ригой, добровольно сдана магистрами польско-литовскому королю. Курляндия тоже подпала под его власть. Польское правительство, жадно вцепившись в эти земли, прибегло к хитрости – провозгласило над ними суверенную власть германского императора. Стало быть, и германские князья держат сторону Польши и Литвы.
Что делать? Не помутился ли рассудок у любимого им государя?
Правда, панская власть, отторгнув громадные участки ливонских земель, как будто стала потише. Швеция тоже делает вид, что согласна прекратить распрю с Москвой. Правда, Польша и Швеция при всем том находятся меж собой во враждебных отношениях. Принужденное их содружество зиждется на том, что они никогда не забывают своего соседства с московским царем. Каждая по-своему мешает плавать русским по морю. Свирепствуют их каперы, грабя и уводя в полон московские корабли, да и те, что плывут в Москву, иноземные, тоже.
Оба правительства заявляют, что они не имеют никакой власти над морскими разбойниками, – они будто сами страдают от них.
В сундуках Посольского приказа есть литовские грамоты, в которых король требует возвращения обратно Ливонии, Феллина, Дерпта, Нарвы и других завоеванных царем городов.
Царь и слышать об этом не желает. Он приглядывается к войне Швеции с Данией и говорит о своем намерении заключить военный союз с Англией. Он смотрит бодро вперед, тогда как бояре и многие дьяки тяжело вздыхают, в горестном раздумье покачивают головами: «Пошто царь залез в эту кашу?» Многие из них тайно уверяют, что Иван Васильевич в своем пристрастии к дружбе с Англией завел Россию в тупик, из которого и выхода теперь нет. Челяднин вслух сказал однажды: прав-де Курбский, советовавший царю заключить союз с Литвой, отказавшись от Нарвы.
И вот теперь: зачем пишется это послание дацкому королю? Дальше в лес – больше дров.
Царь Иван, как бы угадывая мысли Писемского, хлопнул его по плечу, весело рассмеявшись:
– Грызутся они там из-за нас… Нарвское плавание королю дацкому и Любеку – выгода! Любек торговлишкой обогащается, а дацкий Фредерик пошлиной… Обирает в проливе Зунде купчишек, везущих товары мимо него… Август Саксонский – и тот против Эрика пошел за нас… Не мешайте-де той торговле… Не чините помехи плывущим в Нарву! Вот почему будем держаться Дании…
Царь упрям. Никого не слушает.
Польские и литовские паны тоже упрямы и воинственны. Они не уступят. Они не верят царю. Они опасаются его.
Совсем недавно литовский гетман Ходкевич пытался вторгнуться в пределы Московского государства, однако был наголову разбит Курбским. В начале сего 1563 года большое московское войско, предводимое самим царем, осадило и взяло приступом крепость Полоцк, а передовые русские отряды и вовсе подошли к Вильне, к самой столице Литвы.
Польша поняла, какую силу представляет собой ее сосед.
Эрик шведский тоже не унимается, хотя вид пытается казать миролюбивый.
Рассердившись на Данию и Любек, а кстати и на Августа Саксонского, он написал германскому императору жалобу на них… В ней он грозил императору, что-де великая опасность для всех христианских государей от торговых сношений ганзейцев с русскими… Он жаловался и на французского и испанского королей, поддерживавших «нарвское плавание». Эти короли тоже требовали свободного плавания по Балтийскому морю.
Обо всем этом знал дьяк Писемский и ничего не ждал хорошего от всеевропейской распри из-за «нарвского плавания».
Того и гляди, германский император поднимет крестовый поход против Москвы.
И все рухнет… Вся надежда на торговлю в Нарве!
* * *
При слабом свете лампады низко склонился над листом бумаги седой как лунь протопоп Феофан. По воле болящего митрополита писал он для Четьих миней о том, как семьдесят двух человек русских мирных жителей замучили ливонские немцы.
«Мы скоро преставимся, и аз предвижу свой конец, – говорил Феофану тихим, болезненным голосом Макарий, – но пусть наши дети и внуки знают о мучениях, коим подвергли их предков те злохищные немцы в Юрьеве-городе!..»
А случилось это при великом князе Иване Третьем. Рыцари, обозлившись на священника Исидора, настоятеля церкви Святого Николая в русской слободе города Юрьева, набросились на него во время крестного хода, сначала избили его, затем раздели и вместе с женщинами и детьми спустили в день Богоявления под лед, в прорубь. Ни мольбы, ни вопли матерей, ни детский плач – ничто не остановило тех…
Кто-то постучался.
Протопоп вздрогнул. Отворил дверь.
Старец Зосима, один из старых друзей его. Теперь он поборник иного толка, исповедует уставы заволжских старцев, нестяжателей.
Помолился Зосима на иконы, поклонился Феофану и с тихой укоризной в голосе молвил:
– Паки и паки молю тебя, старче, не прельщайся славою царского пса!..
Покачал головою протопоп и ответил, тяжело вздохнув:
– Пошто жить, понеже лицо отвернешь от родины своей, в келью уткнешься, яко мышь в норе, и света божьего не видишь?
Зосима, старик с острой седой бородой до пояса, нахмурился:
– Осифлянин, молись, а злых дел берегись! Бог видит, кто куда идет. Вы народ обманываете. Царю угождаете. Но правду от людей утаишь, от Бога нет. Бог один, а живых царей много… Мотри, старче, берегись!.. Бог виноватых найдет!
Феофан, не оборачивая головы к Зосиме, сказал недовольно:
– Полно лаять! Наш осударь есть Богом венчанный помазанник, чтоб править ему, как на то будет воля Господня. Осударь наш батюшка за всех нас, страдальцев, и ответчик, и нам ли судить дела его?
– Осударь ваш сцапал в единую длань не токмо дела земные, но и небесные. Он хощет пригнуть к стопам своим и церковь Божию, а вы, несчастные, в том ему угождаете. Достойно ли то? Покойный старец Вассиан перед кончиною проклял всех вас, осифлян!.. Праведник, прозорливец напророчил гибель царскому роду… Опомнись, протопоп!
Зосима стал говорить о том, что царь лют, несправедлив, что Бог от него отступился и бесы влезли в царские чертоги, что Вассиана, главу заволжских старцев-нестяжателей, почитают такие князья, как Андрей Михайлович Курбский, Челяднин и другие.
– Пошто к лику святителей сопричислили вы усопших князей и мнихов, кои деспоту московскому угодны?.. Пошто восхваляете вы их в своих новописанных лжеучителем Макарием книгах? Пошто иконы угодников иных княжеств похитили и заковали в золото московских иконостасов? Или вы почитаете Москву святее всех городов на Руси?
В сумраке мрачной кельи Зосима, с блестящими глазами, источавшими злобу и ненависть, размахивая длинными сухими руками, выглядел зловещим привидением, явившимся искушать его, Феофана, именно в ту минуту, когда он, выполняя волю своего умирающего наставника и друга – митрополита Макария, торопился писать, чтобы успеть…
Протопоп отложил свое писание в сторону и грузно поднялся со скамьи.
– Перестань лаять! – гневно сверкнув глазами, крикнул он. – Еретик! Ступай прочь!
– На-ко тебе! – затрясся в злобном смехе Зосима. – Не любо слушать правду, царская ехидна, ласкатель проклятый!
Схватив свой посох, протопоп с силой ударил им старца Зосиму.
– Вот тебе, василиск адов! Вот тебе. Не мели, чего не след!.. Царь наш спаситель!
Старец сначала оцепенел от боли и неожиданности, потом и сам замахнулся посохом.
В это время дверь отворилась, и в келью вошли монахи с секирами, сторожа митрополичьего подворья.
– В железа его! – крикнул Феофан, указав на Зосиму. – В темницу!
Дюжие чернецы накинулись на старца, поволокли его вон из кельи на митрополичий дворик.
Здесь уже бодрствовали монастырские кузнецы, черные, косматые. Неторопливо, с шутками и прибаутками, принялись они за работу. Крепко заковали ноги старца в кандалы.
– Проклятие вам! Слуги сатаны! Про-о-кля-а-а-тие!
Протопоп сказал что-то на ухо начальнику стражи, громадного роста, пухлощекому монаху с секирой в руке. Тот кивнул головой. Стража на руках понесла отчаянно барахтавшегося старца.
* * *
Сквозь крохотное оконце пробиваются слабые лучи дневного света. Они падают на лицо царя Ивана и Марии Темрюковны. Только царская чета да конюший Данилка Чулков находятся здесь, где накануне совершилось замечательное событие: грузинские князья поставили здесь подаренного царице кабардинского коня. Вот он! Черные, прекрасные глаза царицы смотрят с восхищением на живой, подвижный стан, на беспокойно насторожившиеся глаза и уши коня, на его золотистую гриву и шелковую спину. Конь горячо дышит, не стоит спокойно на месте. Он готов вырваться из своего стойла, он никак не может примириться после горных просторов с этой полутемною каморкой конюшни.
Царица слышит – Иван Васильевич дотронулся до нее, тихо зовет ее обратно во дворец, но трудно ей оторвать взгляд от красавца коня. Ей вспомнились цветущие зеленые долины, убеленные снегами гребни гор, над которыми царят небесные светила и орлы; вспомнились бесстрашные всадники, скачущие над бездонными пропастями, спеша с бранного поля к своим мирным аулам, где их ждет уют и ласка… Ей страстно захотелось и самой вот теперь, сейчас, как встарь, скакать на коне, скакать навстречу ветру, навстречу солнцу; хочется забыть, что ты – царица, забыть дворец и придворный почет, который утомляет, связывает, обезличивает… Долой стражу, эту скучную молчаливую толпу телохранителей, которые мало чем отличаются от тюремщиков!.. Душа просит свободы, простора, того, чем пользуется самый последний горный пастух и что недоступно ей, царице, повелительнице!..
– Государыня, очнись!.. – засмеялся Иван Васильевич. – Твой конь… Охрана надежная…
– А коли мой он, государь, – сказала Мария Темрюковна, – так дозволь мне сесть на него и скакать по государеву двору.
– Может ли то быть? – вскинул брови царь. – Не зазорно ли царице на виду у холопов скакать на коне, подобно казаку либо татарину?
– Сгони пока с государева твоего двора всю челядь… Не обижай меня, дозволь!..
В ее глазах нежная грусть и мольба, и не мог никак государь сдержаться, чтобы вдруг не обнять ее и не облобызать… Потом, вспомнив, что они не одни, что поодаль стоит конюший, он зло поглядел в его сторону, громко крикнув на него: «Пошел, боров! Кликни Федьку Басманова. Чтобы бежал сюда!»
Конюший исчез.
Царские аргамачьи конюшни, где стояли государева седла аргамаки, жеребцы и мерины, находились у Боровицких кремлевских ворот. Здесь же была и «санниковая конюшня», в которой помещались санники, каретные и колымажные возники[11].
В летнюю пору большую часть коней отводили в Остожье, на государев Остоженный двор; там и гоняли их на богатые травою москворецкие луга под Новодевичьим монастырем, а теперь кони стояли в кремлевских конюшнях.
Иван Васильевич молча любовался своею супругой, ее возбужденным лицом с раскрасневшимися щеками, с горящими восхищенно глазами.
– Ты что, батюшка-государь, так на меня смотришь?
– Смелая ты!.. Услада моя… Не приключилось бы беды?
– Полно, государь… С малых лет на конях. Не боюсь коня… ничего не боюсь!.. – Она с задорной усмешкой посмотрела на царя.
Ивану Васильевичу очень нравился неправильный выговор плохо знавшей русский язык царицы Марии. К ней это очень шло.
Вернулся Данилка Чулков с Федором Басмановым.
– Федька! Возьми стрельцов, разгони дворню с государева двора да пошли татар, чтоб коня сего отвели во двор, – приказал царь.
Высокий красивый юноша, Федор Басманов низко поклонился сначала Ивану Васильевичу, а затем царице и быстро скрылся в дверях конюшни.
– Вот какие у меня молодчики! – тихо сказал царь, кивнув вслед Басманову.
* * *
Боярин Фуников и князь Репнин, выйдя из храма Успения и увидев двух дьяков, которые, сгорбившись и растопырив руки, прильнули лицом к ограде государева двора, остановились.
– Пойдем заглянем и мы, – прошептал Фуников.
– Противно!.. Бок о бок с худородными, – недовольно пробурчал Репнин.
– Апосля отплюнемся… – дернул его за рукав Фуников.
– Ну, да ладно, – махнул рукой Репнин. – Все одно уж опозорены.
Как и те два дьяка, прильнули и они к ограде и стали вглядываться в щель между досок.
Они увидели то, что и во сне им никогда не могло присниться, а если бы и приснилось, то они с испуга начали бы так кричать, что всех бы домашних своих уродами сделали.
А тут и кричать-то нельзя, потому что совсем недалеко у забора стоял сам государь.
«С нами крестная сила!» – прошептали оба.
Прямо на них бешено неслась лошадь, а на ней верхом сидела царица. Волосы ее развевались по ветру, глаза сверкали, она громко гикала, размахивая кнутом. На самой короткий, подбитый мехом кафтанец, какой-то рудо-желтый чешуйчатый кушак шамохейский, чеботы турские, тоже желтые, бусурманские, и шальвары стеганые, бусурманские… Срам!
– Гляди! – зашелестел в ухе Репнина шепот боярина Фуникова. – Ведьма! Настоящая ведьма!
– Бусурманка проклятая, испугала как! – тяжело отдуваясь, проворчал Репнин.
– Гляди, князь… Сам-то осклабился, ровно бес…
– Он и есть бес!.. В преисподней бы им обоим…
– Ой, какой грех! Баба в татарских портках… Петрович, успокой… сердце холодеет.
– Челяднину надобно поведать. Пущай смутит церковную братию.
– Гляди! – зашелестел в ухе Репнина шепот боярина. – Едва дышит конь…
– Баба кого хошь загонит, особливо такая… Срам-от какой, Господи!
– Остановилась… Конь весь в мыле… Царь снимает ее… Тьфу ты пропасть! Господи Боже мой! Грех-то какой… в портках…
– Бес не ест, не пьет, а пакости делает… У нас ему простора много…
– Снял. Держит ее на руках… Силища-то какая! Оба смеются… Она, будто не супруга, а девка блудная, сама виснет на нем… Господи, до чего дожили!
– М-да, царек… бодучий!.. Куды тут. Што и говорить: рогом – козел, а родом – осел. Не то еще увидим…
– Ах ты, мать твою!.. Согрешишь, ей-богу!.. Гляди, и лошадь в морду лобызает… Сперва царя, потом лошадь… Што ж это такое!
Репнин зло рассмеялся:
– Так ему, глупцу, и надо… Одна честь с жеребцом!.. Правильно!
Вдруг позади раздался грубый голос:
– Эй вы, други! Негоже так-то!.. Отойди от ограды!..
Оглянулись – Малюта! «Штоб тебя пиявка ужалила!»
Сидя на коне, Малюта низко поклонился боярам.
– Не узнал… Винюсь! – сказал он с особою, пугавшей всех почтительностью.
Как это не узнать? Боярина сразу по шапке видать. Но разве осмелишься сказать Малюте, что он кривит душой? Князь Михайла Репнин уж на что прямой человек, и тот ничего не нашелся сказать в ответ на Малютины усмешливые слова.
Поклонились бояре и заторопились к своим колымагам, ожидавшим на площади.
А Малюта поскакал к воротам государева двора. Здесь он проверил стражу: все ли на своих местах и хорошо ли «оружны».
Тайным крытым ходом царь и царица проследовали во дворец.
9
Друкарь – печатник, типографщик.
10
Перссон – начальник тайной канцелярии при Эрике Шведском.
11
Возники – упряжные лошади.