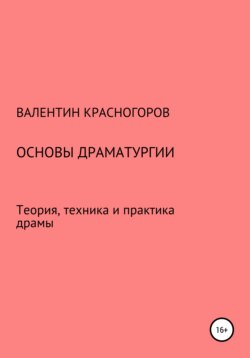Читать книгу Основы драматургии. Теория, техника и практика драмы - Валентин Красногоров - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. Теория и техника драмы
6. Характеры
Оглавление«Приезжий во всем как-то умел найтиться и показал в себе опытного светского человека. О чем бы разговор ни был, он всегда умел поддержать его: шла ли речь о лошадином заводе, он говорил и о лошадином заводе; говорили ли о хороших собаках, и здесь он сообщал очень дельные замечания; трактовали ли касательно следствия, произведенного казенною палатою, – он показал, что ему небезызвестны и судебные проделки; было ли рассуждение о биллиардной игре – и в биллиардной игре не давал он промаха; говорили ли о добродетели, и о добродетели рассуждал он очень хорошо, даже со слезами на глазах; об выделке горячего вина, и в горячем вине знал он прок; о таможенных надсмотрщиках и чиновниках, и о них судил он так, как будто бы сам был и чиновником, и надсмотрщиком. Но замечательно, что он все это умел облекать какою-то степенностью, умел хорошо держать себя. Говорил ни громко, ни тихо, а совершенно так, как следует».
Так характеризуют персонажей в произведении повествовательном. Возможности описания безграничны. Чего Гоголь только не сообщает о своем герое! Мы узнаем, что Чичиков был не красавец, но и не дурной наружности, не слишком толст, не слишком тонок, что он ездил в красивой рессорной бричке, в какой ездят холостяки; что в приемах своих он имел что-то солидное и высмаркивался чрезвычайно громко; что по воскресеньям вытирался с ног до головы мокрой губкой и что имел двенадцать рубашек голландского полотна; что носил Павел Иванович фрак брусничного цвета с искрою и шинель на больших медведях; что характера он был охлажденно-осмотрительного; что брился он таким образом, что щеки делались настоящий атлас в рассуждении гладкости и лоска и т. д. Чуть ли не целую главу Гоголь посвящает биографии героя, описывая его замысловатый жизненный путь. Писатель живописует также багаж Чичикова, его слугу, его больного неряшливого отца, маленькую горенку с крошечными окнами, где прошло детство будущего охотника за мертвыми душами, и еще многое-многое другое, что позволяет нам ясно представить характер главного действующего лица знаменитой поэмы. Гоголь не скупится на страницы: двадцать, тридцать, сорок – сколько нужно. Арсенал средств, позволяющих повествователю создать характер, чрезвычайно широк. Это, прежде всего, само авторское описание: всезнающее, всеобъемлющее и – самое важное – абсолютное в своей достоверности. Ведь обычно у читателя нет никаких оснований сомневаться в истинности поверяемых рассказчиком сведений. Поэтому, когда нам сообщают, что герой благороден и горд, одет так-то, говорит то-то, и думает то-то, мы можем быть уверены, что так и есть на самом деле. Если бы в драме все было так просто!
Однако у повествователя, помимо прямого описания, есть и еще другие приемы создания характера. Мы знаем, что говорит, думает, чувствует, ощущает, вспоминает герой. Нам дана целая портретная галерея его родственников, друзей и сослуживцев; Нам сообщается его родословная и биография; нам описывают его одежду, квартиру, место работы и пейзажи, которыми он любуется; более того: нам еще дают возможность узнать, что говорят и думают о нем окружающие, причем и эти сведения, в отличие от драмы, обычно не нуждаются в проверке и перепроверке, потому что повествователь сам может их подтвердить или опровергнуть. Наконец, мы и сами, без подсказки автора, можем судить о персонаже по его речам и поступкам. Но такой способ характеристики героя в повествовании не всегда является преобладающим.
Ну, а каковы же возможности драмы в создании характера? Скажем сразу, что в этом отношении она неконкурентоспособна по отношению к эпосу. Почти все средства (но не все!), которыми располагает драма, находятся и в арсенале повествования, но лишь немногие возможности эпического жанра доступны и драме. Поэтому требовать от драматического характера той же полноты, объемности, подробности, что и от героя повествовательного произведения – прием недостойный. Драма на это и не претендует. У нее другие цели, другое назначение. Она – другой род литературы. Поэтому сетовать, что драма-де отстает от романа и никак не может сравняться с ним в глубине характера и еще в чем-нибудь, может только человек, никогда глубоко не размышлявший о природе ни того, ни другого жанра.
Драма характеризует своих героев преимущественно одним путем – через их поступки (в том числе и речевые). Все остальные способы второстепенны, вспомогательны, а то и вовсе излишни.
Посмотрим, например, как тот же Гоголь строит образ Городничего. Возможности для описания на этот раз полностью отсечены, но Гоголь – как и всякий прирожденный драматург – в них совершенно не нуждается. Он просто заставляет своего героя действовать. Городничий озабоченно ждет ревизии, стращает своих чиновников, вправляет мозги полицейским, сечет унтер-офицерскую вдову, лебезит перед предполагаемым ревизором, берет и сует взятки, дает всевозможные советы (например, в больнице «над каждой кроватью надписать по-латыни или на каком другом языке»), он примитивно ловчит, пытается выгодно пристроить замуж дочь – и эта система поступков лучше всяких описаний создает красноречивый портрет городского головы. «Ряд поступков субъекта – это и есть он», – сказал Гегель.
Ну, а реплики персонажа? Разве они не создают его характер? Разумеется, создают. Более того, автохарактеристичность – одно из основных свойств драматического диалога. Однако надо различать способы, посредством которых это свойство проявляется.
Во-первых, речь персонажа выражает его намерения, мотивы поведения, чувства, действия (например, «Я никуда не поеду», «Расстреляйте его», «Я тебя ненавижу»). Такие реплики являются, по существу, поступками и как таковые характеризуют героя, даже если они лексически нейтральны, не индивидуализированы.
Во-вторых, самохарактеристика может выражаться в описаниях героем своей жизни, своих чувств, своих качеств и т. д. Они помогают очерчивать характер, но лишь помогают, а не играют в этом главенствующую роль. Отелло при первом же появлении на сцене рассказывает историю своей бурной жизни, но не эти сведения создают в конечном итоге образ благородного мавра.
И, наконец, в-третьих, персонажа характеризует сама форма его высказываний, их словесный состав и интонация: если герой выражается отрывисто и бессвязно, это говорит о том, что он или взволнован, или не привык ораторствовать; безграмотная примитивная речь свидетельствует о плохом образовании и низком интеллекте; просторечные деревенские обороты укажут на происхождение героя; книжная речь выдаст интеллигента; акцент отметит иностранца; специальные термины напомнят o его профессии и т. д. Однако ценность чисто языковой автохарактеристики не следует преувеличивать. Эта характеристика статична, она показывает нам «бездействующего» героя. Например, в речи Яго встречаются морские термины, из чего можно заключить, что он давно служит во флоте – факт, который и без того нам известен и который не очень важен. Так что индивидуализация речи нужна скорее для соблюдения правдоподобия, чем для характеристики персонажей, и не случайно многие драматурги (хотя бы тот же Шекспир) ею часто пренебрегали. Впрочем, о языке драмы будет еще отдельный разговор.
Реплики других действующих лиц тоже не могут служить основой для характеристики героя. Об этом уже шла речь в главе о Красной Шапочке. Высказывания персонажей о каком-либо герое выражают главным образом их отношение к нему – истинное, ложное или притворное. Такие высказывания небесполезны для драмы и для характеристики персонажей, но решающего значения они не имеют. Кто-то может назвать героя гением или злодеем, но мы не поверим ни той, ни другой оценке, пока сами не составим себе мнение о герое по его поступкам. Офелия прекрасно характеризует Гамлета:
О, что за гордый ум сражен! Вельможи,
Бойца, ученого – взор, меч, язык;
Цвет и надежда радостной державы,
Чекан изящества, зерцало вкуса,
Пример примерных…
Мы верим Офелии – но только потому, что уже сами, без ее помощи, узнали, каков Гамлет. Те же слова, сказанные, к примеру, про Лаэрта, мы бы попросту оставили без внимания.
Но если мы не полагаемся на слова персонажей драмы, то, может быть, мы поверим ее автору? Действительно, драматург может сообщить в ремарках пусть немногие, но очень важные сведения о героях: возраст, семейное и социальное положение, внешность, манеру держаться и пр. Скажем, в ремарке можно написать просто: «Входит мужчина». Но можно и так: «Входит тщедушный, седой, неряшливо одетый мужчина. Движения его неловки, голос тих и нерешителен» и т. д. На первый взгляд, разница весьма велика, и потому драматурги охотно прибегают к такой подсказке. Например, Гоголь предваряет свою комедию «замечаниями для господ актеров», где дает краткие, но емкие характеристики действующих лиц: «Городничий: уже постаревший на службе и очень неглупый по-своему человек. Хотя и взяточник, но ведет себя очень солидно…» и т. д. Однако, вовсе не эти сведения создают образ – он создается самой пьесой. Можно написать про Городничего в «замечаниях» всё, что угодно, но если он в ходе действия не будет брать взяток и не станет переходить «от низости к высокомерию», то всем этим характеристикам будет грош цена. Смысл подобных ремарок в том, что они в какой-то мере дают авторскую трактовку образа, собственное видение драматургом персонажа. Они позволяют также читателю (актеру, режиссеру) быстро получить первоначальное представление о герое, чтобы легче было ориентироваться в пьесе, особенно в ее начале (или при введении новых действующих лиц), когда персонажи путем своих поступков не приобрели еще плоть и кровь. Таким образом, эти ремарки остаются не более чем замечаниями для господ актеров: зритель этих ремарок не видит и не читает. Они смотрят лишь представление. Даже скупые указания возраста, характера родства, положения и т. п. («Клавдий – король, Гертруда – его жена»), нередко сообщаемые в списке действующих лиц, не являются, вообще говоря, необходимыми и служат лишь удобству читателей. Можно, конечно, указать, что некий мужчина немолод, что он «пожилой», «седой», что ему «76 лет», но какой в этом резон? Ведь если возраст персонажа имеет хоть какое-нибудь значение для пьесы, то это обязательно как-то проявится в тексте. Упомянутый мужчина может, например, быть отцом взрослой дочери, ухаживать за внуками, жаловаться на всевозможные недомогания, держаться за поясницу, сетовать на близость смерти; он может быть влюблен в молодую женщину и сожалеть о большой разнице в годах; он может быть по-стариковски ворчлив; о старости персонажа могут с раздражением или уважением отзываться другие действующие лица и т. д. Если все это присутствует в пьесе, нам вовсе нет нужды указывать возраст действующего лица, да еще точный. Если же ничего этого нет, то вообще не нужно обозначать возраст, так как для данной пьесы он, видимо, значения не имеет.
Романисты весьма падки на описания внешности своих героев; драматург, напротив, не обращает на нее ни малейшего внимания. Если красота какой-то женщины имеет значение для развития действия (что, естественно, случается нередко), то драматург даст, конечно, нам понять, что его героиня красива, но дальше обозначения этого факта дело обычно не идет. И причина вовсе не в том, что авторы пьес уступают романистам в любви к женской красоте или в мастерстве ее изображения. У драматургов просто нет в этом нужды.
«Бог вашему лицу дал яркость красоты,
Смущающую взор, влекущую мечты».
Вот, примерно, всё, что сообщил Мольер о внешности Эльмиры, и этого, право, вполне достаточно. Если бы он вдруг пустился в описания атласного платья героини, ее белозубой улыбки, длинных белокурых волос, роскошных плеч и всего остального, мы бы очень удивились. Но Мольер был хорошим драматургом и понимал, что это не его дело. И действительно, со времен первой постановки комедии тысячи исполнительниц наделили своей внешностью жену Оргона, но эта тысячеликая женщина оставалась все той же мольеровской Эльмирой. Ибо он создал ее сущность, а не набор внешних черт. При исполнении на сцене образ Эльмиры каждый раз воссоздается той или иной актрисой заново, и каждый раз этот образ складывается из неповторимости актрисы и того общего для всех исполнительниц, что вложил в свою героиню Мольер. Задача драматурга – сделать этот образ конкретным и, в то же время, достаточно обобщенным, универсальным, предоставляющим определенную свободу для проявления исполнителями своей творческой и физической индивидуальности. Вот в чем еще одна причина кажущейся «недописанности» героев драмы.
Персонажи повествования никем не «исполняются», они целиком и окончательно создаются воображением рассказчика. Поэтому повествователь вправе до мельчайшей черточки обрисовать их внешность и одежду. Повествование объективно; оно рассказывает о том, что уже как бы произошло на самом деле. Вариации в этом роде литературы исключаются: если Анна Каренина была на балу одета в такое-то платье, значит, на ней действительно было это платье. Но пьеса – материал для игры. А играть можно по-разному, важно лишь задать условия. И драматург их задает: скажем, Эльмира должна быть молода и соблазнительна настолько, чтобы вскружить голову Тартюфу. А цвет глаз и обмеры талии исполнительницы в эти технические требования не входят. Еще менее интересуют автора пьесы покрой платья и высота каблука: это дело художника театра, который не только предложит костюмы, соответствующие характерам персонажей, стилю эпохи и духу пьесы, но и даст общее цветовое и образное решение спектакля. Драматург же в лучшем случае ограничивается примечаниями типа «скромно одета», «вызывающе одета», «модно одета» и т. д.
Не следует, однако, полагать, что наружность и одежда действующих лиц не описываются драматургом только потому, что он не в силах предвидеть облик исполнителей пьесы и произвол ее постановщика. Если автору драмы вдруг непременно потребуется, чтобы героиня была, например, высокой худощавой блондинкой в наглухо застегнутом черном платье и золотых очках, театр без труда подберет нужную актрису и должным образом загримирует ее. Однако для такой настойчивости нужны веские основания. Всегда ли они имеются? Обычно драматург не проявляет подобной педантичности «и, чуждый внешности пустой, лишь в суть вещей глубокий взор вперяет». Шекспир ни словом не обмолвился о наружности Гамлета, что нисколько не мешает исполнителям этой роли. Правда, где-то, кажется, встречается глухое упоминание о тучности датского принца, но как раз это единственное указание дружно игнорируется постановщиками. Ведь если какие-либо внешние приметы не являются необходимыми, если они не подкреплены внутренней логикой поведения героя и не являются органической составной частью его образа, то они выглядят не более чем проявлением авторского произвола, не обязательным для театра, даже если автором является сам Шекспир. В самом деле, почему это Гамлету обязательно быть толстым? Разве из пьесы следует, что он много ест, неуклюж и т. д.? Напротив, Гамлет активен, подвижен, прекрасно бьется на рапирах. И лишнее указание на чисто внешний признак отмирает само собой. Вот Фальстаф – это толстяк, тут уж ничего не поделаешь. И это не просто забавная деталь, не только предмет бесчисленных насмешек его собутыльников. Тучность импозантного, но трусливого рыцаря является естественным средством характеристики этого обжоры, бездельника и бонвивана.
Теперь задумаемся над таким вопросом: если реплика Тартюфа о красоте Эльмиры лишена информативности (зритель сам видит Эльмиру и может ее оценить), то зачем же Мольер заставляет своего героя произносить ее? Вся штука в том, что драматург этими словами характеризует вовсе не Эльмиру, а самого Тартюфа: святоша и на свидании остается верен себе, подводя под любовные вожделения религиозную базу – в греховном увлечении Тартюфа виноват, оказывается, не он сам, а господь бог, который дал лицу Эльмиры яркость красоты, смущающую взор и влекущую мечты. Вот прекрасный пример самохарактеристичности драматической речи, скупой и точной детали, которая так важна в драме!
О Тартюфе много говорят и спорят все персонажи мольеровской комедии, но эти споры характеризуют скорее глупость Оргона, горячность его сына, проницательность служанки и т. д., чем личность самого Тартюфа. Главным же средством создания образа остаются поступки героя. Святоша обманывает своего благодетеля, выживает из дома его сына, пытается соблазнить его жену, лишает его дома и состояния, угрожает ему тюрьмой – и все это с именем бога на устах!
По поводу этого свойства драмы вспоминается письмо Мериме Тургеневу: «Правда, драматург лишен тех описательных средств, которыми располагает романист, но это не беда. Что теряешь в смысле правды, или, вернее, правдоподобия, то выигрываешь в смысле движения и живости. Представьте себе романиста, взявшегося за сюжет «Тартюфа». Он начнет с того, что будет описывать дом Оргона, костюм Эльмиры и Тартюфа, и всем этим не достигнет того эффекта, который достигает комический поэт несколькими словами: «Лоран, примите плеть, примите власяницу».26
Кстати, Мольер не случайно делает Эльмиру второй женой Оргона (ранее овдовевшего). Для целей комедии нужно было, чтобы Эльмира была молода и красива, а не была ровесницей своему мужу, который имеет уже взрослого сына. Эта деталь полезнее для пьесы, чем красочное описание внешности героини.
Итак, характер героя – это система его поступков, мотивы этих поступков, соотношение поступков и намерений; раскрыть характер – это значит поставить героев в положения, побуждающие их совершать содержательные в социальном и нравственном отношении поступки, это значит заставить их действовать. Т.е., под каким бы углом зрения мы бы ни рассматривали драму, мы неизбежно приходим к необходимости организации эффективного действия. Тартюф, Городничий, Макбет, Нора действуют. Выпуклость и значительность этих персонажей определяются масштабностью и количеством их поступков. Таким образом, построение образа не является некоей изолированной задачей драматурга, решаемой какими-то своими специфическими приемами, а является производным от других компонентов драмы. Шопенгауэр, говоря о действии и характерах в драме, отметил: «то и другое столь тесно переплетаются между собой, что их можно разделять исключительно в понятии, но не в художественном воспроизведении. Ибо только обстоятельства, судьба доводят характер до обнаружения его сущности, и только из характеров проистекает то действие, которое влечет за собой известные события».27
Такова система создания образа в драме: столкни героя с жизнью, с другими людьми – и увидишь, какой у него характер. К сожалению, эта простая истина далеко не всем понятна, и авторы пьес нередко характеризуют своих героев бесконечными рассказами, описаниями, воспоминаниями и вообще всякой болтовней. В результате мы знаем об этих персонажах решительно все, кроме того, зачем они вышли на сцену.
Характеры героев драмы обычно менее объемны, чем характеры героев эпоса. Критики с завидным упорством нападают на этот «недостаток мастерства» драматургов, не всегда понимая, что известная однобокость характеров – неизбежное свойство (но не недостаток!) драмы. Еще в 1920-е годы замечательный литературовед С. Балухатый отметил, что «характер в драме – всегда односторонняя фиксация персонажа, рельефных признаков не лица, но характеристической темы… Психологическая и бытовая обогащенность, «разносторонность» лица как прием сложения характера в психолого-бытовой драме есть всегда иллюзия. Поэтика драмы требует единства, собранности, цельности черт характера, как условия последовательного, закономерного и отсюда сценически убедительного хода драматического действия. Драма осуществляет особые приемы характеросложения».28
Итак, «упрощенность» драматического характера не является новостью (о ней писал еще Гегель); однако причины такого упрощения никто, кажется, обстоятельно не анализировал. Они кроются, разумеется, не в творческой скудости драматургов, а как раз в тех особых приемах характеросложения, которые использует драма. Поэтому стремление построить объемные многомерные характеры, к которой призывают некоторые теоретики29, нельзя признать безусловно оправданным.
Само слово «характер» в зависимости от контекста имеет разные значения. Чаще всего оно понимается в психологически-бытовом смысле (как некая человеческая индивидуальность), и это понимание ошибочно переносится на характер литературных персонажей. Художественный образ человека в литературе не есть воссоздание индивидуальности, жизнеподобное воспроизведение всех черт и особенностей личности. Он должен быть прежде всего именно образом, выполнять определенные эстетические задачи, содержать в себе обобщение.
Известно, что личность проявляет себя не абстрактно, а в той или иной социальной роли: отца, мужа, сына, инженера, спортсмена, пешехода, покупателя, любовника и пр. Понятия ролевого поведения социологи заимствовали у театра; теперь театру предстоит усвоить собственную терминологию. Ведь драматурги выводят в своих пьесах не характер вообще, а человека в определенной социальной роли: главы семьи, или хозяина трактира, или пылкого влюбленного. Выбор этой основной функции персонажа обусловлен замыслом драмы и ее сюжетом. Остальные социальные роли и соответствующие им черты характера данного действующего лица или вообще никак не выражаются в пьесе, либо очерчиваются мимоходом.
Итак, драма создает не жизнеподобный характер в психологическом понимании этого слова, не человека «вообще», а персонаж, выступающий в определенной социальной роли и в тесном взаимодействии с другими персонажами. Это-то обстоятельство и не принимают обычно в расчет начитавшиеся романов критики, интерес которых по каким-то необъяснимым причинам направлен именно на характеры, хотя у драмы есть проблемы и достоинства поважнее. «Давно прошло то время, когда критики хвалили драматурга за удачный сюжет, – пишет Бентли. – Ныне они хвалят его за созданные им характеры, а характеры они хвалят за то, что это «подлинно живые люди», «люди, в подлинность которых веришь». Слово «тип» обозначает в их устах нечто прямо противоположное. Тип – это плохо».30
Драма не случайно не стремится к всесторонней и объемной характеристике персонажа. Как уже отмечалось, характеры строятся в ней через поступки. Достоинства такого способа – живость и убедительность, недостатки – неизбежная односторонность. Допустим, герой нашей драмы – адвокат. Если для нас важна профессиональная сторона его деятельности, мы должны показать его в своей конторе, в суде, заставить его выигрывать и проигрывать процессы, защищать виновных или невиновных и т. д. Условно такого героя можно назвать «адвокат», потому что он выступает у нас именно в этой социальной роли. Все остальные его функции (мужа, отца и пр.) остаются на втором и третьем планах. Допустим теперь, мы зададимся целью создать объемный образ героя и очертить его остальные социальные роли. Описания нам не помогут: драма не эпос. Поэтому, чтобы обрисовать личную жизнь персонажа, мы должны заставить его в этой сфере действовать, совершать поступки: бросать жену, возвращаться к ней, улаживать конфликты с детьми, рыбачить по выходным и т. д. Тогда мы должны будем изъять нашего героя из зала суда и усадить его у семейного очага. В этом нет ничего невозможного, но это будет просто другая пьеса, с другими характерами, другой идеей. Совершенно нет надобности, чтобы герой этой другой пьесы носил ту же фамилию, что и наш адвокат, и занимался какими-то там делами в суде.
С двумя-тремя социальными ролями одного персонажа драма еще может справиться (скажем, адвокат будет выступать в суде против родного брата или отца). Но у нашего героя могут быть еще социальные роли: больного, садовода, путешественника и пр. Дать характеристику всех этих функций в романе не составило бы труда. Например, Толстой на многих страницах «Анны Карениной» живописует объемный портрет Стивы Облонского – мужа, отца, брата, барина, кутилы, бонвивана, начальника присутствия, светского человека, гурмана, любовника, приятеля, аристократа и т. д. В драме же для портретирования каждой из этих граней образа пришлось бы выстраивать отдельные системы поступков в разных плоскостях, что превратило бы пьесу в ряд бессвязных сцен. Действие потеряло бы свою цельность, раздробилось бы, измельчало, завязло, а вместе с действием потерялся бы и характер, который так старательно мы пытались создать. Вот почему драма обычно раскрывает одну-две социальные роли персонажа, а необходимая объемность достигается с помощью мелких штрихов и деталей. Последние особенно важны в драме вследствие ее краткости.
Еще одна особенность характеросложения в драме – его рациональный принцип. Ведь герои драмы функциональны, они имеют какую-то роль не только в реальной жизни, которую изображает драма, но и в самой этой драме. Каждый персонаж вводится в пьесу не просто так, но с какой-то определенной целью; если этой цели нет, он оказывается излишним, как бы хорошо ни был он выписан. Чтобы персонаж успешно исполнял возложенную на него функцию в действии, драматург, подобно конструктору, наделяет его набором необходимых свойств. Можно, конечно, попутно наделить персонаж и некоторыми не необходимыми качествами, но, будучи ненужными для действия, они окажутся незаметными, балластными и потому излишними. Драматический характер можно уподобить анатомическим рисункам строения человека, изображающим только те органы (кости, мышцы, кровеносные сосуды), которые интересуют в данном случае медика; все остальное полагается как бы отсутствующим.
В повествовании автор, разумеется, тоже конструирует персонажи в соответствии со своим замыслом, но там характеры не взаимодействуют так тесно и принцип отбора не выступает в столь жесткой и безусловной форме, как в драме. Скажем, злодей Яго нужен Шекспиру, чтобы клеветать на Дездемону и Кассио; доверчивый Отелло – чтобы ревновать и убить Дездемону; Дездемона – чтобы быть ревнуемой и затем убитой. В соответствии с этой расстановкой, Яго, например, должен быть беспринципен, честолюбив и завистлив. Развитие его характера идет не вширь, не в сторону объемности, а в сторону интенсивности. Его злодейства все усиливаются, нанизываясь одно на другое. Ведь Яго подобен пружине, приводящей в движение механизм пьесы. Стоит его злодействам прекратиться, действие остановится. Поэтому Шекспир стремится не развивать этот характер вширь, а усиливать его, заставляя интриговать все более неутомимо, изощренно и жестоко. И это очень разумное построение характера. Попытка «обогатить» его обеднила бы пьесу. Что дал бы психологически усложненный и тщательно разработанный характер Яго? Решительно ничего.
Подобным же образом конструируется Дездемона. Она должна быть красивой, целомудренной, нежной и любящей мужа (больше, пожалуй, мы ничего о ней не знаем). Тогда сильнее будет подчеркнута низость Яго, слепота и жестокость Отелло, тогда смерть ее более всего тронет зрителя. Точно так же и другие персонажи наделяются таким набором свойств, которые позволяют героям в наибольшей степени влиять на ход действия и на поведение друг друга, самым эффективным и экономным образом раскрывая замысел драматурга и придавая действию максимальную сценичность. «Широкое и вольное изображение характеров, которое ставил в заслугу Шекспиру Пушкин, имеет совершенно не ту цель, чтобы приблизить героев к действительным людям и полноте реальной жизни, а совсем другую – именно усложнить и обогатить развитие действия и трагический узор», – писал С. Выготский в «Психологии искусства».31
Такое конструирование вовсе не означает примитивности и одномерности характера. Наряду с доминирующими чертами, драматург наделяет персонаж и множеством дополнительных, достигая известной индивидуализации образа. Тот же Яго, помимо черт «злодейских», наделен многими другими качествами, в том числе положительными: он, несомненно, умен, храбр, упорен в достижении цели и т. д. (все эти качества, кстати, помогают двигать действие пьесы про мавра). Но в целом действующие лица драмы более функциональны, более заданы, более жестко связаны друг с другом и с общим характером действия, имеют меньше степеней свободы для своего проявления, чем герои эпоса. Подобно шестеренкам, где роль зубцов играют доминантные свойства и стремления – любовь, ненависть, корысть, честолюбие, ревность, зависть, месть, – драматические персонажи приводят друг друга в движение. Ненужные зубцы мешают ходу механизма. Можно радикально переписать характер Стивы Облонского, и это никак бы не отозвалось на характере его сестры и ее трагической истории. В драме же – этом едином организме – такая операция редко проходит безболезненно.
Тесная взаимосвязь персонажей драмы имеет то следствие, что каждого из них нельзя характеризовать изолированно. Известно, что царя играет свита. Но точно так же всякого героя играет его окружение. Злодейства Яго не были бы столь рельефны, если бы не доверчивость мавра и непорочность Дездемоны. Поступки героя и реакция на них других персонажей, их действия и противодействия взаимно обусловлены. Поэтому драматург обычно не может придумывать характер, взятый отдельно, а строит его как часть общего замысла.
И еще одно обстоятельство, на которое обычно не обращают внимания, но которое чрезвычайно важно. Фундаментальное различие характера в драме и характера в повествовании состоит в том, что повествователь создает характер, а драматург – роль. А эти понятия вовсе не идентичны. Толстой, работая над романом, видел в своем воображении Анну Каренину, а драматург представлял бы перед собой не героиню, а актрису (конкретную или абстрактную), исполняющую на сцене ее роль. Легко понять, что это далеко не одно и то же. Можно, конечно, сказать, что и драматург тоже мысленно видит реальную героиню. Однако он никогда не забывает, что на его героиню смотрят (а на персонажей эпоса никто не смотрит), что она находится на сцене и она может себе позволить только такие слова, движения и поступки, которые пригодны и наиболее выигрышны именно для сцены, и героиню можно характеризовать лишь средствами, доступными театру. Характеры вот таких экспонированных на сцене персонажей, образы героев, действующих на театральных подмостках, – т. е. роли – и запечатлевает в своих произведениях драматический писатель. Грубо говоря, роль – это характер плюс средства для его театрального выражения. Драматург обязан придумать и то, и другое. Он должен не только вообразить реальную жизнь героя, но и выстроить ее сценический вариант, проявить характер не вообще, а на глазах у зрителей в определенном пространстве и за ограниченное время. Когда в быту спрашивают наше мнение о том или ином человеке, мы часто отвечаем: «трудно сказать, я знаком с ним всего лишь несколько дней». Приходило ли кому-нибудь в голову, что великие персонажи великих драм: Тартюф, Отелло, Чацкий – находятся на сцене всего около часу!
Толстой мог бросить Анну под поезд и еще рассказать, о чем она думает в последнюю минуту. И этот эпизод – один из сильнейших в романе. Драме же он был бы совершенно противопоказан. И дело не только в том, что изображать на сцене поезд и терзаемое тело было бы грубым натурализмом и ненужным садизмом; дело и не в трудности поведать зрителю, о чем думает в эти мгновения погибающая женщина; все это можно при желании придумать и осуществить. Главное, исполнительнице здесь нечего было бы играть: в такой ситуации играет поезд, а не актриса. Для артистки же значительно эффектнее умереть в своей постели, как это делает Дама с камелиями.
Характер – это характер, а роль – это материал для игры. Можно придумать сколь угодно яркий, значительный образ, но, если он не дает достаточно материала для актера, это значит, драматург не справился со своей задачей. Ибо драматический писатель – творец ролей, а не характеров.
Трудно найти в мировой литературе более привлекательный, более разработанный женский образ, чем Наташа Ростова. Но с точки зрения сцены ее роль далеко не самая выигрышная. В кино еще можно показать бал, худые плечи, дуб в Отрадном и избу с умирающим Андреем. Но что играть в театре? А вот леди Макбет – роль весьма одномерная и по своему объему чуть ли не эпизодическая, но, тем не менее, поистине великая. Ибо Шекспир нашел для обрисовки отнюдь не разностороннего характера сценические средства необычайно впечатляющей силы. Достаточно представить, как королева – бледная, в ночном одеянии, со свечой – смывает со своих рук воображаемые пятна крови убитого Дункана (которого, кстати, не она убивала), чтобы понять исполинскую трагедийную мощь этой роли.
Чрезвычайно глубок, объемен, насыщен мыслью образ Андрея Болконского. Это интересный характер. И – напротив – не столь уж интересен король Лир, взбалмошный старик, совершивший изрядную глупость и на протяжении всей пьесы не перестающий ворчать и жаловаться. И тем не менее, Лир – это Великая роль, а Болконскому в театре пришлось бы очень нелегко. Исследователи ощущают мощь, с которой написан образ Лира или Тартюфа, и привычно рассуждают о великолепно обрисованном характере. Между тем, здесь можно говорить только о роли. Любой другой термин (образ, герой, тип, характер и т. д.) страдает тем недостатком, что не содержит напоминания о специфике, которую имеет персонаж драмы.
Характер в драме – это система поступков, но и действие тоже – система поступков. Поэтому характеристика персонажей сливается с развитием действия и в определенной мере подчинена ему, ибо характер может проявляться преимущественно лишь «действующими» чертами. Как пишет Бентли, ясно одно: «интерес великих драматургов к характеру имеет свои пределы (чего нельзя сказать о некоторых теоретиках, чей интерес к характеру поистине беспределен)».
Еще Аристотель отметил, что «без действия не могла бы существовать трагедия, а без характеров могла бы». И действительно, любые особенности характера Эдипа представляются неважными по сравнению с положением, в котором он очутился. И имеет ли вообще Эдип характер?
Теперь драматурги мыслят и пишут не так, как античные трагики, герои драмы теперь не пешки в руках судьбы и не игрушки рока, они обладают волей и способностью изменить обстоятельства. У них есть характеры, но значение этих характеров по-прежнему ограничено.
Стремление к детальной психологически-бытовой характеристике, не всегда оправданное даже в пьесах, основанных на жизнеподобии, становится вовсе ненужным и нелепым в драмах, основанных на иных принципах отражения действительности. Психологическая многомерность необязательна, а то и вредна для таких форм, как гротеск, гипербола, символ, абсурд, сатира, фарс, подчеркнутая условность. В этих случаях следует говорить не о характерах, а о персонажах-масках, символах, функциях, об условных образах. Например, в «Эвридике» Ануя одним из действующих лиц выступает Смерть в облике некоего господина. Нужно ли стремиться к портретированию этого героя обычными средствами?
Можно себе представить пьесы с такими персонажами, как Слава, Болезнь, Революция, Порок, Добродетель – как в средневековых мистериях. У Метерлинка в «Синей птице» мы находим среди действующих лиц Молоко, Сахар и даже Блаженство Бегать По Росе Босиком. Очевидно, такие персонажи-символы (даже если они имеют нормальный человеческий облик и зовутся Аглавена и Селизетта) не могут характеризоваться традиционными приемами. Точно так же «психоложество» неуместно в «Мистерии-Буфф», «Бане», «Визите старой дамы» и в любой другой пьесе, уходящей от натуралистического воспроизведения действительности. Иногда такая условность бросается в глаза, иногда она выступает неявно, что еще больше раздражает любителей «характеров».
Вообще, в каждой великой роли есть какая-то тайна. Почему Гамлет, такой пассивный и нелогичный, необъятно глубок и неотразимо волнующ? Почему Тартюф – так откровенно и прямолинейно обрисованный – является самым притягательным в эстетическом отношении персонажем Мольера? Почему Чацкий – многословный и плакатно-риторический – столь обаятелен? Хорошо написанная роль – одно из величайших достоинств пьесы, нередко обуславливающее ее прочный и длительный успех. Если когда-нибудь произведения Шекспира сойдут со сцены, то последним из них будет «Гамлет» – трагедия, с точки зрения композиции и организации действия далеко у него не лучшая, но содержащая величайшую в истории драмы роль.
Драма всегда ставит вопросы. Что выбрать – жизнь и рабство или смерть и свободу? Что важнее – любовь или долг? Что лучше – неизменность принципов или компромисс? Что благородней духом – покоряться пращам и стрелам яростной судьбы иль, ополчась на море смут, сразить их противоборством? Быть или не быть? Мы приходим в театр не столько для того, чтобы узнать ответ героев драмы на эти вопросы, сколько для того, чтобы задать их себе, примерить к своей жизненной ситуации и попытаться найти свое собственное решение. И персонажи, которые побуждают нас к размышлениям об этом, интересны нам, быть может, лишь настолько, насколько мы отождествляем себя с ними, насколько их мысли, цели, сомнения, надежды, аргументы, соблазны совпадают с нашими. Быть может, герой вызывает в нас резонанс мыслей и чувств лишь тогда, когда мы видим в нем себя или, наоборот, те силы, которые мы ненавидим и которым противостоим. И, быть может, чем тщательнее, чем индивидуальнее очерчен персонаж, тем больше он отделяется от нас, тем менее мы отождествляем его с собой и тем менее он вызывает резонанс в нашем мироощущении. Кто только не создавал Гамлета по своему образу и подобию!
Я читаю немало современных пьес и отмечаю любопытную особенность: их герои нередко очень безлики, искусственны и как бы вырваны из своей социальной среды. Правда, на сцене часто мелькают олигархи, продажные чиновники, менты, профессора (как правило, устарелые и чудаковатые) и маргиналы обоего пола, но этим социальный круг многих драм и ограничивается. К тому же, обо всех этих категориях персонажей авторы, как правило, имеют смутное представление, почерпнутое, вероятно, из сериалов или из других пьес. Среди героев нашей драматургии почти отсутствуют действующие в своей профессиональной среде инженеры, врачи, рабочие, учителя. То есть, конечно, в списке действующих лиц иногда обозначается, что какой-нибудь персонаж является адвокатом, трактористом или продавщицей, но это чистая формальность. Можно с таким же успехом сделать его летчиком или программистом, и ничего не изменится. Действие очень редко происходит на фабрике, или в учреждении, или на ферме, или в больнице, как будто там не бывает конфликтов и нет острых проблем. Надуманные вычурные искусственные ситуации привлекают драматургов и театры больше, чем реальные жизненные и общественные проблемы. Но ведь психология, нормы поведения, мировоззрение, интересы и стремления людей весьма сильно зависят от среды, в которой они существуют и внутри которой они действуют. Бытие определяет сознание. Как раз в системе социальных связей и профессиональных функций более всего выявляются характеры людей и заложены причины острейших конфликтов. У многих (если не у большинства) людей центр жизни, центр интересов связан именно с работой, с их профессиональной деятельностью, и часто именно на работе, а не где-то в гостиных и на вечеринках разыгрываются драмы. Конкуренция и зависть, борьба за должности, подсиживание, предательство, присвоение идей и изобретений, игнорирование техники безопасности (отсюда отравления, пожары, смерти, увечья, людские и семейные трагедии), отравление окружающей среды, самодурство и невежество начальства, несправедливые увольнения, безработица, конфликты из-за зарплаты, всевозможные жульничества, захваты собственности, желание и невозможность реализовать себя и свои идеи, попытки спасти умирающие предприятия (или погубить процветающие)… Диапазон проблем огромен. Между тем, драматургия и театр уходят в сторону от реальной жизни, от той жизни, которой живет подавляющее число людей – таких, как мы с вами. Как писал Б. Шоу, «второстепенный драматург живет литературой; он живет в мире воображения, а не в мире политики, финансов или законов и не на той трибуне, где обсуждаются социальные проблемы. Поэтому он, как правило, удивительно мало знает жизнь».32
Всегда останутся новыми проблемы взаимоотношений между мужчиной и женщиной, отношений в семье. Вместе с тем, может быть не менее интересна и драма, связанная непосредственно с профессиональной деятельностью героя и ставящая определенные общественные проблемы. Вопрос в том, как она написана. Не обязательно показывать на сцене паровоз (разве чтобы давить Анну Каренину), карусельный станок или больничную операционную. Такое понимание и толкование слишком примитивно. И действие не обязательно должно происходить в конструкторском бюро или на пшеничном поле. Но вывести на сцену живого героя, активно действующего в среде своих профессиональных интересов и тесно связанного с жизнью во всех ее проявлениях, современной драме отнюдь не помешало бы. Такие пьесы могут и должны быть самые разные по стилю, тематике, жанру, содержанию, в том числе камерные, лирические, семейные, абсурдные, гротесковые и какие угодно.
Некоторым кажется, будто социальное позиционирование героев не имеет значения: «не суть, чем занимается герой в свободное от основной коллизии время». А что, если как раз основная коллизия – «не вздохи на скамейке и не прогулки при луне», а яростные схватки и переживания в цеху, в конторе, в магазине, на корабле, в больнице, за кулисами театра, в правлении корпорации, в школе? Реальная жизнь не ограничивается интересом к противоположному полу. Пружину драматического действия заводит и обогащает еще борьба персонажей за справедливость (так, как они ее понимают), сложные отношения с начальниками и сослуживцами, стремление достигнуть определенного материального и общественного положения, продвинуть себя по служебной лестнице, желание реализовать себя в своей профессии. Герои таких пьес жизненны, социальные проблемы таких пьес значимы, их герои полнокровны, ситуации, в которых они находятся, не надуманы, не искусственны, их герои не худосочны.
Русские писатели всегда помещали своих героев в конкретную социальную среду: служилую, армейскую, – и поведение и мышление героев определялось этой средой. Например, строка Пушкина «Живет в Коломне; где-то служит…» – очень яркая, емкая и важная социальная характеристика. «Коломна» – это не просто указание адреса, и «где-то» неопределенно не потому, что место службы не имеет значения. В Коломне жили люди малого достатка и низкого общественного уровня, и психология и поведение Евгения определяются его социальным положением («О чем же думал он? о том, Что был он беден, что трудом Он должен был себе доставить И независимость, и честь. Что служит он всего два года» и т.д.). Пожалуй, скорее от этого персонажа, затем от станционного смотрителя Вырина, а затем уж от гоголевской «Шинели» возникла и ярко расцвела в русской литературе тема «маленького человека».
В пьесах Островского купцы и свахи тоже действуют в кругу своих деловых интересов. Закладные, кредиты, покупки, банкротства, прииски, фабрики, и деньги, деньги, деньги – это не антураж, не упоминание вскользь, не уход от основной коллизии, это стержень жизни, причины конфликтов и движущие силы пьес. Любовные перипетии, ссоры и сватовства героев неразрывно связаны с их социальными интересами.
Погоны полковника Вершинина в «Трех сестрах» – это чистый антураж. Он мог бы заниматься своим любимым философствованием, будучи лейтенантом, соседским помещиком или земским врачом. Но если бы он после бала отправлялся в свою часть, чтобы прогонять солдат сквозь строй и усмирять бунтующий полк, его военная специальность перестала бы быть маловажной деталью, а коллизия стала бы не только личной, но и социальной.
Уже было отмечено, что герои в драме существуют не «вообще», они так или иначе принимают конкретный облик – короля, слуги, врача, инженера, бизнесмена. И социальная сторона этой конкретики важна не меньше, чем всякая другая. Например, в центре «Любви под вязами» О’Нила стоит не только и не столько любовь, сколько ферма. Это не просто фон, техническая «обозначка» социальной позиции персонажей. Нет, ферма – это смысл жизни, это центр и пружина действия. Кэботы не доят на сцене коров, но дом, коровник, амбар, конюшня, птичник, скот, земля – все это присутствует и участвует в действии. Кому это достанется? Как этим завладеть? Как это не упустить? Ферма – это богатство и счастье или проклятие и цепь, от которых надо бежать в Калифорнию? Страсти в «Любви под вязами» кипят куда сильнее, чем в салонных драмах. И ее действующие лица именно фермеры, и никем иным они в этой пьесе быть не могут: ни токарями, ни адвокатами, ни датскими принцами.
Иногда можно услышать странные мнения, что пьесы, где действуют учителя, интересны только учителям, пьесы «про рабочих» интересны только рабочим, про жителей села – только сельским жителям и т.д., а раз так, то пьесы про них и писать не стоит – не будет зрителей. Странная логика. Если ей следовать, то «Гамлета» надо смотреть только принцам и королям, пьесы Островского – только купцам, пьесы про олигархов – только олигархам, а драмы Чехова – тоскующей неработающей интеллигенции и обитателям хиреющих усадеб.
Социальная наполненность и достоверность драмы вовсе не предполагает, что она должна решать узкие профессиональные проблемы: Доктор Штокман у Ибсена выступает прежде всего, как врач, но это не мешает драме о событиях в мелком норвежском городке поднимать важные общечеловеческие проблемы, которые волнуют нас и спустя полтора столетия.
Социальные драмы интересны еще и тем, что они открывают для нас пласты жизни, с которыми мы можем быть совершенно незнакомы.
Впрочем, герои современных пьес часто бедны и эмоционально. Теперь почти не пишут драм о любви. То ли из моды вышли такие пьесы, то ли сама любовь – трудно сказать. Возможно, любовь ушла в далекое прошлое и сменилась поиском взаимного удовлетворения экономических и физиологических потребностей. Так или иначе, пьесы на эту тему считаются явно несовременными. Гораздо современнее про взятки, чиновников, олигархов, а еще лучше – вообще ни про что. Да и драматургу проще писать про секс, а не про любовь: уложить героев в постель (на пол, на стол) легче, чем придумывать всякие душевные движения, слова, подтексты и нюансы. Вместо полнокровных персонажей в пьесах действуют манекены и силуэты.
Одна из главных причин активного воздействия драмы – отождествление зрителем-читателем себя с героями. Если в пьесе действуют не картонные персонажи, а люди, чьи проблемы, боли, мечты, стремления нам близки и являются частью нашей жизни, нашего общества, нашего времени, они всегда найдут отклик у зрителя. Герои должны быть живыми. Мы переживаем расцветающую любовь Анны Карениной, горечь ее разочарований и трагическое самоубийство так, как будто она была реально существующим персонажем. Литературные герои и есть реальны. Они знакомы миллионам читателей и зрителей, которые знают их жизнь и характеры лучше, чем характер окружающих их реальных людей, нередко находят в персонажах свои черты, сочувствуют им, любят их, жалеют или ненавидят. Такими «реально существующими» людьми должны быть герои и наших пьес, чтобы их мир стал нашим миром, в котором мы живем вместе с ними.
26
Цит. по журн. «Театр», 1979, №5. С. 50.
27
Цит. по книге: Аникст А.А. Теория драмы от Гегеля до Маркса. М.: Наука, 1967. 287 с. С. 167.
28
Балухатый С.Д. Проблемы драматургического анализа. Л.: Academia, 1927. 86 с. С. 13.
29
Лайош Эгри. Искусство драматургии. Творческая интерпретация человеческих мотивов. М.: Альпина нон-фикшн. 2020. 430 с.
30
Бентли Э. Жизнь драмы. С. 39.
31
Выготский Л.С. Психология искусства. М.: Искусство, 1986. 573 с. С. 293.
32
Шоу Б. О драме и театре. М.: Изд-во иностранной литературы, 1963. 640 с. С. 184.