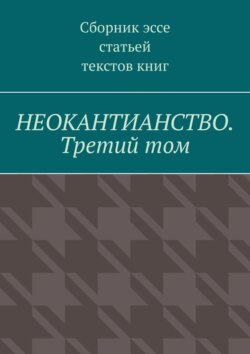Читать книгу Неокантианство. Третий том - Валерий Антонов - Страница 11
ЯКОВ ФРИДРИХ ФРИЗ
Конечное и вечное бытие или явление и вещь-в-себе
ОглавлениеВ целом, различие между явлением и вещью-в-себе считается главным пунктом кантовской философии. После того, как об этом долго спорили взад-вперед, и с каждым разом все больше и больше объясняли, что же на самом деле имеется в виду: так что в конце концов публика почти повсеместно поверила, что та бедняжка вещь-в-себе проиграла свое дело в первой инстанции или, по крайней мере, что вся процедура в этом вопросе была забракована навсегда. В самом деле, в «Теории воображения» Рейнгольда в качестве вещи, представляющей субстанцию, и в «Wissenschaftslehre» Фихте в качестве не-Я, оно тогда зависело только от общей услуги вещей вне нас. Но так близок к полному унижению был день его прославления, что в философии Шеллинга оно облекается в новое великолепие и украшение и достигает более высоких почестей, чем когда-либо прежде.
Шеллинг никогда и нигде не понимал Канта более правильно и не применял его лучше, чем введя в его систему различие между явлением и самим бытием под более понятными и менее надуманными выражениями конечного и вечного бытия. Он восстановил здесь самые простые и популярные выражения, которые, вероятно, можно найти в немецком языке для этого отношения и которые разрешены в каждом молитвеннике; но он особенно придал этому вопросу большую ясность, скрасив мнения старых философов о конечном и вечном, о царстве природы и царстве благодати, благодаря великому открытию Канта, что пространство и время являются лишь формами нашей чувственности и, следовательно, конечного, и придав им более определенный рисунок.
Что касается применения, то можно было бы избежать многих споров, если бы исходить из различия явления и бытия как такового, как это принято в народе, в катехизисе или хотя бы в большинстве молитвенников. Там вечность не представляется как бытие через все времена, но время вообще противопоставляется вечности, говорится о времени и вечности. Эта вечность, вечное бытие с Богом, которое все еще остается для нас тайной и которое мы только представляем себе, воображая бытие, в котором все ограничения нашего бытия во времени мыслимы, это вечное бытие с Богом есть само бытие, из которого мы видим только видимость.
Однако не стоит думать, что Кант, проводя различие между явлением и бытием-в-себе, предположил сделать новое открытие только из-за незнания того, что думали об этом более древние философы. Существует большая разница между противопоставлением материального и духовного, а также конечного и вечного, и даже последнего еще недостаточно для полного понимания важного открытия Канта, если не отличать явление от видимости в отношении конечного. Однако вряд ли кто-либо среди греков и неоплатоников подходил к различию между конечным и вечным больше, чем к различию между материальным и духовным. Древние были настолько неопытнее в искусстве абстракции, чем мы, и их неполные представления о небе и земле были для них такой помехой, что они сами редко могли подняться выше всех материальных представлений. Посмотрите, например, что рассказывает популярный Платон в конце» Федона», и не возносится ли душа Аристотеля к звездам только из-за их особой легкости? Их высшей абстракцией было то, что они отделили материю, как небытие, или даже как инертный, мертвый, злой принцип, от всего живого, духовного, как единственно реального, то есть возвысились до простого интеллектуализма.
Во всем этом, однако, совершенно не затрагивается истинное противопоставление видимости и бытия как такового; даже Шеллинг снова повсюду путает видимость и подобие, он делает из конечности ничто то, что для некоторых древних было лишь материей, таким образом, он совсем не постиг идею видимости в чистом виде, а потому столь же мало постиг чистую идею бытия как такового. Он знает оба понятия только в их применении и, соответственно, разделяет конечное и вечное.
В таких сложных обстоятельствах, возможно, не напрасно вновь обратиться к старому вопросу о вещи-в-себе, который скоро будет закрыт временем, и попробовать, не может ли он, наконец, получить свое должное.
Итак, среди всех более или менее важных вещей, которые открыл или изложил Кант, где это различие между явлением и бытием-в-себе приобретает такое большое значение, что аргумент всегда возвращается к нему? На это легко ответить. Именно потому, что оно подготавливает или фактически уже излагает основную догму трансцендентального идеализма, оно связывает с вопросом о конечном основании достоверности нашего познания одновременно и ответ на вопрос о конечном основании реальности в бытии вещей. Последний ответ является, согласно критицизму, простым результатом исследования первого вопроса, но для всякой догматической философии именно первым и следующим вопросом, по которому она, собственно, и хочет определиться, прежде чем начать философствовать. Разговоры об этом различии, таким образом, по большей части стали столь громкими и путаными только потому, что лишь немногие понимают себя в трудоемкости критического метода, и большинство из них снова хватаются только за догмы. Так и Кант своими кропотливыми исследованиями дал рационализму лишь результаты, которые нужны ему для его догматических игр.
Тот, кто, согласно догматическому методу, задумывает и хочет развить различие между конечным и вечным, или между явлением и самим бытием, сразу же начнет с утверждения: Истина есть только абсолютная истина вечного. Знание, к которому должен стремиться философ, есть только абсолютное знание, знание абсолютного, вечного бытия-в-себе; всякое знание конечного есть только обман и видимость. Поэтому единственной реальностью для него является реальность вечного, из этого он исходит и только из этого хочет говорить. Но, к сожалению, в нашем опыте это встречается крайне редко, о нем мало что можно сказать, и философ сразу же оказывается в величайшем затруднении, пытаясь постичь конечное из вечного, свести конечное к вечному, в то время как мы обычно лишь сводим вечное к конечному, чтобы иметь необусловленное к данному обусловленному. Сначала Шеллинг ограничился, лишь до тех пор, пока это было возможно, ответом, что конечному, как только оно у нас появляется, вполне найдется место в вечном, но когда его собственные сомневающиеся друзья ответили, что у него еще нет конечного вообще, что как только оно появляется, его хочется приспособить, но как его добавить, так сказать, к вечному: Поэтому он прибегает к практической философии и в ответ выдвигает Падение, как отпадение вечных идей от вечных, идею которых, однако, вместо того, чтобы искать ее в нашей Библии, сборнике гимнов или катехизисе, он смог найти только в тайнах греков. Конечность существует лишь как наказание за отступнические идеи и, более того, как фактическое небытие. С этим ответом, пока что, дело снова немного запутывается, и если Шеллинг теперь все еще представляет это отступничество как отступничество от Бога, и называет вечное бытие отступнических идей бытием в Боге, он может, тем не менее, постепенно, поскольку Абсолют больше не является самим Божеством, назвать отступничество простым отступничеством от Бога, а вечное бытие идей – бытием с Богом, и таким образом мы снова получим общую идею разумного мира, которым управляет Бог. Это было бы неплохо, и мы снова обрели бы мир, но это совершенно противоречит согласию [Einklang – wp]. Шеллинг вообще не ответил на первый вопрос, а лишь предпослал конечное вечному еще худшим образом. Где же здесь знаменитое абсолютное тождество, безразличие и единство вечного? Здесь мы вбираем в себя множественность форм и обликов конечного как такового в вечном; мы имеем, кроме абсолютно идеального Божества, вечные идеи, отступнические вечные идеи, даже каждый из нас является одной из них, и все они находятся с Божеством и рядом с ним и бок о бок в вечном. Так что загадка всегда остается одной и той же, и Шеллинг снова и снова начинает с конечного, а не с вечного. Падение человека принесет ему так мало пользы, что он скорее даст самую правдоподобную причину для опровержения любого рационального догматизма, а именно через невозможность теодицеи [оправдания Бога – wp].
Всякий рационализм отвечает на вопрос: что есть истина? только в отношении истины вечного, и тем самым сразу же исходит из реальности вечного как единственного. Но он не может исходить иначе, чем действительно исходя из отношения познания к своему объекту и из отношения мысли к бытию, ибо через это определяется высшее понятие истины. Но при этом путают понятие эмпирической истины с понятием трансцендентальной истины и теперь думают, что отношение мысли или понятия к идее есть то же самое, что отношение мысли к бытию; даже отношение идеального к реальному, или духа к материи, таким образом, еще более запутывается, и приходят к абсурдным утверждениям, например, что душа есть понятие тела, а последнее есть идея души, при этом, однако, нечто все же можно мыслить согласно платоновской абстракции. Чистейшее отношение, однако, есть отношение познания к своему объекту, мышления к бытию, согласно Шеллинга субъекта к объекту. На этом я хочу остановиться.
Если исходить из этого отношения, то абсолютную реальность мы можем искать только либо в мышлении, либо в бытии par excellence, либо в том и другом одновременно.
Если мы ищем ее в мышлении, то воображение является единственным простым бытием, о котором мы можем составить себе представление; поэтому мы помещаем реальность в высшее абсолютное воображение; в то же время сама идея истины есть как бы нечто объективное для нашего разума, лежащее вне его, но, несмотря на это, мы едва ли можем мыслить бытие без воображения; мы, конечно, можем думать, что что-то есть, не воображая этого, но бытие есть как бы воображение par excellence, абсолютное воображение. Отсюда возникает идея, что мир на самом деле является мыслью Бога, а Бог, как абсолютная воображающая сила, творит своим мышлением. Таким образом, это мнение проходит все стадии запутанного эгоизма, вплоть до чистого интеллектуализма доктрины монад Лейбница.
Но если это так, и тем не менее мы находим в мире столько зла и нечестия, то возражение становится неопровержимым: как мог Бог придумать такие злые мысли?
С другой стороны, можно также сказать, что мышление тоже есть, само мышление имеет бытие, но не обязательно, чтобы бытие также имело мышление; если мы поместим бытие в простое воображение, то последнее воображение снова имеет бытие, поэтому мы должны искать последнее основание реальности в том, что есть par excellence. Это мнение затем формируется через все путаные степени материализма в две идеи, одна из которых, как пантеизм, звучит уже как спиноза: мир есть Бог, другая, как обычная вера, говорит: мир есть через Бога, Бог есть причина мира.
Это последнее мнение фактически нефилософское, поскольку мы делаем конечное следствием вечного, но как бы то ни было, согласно этой идее мир всегда является творением Бога, и если мы находим в нем столько зла и нечестия, то возражение остается неопровержимым: как мог Бог создать нечто столь нечестивое?
Если, однако, мы должны рассматривать бытие мира как бытие Бога, то мы сами находимся в Боге или, как падшие вечные идеи, по крайней мере, являемся частью Божества, против чего, однако, остается неопровержимое возражение, что если от Бога в мире отпало столько зла и порока, то сама сущность Божества стала хрупкой.
Если мы хотим, наконец, объединить мышление и бытие друг с другом, а не исходить только из них, то мы всегда будем возвращаться к спинозизму, а если он нам не нравится, то к интеллектуализму Лейбница, ибо в безразличии бытия и мышления бытие фактически имеет перевес, так как всякий мыслящий все же имеет бытие, но бытие не обязательно имеет мышление; что же нам делать, даже со всеми богами, с позитивным вечным, которое не есть даже? Шеллинг, конечно, какое-то время воспринимал это иначе, твердо настаивая на полном безразличии бытия и мышления в абсолютном разуме; сам факт, что он все же называет абсолютный разум разумом и продолжает приписывать ему самопознание, показывает, что его безразличие на самом деле склоняется к интеллектуализму. Ведь если бы он действительно хотел сдержать свое слово абсолютного безразличия, он, как я уже показал в другом месте, был бы неверен своему собственному фундаментальному принципу интеллектуального наблюдения, и если бы он действительно генерировал свои идеи, как это делаем мы, путем простого отрицания, то есть посредством ненавистной рефлексии, он бы тогда только сказал о вечном, что оно не есть конечное, и поэтому обязательно должен был бы исходить сначала из конечного.
Но что толку спорить с ними, мы всегда получаем один и тот же ответ, как человек, который считает, что с большим трудом объяснил что-то другу; в конце концов друг доверительно кладет руку ему на плечо и тоскливо говорит: да, это совершенно верно, ты остаешься в этом совершенно верен себе и, конечно, должен так говорить, но это только потому, что ты дурак. Кто-то из них действительно хочет быть кем-то вроде этого. Они принимают нас за своего рода циклопов, только без кузнечного таланта, чей один, более яркий, внутренний глаз был выжжен злым отражением, так что в настоящей внутренней жизни для нас наступила ночь. Но в освященной мистификации интеллектуального восприятия у них возник внутренний орган для религии; они видят вечные тайны, но Божество лицом к лицу, и это с совершенно невероятной простотой и скромностью. Когда Моисей однажды увидел Господа, Он сиял так ярко, что народ не мог вынести ослепительного света, но у этих высший свет фосфоресцирует так внутренне, что внешне мы не замечаем в них ни малейшего посвящения, они скорее проходят мимо нас, как сапожники и портные.
Боюсь, однако, что эти мистификации доставят нам, бедным читателям, гораздо больше хлопот, когда молодые люди однажды поумнеют, размышляя над честным гением сапожника. Глупость детских попыток учеников в натурфилософии была еще наивна в том, что, понаблюдав несколько недель, они решили, что уже научились у Бога искусству создания мира, и тут же сделали его подобие из легкого плотника; напротив, по-детски мистифицированные набожные изречения обещают быть отвратительными.
Шеллинг слишком долго колебался, прежде чем объявить новое учение о религии и добродетели, рожденной от Бога; ученики устали от рыхлой, постоянно повторяющейся теоретической пищи, искали для себя мистическую религиозную пищу и теперь стали упрекать его интеллектуализм, который теперь называют идеализмом, за эту бессодержательность. Идеализм выходит из моды, и нам обещают новый реализм, о котором, однако, все еще все выглядит так бурно, что еще мало что можно сказать. Тем временем, кажется, что все начинается с Бога и от Бога, а что еще нужно, если у человека есть это? Профессор Вагнер до сих пор говорил об этом наиболее подробно в своей «Идеальной философии». Но она, как истинная фантасмагория, построенная на принципе, что философия и поэзия полностью едины, является настолько глубокой фантасмагорией, даже без попытки систематической последовательности, что было бы слишком рано хотеть интерпретировать сон, который едва начался.
Выглядит смешно, когда в этих школьных сочинениях автор так добросовестно хочет свалить свое невежество на публику, думая, что он пишет так бурно и путано вначале только потому, что публика еще совсем не подготовлена к восприятию его новых высоких мыслей. Но как только он каким-то образом оформился в языке и форме, все его открытие становится ничем иным, как более или менее хорошо понятым лейбницианством или спинозизмом. Итак, хватит об этом, вернемся к критике.