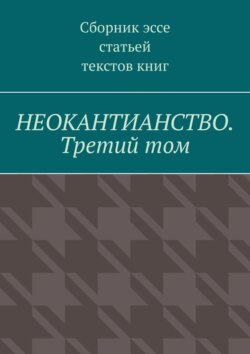Читать книгу Неокантианство. Третий том - Валерий Антонов - Страница 7
ЯКОВ ФРИДРИХ ФРИЗ
Новая критика разума
ОглавлениеПредисловие
Цель этой работы уже достаточно ясна из ее названия, и я сказал об этом больше во введении. Я представляю публике плод долгих и часто повторных исследований. Но как скоро мы найдем человека, который потребует точного понимания столь обширных, достаточно скупых и трудных исследований? Возможно, раньше, чем кажется сейчас! Мы стоим на той ступени философского образования, где привлекательная лекция по философии одержала еще более весомую победу, поскольку ей удалось одновременно облечься в маску суровой и строгой научности. Это украшение, однако, не есть здоровое свойство нашей жизни, а лишь повсеместное чужеземное подражание, и по этой самой причине нельзя не надеяться, что оно не распадется вскоре на элегантную поверхностность и мистическую бессмыслицу.
Мое продолжение, особенно аристотелевских и кантовских исследований, имеет ценность только в самых строгих и узких требованиях истины. Если не существует философии как строгой науки, отличной от всякой мифологии, которая становится понятной нам чисто умозрительно, в которой все отдельные фундаментальные и доктринальные предложения могут быть перечислены, где для каждого из них есть определенное место и собственное обоснование, как в чистой математике, и если не в наших интересах работать над этой наукой таким образом, то мы должны полностью отказаться от наших усилий. Но в этом нет необходимости; история философии достаточно подтверждает тот факт (даже если я не хочу останавливаться на доказательстве важности знания научных форм), что нить этих исследований, как бы часто ее ни обрывали, чтобы дойти только до приукрашивания и применения, тем не менее, каждый раз вскоре вновь берется за нее.
Поэтому, как и в математике, мы не хотим использовать ни благочестие, ни эрудицию в качестве предлога, чтобы заявить о себе, а только истину.
С другой стороны, эта пестрая, изысканная речь философии, подобно семи тощим коровам из сна фараона, как бы часто они ни пожирали жир в своем воображении, в конце концов, всегда остается лишь сухой тощей логикой. Что толку выражать бесплодные стропила единообразия и разнообразия на латыни и покрывать их зелеными венками цветов, которые не могут там прижиться, которые при первом взгляде солнца увядают, а при следующем порыве ветра снова разлетаются? Напрасны усилия, чтобы покрыть ими удобную хижину для людей, не говоря уже о храме для богов. Эти украшения в изложении и языке могут показаться важными только тем, кто не совсем доверяет сухой правде и своему энтузиазму в проведении суда. Мы этого не боимся. Горькое зелье апофеоза можно смешать с сиропом для простых людей, чтобы они только подносили его к губам; тогда пусть тот, кто удостоится труда, увидит истину в свечении мистифицированных чувств, подобно цитируемым духам. Но тот, кто знает науку, захочет видеть везде и всюду сияние и не будет бояться никакой ясности.
Введение
Именно дух времени живет и преобразуется в нашей истории, он является могущественным властителем каждого человека, ибо только от него все питаются и воспитываются, только от него зависит, будет ли малая сила действовать величайшим образом или величайшее будет незаметно подавлено, и все же именно в состязании с ним должны измерять себя те, кто хочет работать над воспитанием духа. Это относится прежде всего к самодеятельности разума в философствовании.
Каждый человек воспитывается общественным мнением своего времени; оно вводит его в ход мысли, и даже еще чужое мнение бессознательно подталкивает его вперед, иногда потому, что он хочет польстить или, по крайней мере, следовать его интересам, иногда потому, что он, возможно, также хочет поразить его противоречием, иногда, наконец, только потому, что он хочет быть понятым им, – отчасти всегда к цели, которую оно подготовило в духе времени. Но прежде всего – эффект! Там, где сейчас искра поджигает все далеко и повсюду, в иное время самых сильных углей не хватает, чтобы поддержать ее. И здесь все решает интерес момента.
Таким образом, и в философии существует общественное воззрение как дух времени, который определяет интересы момента и дает направление каждому мыслителю. В этом духе времени заключено основное суждение о том, чего должна достичь философия; он несет в себе все философское образование эпохи с его достоинствами и недостатками. Он подтверждает основные предрассудки времени, которые наследует каждый, кто не освобождается от них собственными усилиями; и это освобождение – та трудная борьба, которую мы должны вести, если хотим работать для философии.
Общественное представление о философии всегда формируется тем, что люди думают о пользе философии. Но весь интерес философии держится на трех идеях – истины, красоты и добра, и здесь решающим является то, как эпоха представляет себе их по отдельности или в их единстве, в соответствии с практическими потребностями одной и теоретическими потребностями другой.
Первое, что движет эпохой и определяет ценность философии, это то, насколько необходимой она считается для ее практических интересов, насколько незаменимой она считается для ее идей справедливости, добродетели и религии, или даже для эстетического интереса красоты. Здесь, однако, мы видим, что общественное мнение постоянно меняется. Когда в более поздние времена мысль снова стала свободной, люди начали доверять философии, как для религии, так и для права. Закон иерархии и буква позитивной веры сначала потеряли свою неоспоримую силу, пока безбожие вошедшего в моду эмпиризма не уничтожило веру в благое дело разума. Еще долгое время общественное мнение оставалось в пользу философии права; надеялись создать конституции государств с помощью философских теорий, а законы – с помощью естественного права; наконец, в наше время только медики надеются научиться этому с помощью естественной истории, и, не обладая вкусом и изящным искусством, некоторые думают, что смогут снова завоевать его с помощью философии. Таким образом, философия приобрела больше врагов, чем друзей, благодаря своей практичности, которая слишком легко вступает в конфликт с образным и позитивным. В самом деле, человек давно бы отошел от всякой спекуляции, если бы первоначально подчиненный теоретический интерес к истине ради истины не оставался всегда неизменным, даже против воли всегда возвращался к старой теме и хотя бы на время снова стимулировал каждую вновь расцветающую юность; ведь это неистребимое стремление развивающегося интеллекта – сделать единство своего собственного существа действительным законом во всех своих знаниях: отсюда вечно живой дух спекуляции, который везде ищет систему и принцип, хочет установить и объяснить их.
Здесь, однако, мы должны отличать эту потребность в философии от реальных попыток ее удовлетворения. Созданная система, при всей ее последовательности, всегда является лишь последним результатом основных суждений ее создателя о природе философствования, и проследить нити рассуждений в этой глубине сознания, где, собственно, и развиваются зародыши нового представления, – задача не из легких. В основном эти первые зародыши – более или менее верные предрассудки, впитанные из прошлого времени о цели и природе умозрения. То, что появляется сразу и что легче заметить, есть лишь попытка соответствовать этим законам и удовлетворять эти потребности. Однако в этой глубине кроется тайная сила духа времени.
По этой причине нельзя путать временно господствующую моду с самим духом времени в философии; последний ставит задачи, которые необходимо решить, а мода лишь делает временные отдельные попытки решить их, громко заявляя о себе на время. Если бы эти задачи решались не новыми модами, а неподвижной наукой, то история философии в том смысле, в каком мы должны ее теперь понимать, достигла бы своего конца, и по этой самой причине не существовало бы больше философского духа времени, так как все взгляды, в которых он один живет и движется, были бы уничтожены наукой. Простая философская мода сначала только стимулируется более выдающимся мыслителем и затем живет в воззрениях философствующих людей, даже получает свое веское слово только через аккламации [аплодисменты – wp] толпы, которая ее повторяет; дух же эпохи, напротив, действительно живет в мыслителях каждой эпохи. Так, в нашей стране сменяли друг друга моды вольфианства, французского материализма, а затем кантианства, пока философия вселенной или мировое идолопоклонство не стали в порядке вещей. Эту моду легко проследить исторически. Но гораздо труднее проследить, как под ее покровом постепенно трансформировался дух времени. Для того, кто стремится к философии, эта мода, если только у него хватит терпения, точно не является опасным врагом, ибо она, как и все моды, разрушается, как только с нее снимается очарование новизны; ее ошибки – это только ошибки в результатах, которые проявляются при дальнейшем распространении. Истинные же ошибки духа эпохи заключаются в первых предпосылках, на которые человек обычно даже не обращает внимания, которые он либо бессознательно принимает вместе с собой, либо в соответствии с которыми его неслышно осуждают, поскольку они являются для судьи бессознательным и потому совершенно не подозрительным правилом истины. (1)
Эти предрассудки, глубоко укоренившиеся в общественном мнении самостоятельно мыслящих людей каждой эпохи, на самом деле являются тем, с чем мы должны бороться, если хотим помочь спекуляции.
Поэтому возникает вопрос: Каковы потребности спекуляции в наше время? Как должна развиваться наша философия? Ответ на этот вопрос может быть найден и понятен только в том случае, если мы докажем с помощью исторического взгляда, какие ложные предрассудки еще скрываются здесь, и если мы в связи с этим будем отличать то, что является просто модой мыслителей того времени, от того, что является общественным мнением мыслителей того времени. Мы попытаемся дать здесь такой исторический взгляд.
Все философские загадки похожи на задачу Колумба – поставить яйцо на стол; как только загадка полностью решена, ученик с трудом может найти место, где можно было решить задачу, потому что все стало предельно ясно. Здесь все зависит от регулируемой, четкой абстракции, которую очень трудно найти вначале, но достаточно легко освоить позже. Канту потребовалась долгая подготовка в истории философии, а затем годы долгих сравнений, пока ему не удалось точно отличить формы восприятия от понятий рассудка; теперь его ученик учится воспринимать и постигать эту абстракцию за несколько часов. Таким образом, как только мы в какой-то полноте овладеем важнейшими абстракциями, философия начнет формироваться как солидная наука; тем самым она действительно сначала станет делом школ, как математика, и в ней будет положен конец всякой претенциозности, всякому великолепию и всякой таинственности. Все споры в философии вращаются вокруг одной очевидной истины: человеческий разум конечен и чувственен, следовательно, ограничен: следовательно, для человеческого разума не существует такой вещи, как «ограниченный разум».
1) больше, чем простое чувственное знание, но наше чувственное знание ограничено, оно существует для нас
2) непосильное незнание и отсутствие абсолютного знания.
С развитием этой истины в ее следствиях должны разрешиться все споры философов и в ней должна сохраниться прочная наука.
Конечная цель всего философствования заключается в его практическом интересе к идеям добродетели, закона и религии, но эта конечная цель является лишь последним результатом; мы должны обращать на нее небольшое внимание, если хотим узнать философский дух времени. Это чисто спекулятивный импульс, который здесь определяет направление к высшему, идеальному или к меньшему и общему. Что касается этого практического интереса, то в истории философии выделяются два поворотных момента. Сократ вернул греческую философию от пустой логики софистов к ее практическому интересу, а в наше время спор с позитивной религией сделал лишенную идей и религии естественную доктрину модным оправданием низкого обыденного образа мышления образованных классов, которому в любом случае так легко благоприятствует в путаной толпе поднимающейся культуры потребность каждого индивида, превосходящего всех. Наш период, особенно отмеченный Кантом, начал противодействовать этому со стороны школы, которая восстановила свое уважение к идее и религии перед образованным умом.
Но нам нет нужды рассматривать здесь эти последние последствия, ибо в этом великие мыслители всех времен и народов все равно согласны. Индивидуально низкий и подлый взгляд на мир легко соединяется с политическим величием и политическим гением ума, но с истинно философским гением глубокого мыслителя этот неидеальный взгляд на вещи настолько противоречит, что философский гений скорее будет виновен во всех самых непонятных несоответствиях, чем откажется от этого убеждения. Трудно будет назвать истинного философского гения в качестве примера против этого. Одно только моральное убеждение автора определенного духа философии является плохим мерилом идеальной ценности или неценности самого этого духа; ибо всякий дух философии живет непосредственно только в теоретическом умозрении; в случае автора от случая зависит, соединил ли он свое моральное убеждение с умозрительным основанием логическим образом или был принуждаем только нестыковками; Эти несоответствия не повторятся единообразно в духе его философии; только его школа может показать в ней, что действительно принадлежит этому духу, и тогда самый благочестивый учитель часто будет готовить самых безбожных учеников, и даже с точностью до наоборот.
Дух философии, который мы здесь ищем, проявит, таким образом, свою истинную жизнь и сущность только в собственно спекулятивной части науки, (в этом мы охотно предоставим высокие намерения и желания каждому отдельному человеку). Итак, вот общее требование к философии, которое мы сейчас озвучиваем: нужно показать вторичность конечного по отношению к вечному, объединить природу и свободу, так чтобы ни одно не уничтожало другое, оба права существовали вместе. Эта задача является общей для всех спекуляций и всех времен; различие проявляется лишь в высших максимах, согласно которым хотят прийти к ее решению; в максимах, которые при естественном формировании понимания сначала безошибочно направляются предрассудками. Ибо все трудности здесь всегда определяются отношением чувства к разуму. Конечное принадлежит чувству, вечное – разуму, и в своем противостоянии с чувством и истиной истина требует, чтобы права чувства и разума были разрешены и чтобы они были положительно объединены друг с другом. Это, однако, очень трудно при неподготовленном обычном образе мышления; каждый человек либо подпадает под предрассудки чувства, которое считает достаточным только себя, либо разума, который самодостаточен, или, наконец, существует даже отрицательное объединение этих двух понятий в скептицизме.
Разум ве
дет нас непосредственно к познанию конечного, но для познания вечного нам нужна более высокая точка зрения специфически умозрительного знания, которая принадлежит только мыслящему разуму для самого себя и к которой он ведет, если хочет установить единство как закон всего своего знания. Первая дает нам холодный естественный взгляд на вещи знания и здравого смысла. Другой дает нам религиозный, возвышенный взгляд на вещи веры и идеи. Оба, здравый смысл и идея, затем пытаются спастись в обычном духовном становлении либо с эмпирическим базовым предубеждением чувства, либо с рационалистическим базовым предубеждением разума.
Для обычной жизни у нас есть две основные максимы, согласно которым ведется философия; одна принадлежит эмпиризму обычного разума и выражает себя: Я верю только тому, что вижу и слышу; другая относится к рациональности здравого смысла, является логической и выражается: Я верю только в то, что может быть доказано. Оба объединяются в третьем: Я верю только в то, что можно доказать на основании того, что я видел и слышал. То, о чем судят и что заключают на основе этих максим, – это то, что общепринято и понятно, то, с чем принято соглашаться. Но как только человек начинает касаться самих этих максим, утверждать их истинность или просто желать установить их связь друг с другом, здравый смысл уходит в колеблющееся, темное, неопределенное; у него больше нет твердого суждения.
Этим основным максимам здравого смысла, который хочет знать все, противостоит религиозный взгляд на вещи, который защищается партией веры, обвиняющей этот разум в гордыне и самомнении. К этому опять-таки относятся две противоположные фундаментальные максимы; одна принадлежит идеализированному эмпиризму, который в принципе скор на всякую спекуляцию, какой бы философской она часто ни казалась, согласно поговорке: Да, под луной есть много такого, о чем ничего не снится мечтающему философу. Многие верования и суеверия укрываются под крылом этой доктрины. Другая максима принадлежит идеализированному рационализму, который обвиняет интеллект в одностороннем стремлении к размышлению без цели и смысла, согласно возражению: В том, как вы видите вещи, вы, в конце концов, имеете только свой взгляд на вещи; кто за вас стоит, что сущность мира сама по себе действительно такова, какой она вам представляется, не скорее ли уже в вашем убеждении, что вы обладаете только ограниченным конечным разумом, вы также будете иметь только ограниченный взгляд на вещи? Но не успеет прозвучать это осуждение общепринятого взгляда, как тот же разум, предоставленный самому себе, осмеливается вновь подняться к первоисточнику истины: Следуй за мной, говорит он, и я покажу тебе, за пределами всех образов твоего зрения и слуха, вечное единство и необходимость во всем, перед преображенным взором.
Таким образом спекуляция играла с нами и с собой на протяжении всей истории. Три предрассудка бессознательно и непроизвольно направляют суждение об истине у каждого неподготовленного человека. Предрассудок естественного эмпиризма, или опоры на мировоззрение; предрассудок естественного рационализма, или опоры на доказательства; и предрассудок собственно произвольного рационализма, или опоры на идею, ибо четвертое мнение идеализированного эмпиризма существует только в оппозиции, не имея положительного свойства.
Давайте сравним это более подробно с недавней историей философии.
С тех пор, как греческая философия разработала формы способности размышлять в соответствии с понятием, суждением, заключением, доказательством и системой, рационализм здравого смысла приобрел твердую форму, в которой, движимый удобством классификации и доказательства, он требовал и пытался сформировать теоретическую науку повсюду в соответствии с максимой: ничто не является определенным, кроме того, что доказано на собственных основаниях. Через схоластическую философию, от Картезиуса, Спинозы до Вольфа, более или менее бессознательно формировался предрассудок о достаточности логических форм и доказательств для обеспечения истины и определенности в философии. Это можно назвать предрассудком математического метода, ибо то, что понималось под математическим методом во времена Вольффа, было не чем иным, как общим логическим методом, т.е. процедурой подведения всех терминов науки под определения, формирования из них аксиом и выведения из них доказательств. Таким образом, постепенно подвергая доказательству все и вся, вся система человеческой мудрости в конце концов повисла только на одном кольце логического тождества, противоречия и достаточного основания; ибо здесь мыслящий разум был предоставлен самому себе, и последним основанием, на которое он мог опереться, были только правила его мышления.
С другой стороны, в Англии, особенно со времен Веруламского Бэкона, развилась более эмпирическая спекуляция, основанная на эмпирической максиме: доверять только чувственному восприятию. Эти две партии вступали в конфликт друг с другом, особенно через Лейбница и Локка, но они спорили только о методе применения, и каждый, отчасти бессознательно, позволял основной максиме другого применяться наряду со своей собственной, взгляд доказывающей стороны был только запутанным, доказательство доказывающей стороны – просто дедукция, таким образом, пустая сама по себе.
Вот почему Юму удалось сделать так, что вся естественная спекуляция сама по себе вводит в заблуждение, объединив обе максимы друг с другом. В качестве основной максимы своей спекуляции он подчинил предрассудок: только через доказательства из того, что попадает в созерцание, возможна уверенность в знании. Отсюда он показал, особенно на примере использования понятий причины и следствия, что все так называемое спекулятивное знание не может быть основано таким образом, и обрек спекулятивный ум на неизбежный скептицизм.
Против этого представления в традиционном виде нельзя было сказать ничего последовательного; нужно было оставить этот способ спекуляции, и теперь он был отброшен назад к простому самопознанию разума, через которое мы сначала получили трактовку эмпирической психологии у англичан и немецких эклектиков.
Для более спекулятивных умов, однако, более глубокое обучение лежало в прошлой истории. Фридрих Генрих Якоби впервые с достаточной остротой обнаружил причину неудачи всех вольфианских спекулятивных попыток, показав посредственность всех доказательств и постижений и доказав, что сначала должно быть нечто определенное, из чего можно получить доказательство, прежде чем можно будет начать доказывать. Он учил нас, что всякий детерминизм неизбежно заканчивается фатализмом, поскольку высшая причина с ее собственной внутренней необходимостью существует лишь как судьба, ибо causa sui, причина самой себя, была слишком мелким оправданием для вывода детерминизма самого по себе.
Кант уловил те же отношения, и они привели его к «Критике разума». Он впервые увидел, что доказательность математики зависит не от ее строго логической формы, а от ее собственного взгляда; последнего не хватало в философии, поэтому этот метод, пользовавшийся в то время таким большим уважением, не мог быть использован в ней вообще, а только с помощью регрессивного, рассудочного метода. Ничего нельзя было получить, приступая непосредственно к созданию спекулятивной системы; напротив, успех изложения Юма ясно показывал, что разум таким образом запутывает себя в противоречии с самим собой; поэтому было неизбежно необходимо, чтобы он сначала занялся самим собой и достиг самопознания, насколько далеко он способен или не способен зайти в спекуляции своими собственными силами. В ходе этих исследований он впервые обнаружил различие между аналитическими и синтетическими суждениями и, кроме того, в пространстве и времени формы чистого восприятия, которые становятся источником математических общих и необходимых законов и возникают не из интеллекта, а из продуктивного воображения. Далее он показал против Юма, что не только понятие причины и следствия, но и вся таблица понятий, которую он называет таблицей категорий, возникают в нашем уме независимо от опыта, но тем не менее должны обязательно применяться даже каждым скептиком, поскольку они являются необходимыми условиями возможности опыта вообще.
Наконец, он показал, что за пределами области опыта, в области идей, спекулятивный разум не в состоянии ничего сделать для себя, что он не имеет здесь силы положительного знания, но что он оправдывает для себя возможность свободы, признавая свое условное чувственное знание только как субъективную видимость, только как свой взгляд на мир, который не нужно признавать необходимым законом бытия вещей в себе.
Таким образом, посредством непогрешимого критического метода должен был быть решительно установлен факт умозрительности нашего разума, а именно, что мы неизбежно нуждаемся в категориях как условиях возможности опыта и что спекулятивный разум не в состоянии познать для себя ничего положительного в области рассудка, но почему это так, осталось необъясненным Кантом. Как мы имеем право на сам опыт и его формы a priori? и откуда берется наша спекулятивная неспособность? это здесь не было показано. Несмотря на строгую систематическую форму и регулярную завершенность системы, целому не хватало вывода, закругления, а значит, внутренней установки и единства.
Примечания
1) По этой причине, как однажды заметил Лейбниц, многое остается незамеченным именно потому, что слишком хорошо известно нам; и часто больше всего открытий совершают те, кто сформировался для науки без учителя. Так и в философии выгодно переходить от новых учителей к совсем старым, именно потому, что у последних мы и не учимся, и нам не указывают на идеи. Но увлечение философской эрудицией и выдающимися цитатами имеет только пагубное влияние и подавляет самостоятельное мышление заученным педантизмом и поразительной элегантностью в бездумном пересказе иностранных слов.
LITERATUR – Jakob Friedrich Fries, Neue oder anthropologische Kritik der Vernunft I, Heidelberg 1807.