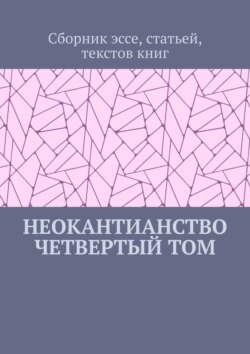Читать книгу Неокантианство. Четвертый том - Валерий Антонов - Страница 5
ФРАНЦ ШТАУДИНГЕР
Спор о самой вещи
ОглавлениеСтарый призрак снова преследует нас, призрак, который, как мы думали, был изгнан время от времени. Вещь-в-себе», которая имеет тенденцию восседать на троне неузнаваемо за пределами явления, снова появляется, как белая женщина в замке Гохернцоллерн. И это явление вещи-в-себе происходит сегодня в социалистических или марксистских кругах. Предвещает ли оно спасение или катастрофу, покажет только будущее; пока же оно вызывает лишь споры.
В этом споре на одной стороне оказался строгий материалист старой закалки Георг Плеханов, известный своими" Трудами по истории материализма», в которых он сделал резкие выпады против кантианцев, особенно против Ф. А. Ланге, а на другой стороне – Эдуард Бернштейн, а также доктор Конрад Шмидт, которые надеются найти у Канта возможность углубить свою философию. (1)
Проблема, о которой здесь идет речь, была развита Плехановым в том смысле, что Кант противоречит сам себе в том, что, с одной стороны, он правильно считает вещи сами по себе причиной наших ощущений, а с другой стороны, утверждает, что категория причинности не применима к вещам самим по себе. (2) С другой стороны, Конрад Шмидт, которому Бернштейн приписывает разрешение этого спора, представляет мысль о том, что учение Канта является по существу теорией опыта, в рамках которой везде имеет место строго причинная связь явлений. Эта мысль, которую можно также назвать материализмом, принципиально отличается от метафизического материализма, который «объявляет элементы явления вещами самими по себе». (3)
Не вызывает сомнений, что оба спорщика говорят друг с другом не о том. То, что хочет подчеркнуть Плеханов, оставляет совершенно холодным Конрада Шмидта, и, наоборот, Плеханов не знает проблем, которые привели Канта к отделению вещи-в-себе от явлений и которые неизбежно должны были привести к этому. Он с яростью и оружием здравого смысла восстает против вывода, предпосылки которого он не уловил. По этой причине, конечно, он не может надеяться на понимание со стороны оппонента возражения, которое дорого его сердцу и которое мы должны признать весьма обоснованным, даже если оно неверно задумано.
Таково положение дел – но не только в социалистических кругах. Ссора, возникшая между упомянутыми выше социалистами, лишь отражает состояние, в котором проблема знания находится и сегодня. Одни, стоя на почве эмпиризма и психологизма, не признают главного эпистемологического достижения Канта; другие, продвинувшись в понимании этого достижения, забывают учесть чувствительный пробел, который Кант не только оставил открытым, что не повредило бы, но который он пытался закрыть противоречивым допущением. В результате этой попытки решения, предпринятой самим Кантом, «вещь в себе» должна вновь и вновь появляться как призрак и приводить в замешательство.
Мы хотим сделать попытку привести в чувство этот бедный, ошибочный дух в оркестре. Для этого необходимо, чтобы мы кратко рассмотрели наиболее существенные вопросы познания, занимавшие мыслителей до Канта, затем изложили ценное открытие Канта, в-третьих, выявили проблему, которую еще предстоит решить впоследствии, и, наконец, указали путь, который хотел бы привести к ее решению.
Исторически первой проблемой, занимавшей философию, является вопрос: что есть действительное бытие в чередовании явлений? Ведь стремление искать единство в многообразии и изменчивости присуще мышлению, пробудившемуся к самосознанию. И это единство было найдено, например, Фалесом в воде, Анаксименом в Апейроне, Парменидом в единой и вечной сфере, заполняющей пространство, и т. д. и т. п. За исключением нескольких метафизиков, это естественное исследование фактической основы бытия больше не проводится философами. Естественные науки, особенно физика и химия, заняли их место и на основе своих методов, которые постепенно становятся все более и более определенными, исследуют единую связь всего сущего.
Даже при проведении этого исследования бытия, естественно, должен был возникнуть второй вопрос: Как мы познаем? Каковы средства познания, с помощью которых мы можем приблизиться к существующему, принять его в свое познание? Этот вопрос уже лежит в основе элеатской философии. Когда Парменид заявляет, что то, что существует как вечная сфера, мыслимо, а то, что мыслимо, реально, но не признает истины за изменчивыми явлениями органов чувств, он уже сделал шаг за пределы простого исследования бытия и занялся познавательной критикой. Он уже разделил средства познания на чувственные восприятия и мысли и, отвергнув первые, встал на сторону мышления как единственного адекватного средства познания. И наоборот, гераклитовское учение о вечном течении основано, хотя и менее четко, на идее решающего значения чувственных созерцании, демонстрирующих вечное изменение, идее, доведенной до крайности Протагором и его учениками. Объективность вещей здесь сливается с субъективностью явлений. Наши современные «позитивисты» в основном возвращаются к этой точке зрения.
Именно на этом основании постоянного переплетения исследования бытия и критики средств познания философия продвигается вплоть до Канта. Позиция Локка должна быть подчеркнута как характерная для этого развития мысли. Без лишних слов он переходит от разделения средств познания на ощущение и рефлексию к различению вторичных свойств вещей, звуков, цветов и т.д., которые не похожи ни на одну из существующих вещей, и первичных свойств, размера, числа, формы, которые воспринимаются в самих телах. Критическое исследование того, насколько правомочны средства познания делать такие определения, отсутствует.
Настоящий прогресс стал возможен только тогда, когда человек научился задаваться принципиальным вопросом, не следует ли даже те понятия, которые он с легкостью превратил в реальные или кажущиеся свойства вещей, рассматривать прежде всего как средства познания и исследовать их значение в этом отношении. Ведь все идеи, посредством которых мы узнаем объекты, являются средствами познания в той мере, в какой они это делают.
Эта проблема, основанная, как известно, на исследованиях Давида Юма, а затем определение средств познания, необходимых для построения опыта, является фундаментальным достижением Канта. Только в этом заключается коперниканское значение его учения. Однако в предисловии ко второму изданию «Критики» он сам представляет это иначе: " Если бы созерцания должны были согласоваться со свойствами предметов, то мне не понятно, каким образом можно было бы знать что-либо α priori об этих свойствах; не если предмет (как объект чувств) согласуется с нашей способностью созерцания, то я вполне могу представить себе возможность познания α priori». (4) Таким образом, в этом изложении сливаются две различные точки зрения: во-первых, исследование средств познания, форм созерцания и понятий рассудка, в той мере, в какой они функционируют как средства познания в формировании опыта; во-вторых, предположение, что эти средства познания есть не что иное, как «конституция нашей способности созерцания» и правил рассудка в нас. Это означает, однако, что эпистемологический вопрос о функции средств познания не перетекает в старый вопрос Канта о бытии, но он перетекает в вопрос о происхождении этих средств познания, который должен быть тщательно отделен от него.
Это можно легко прояснить с помощью понятия априори. Эпистемологическое значение априори заключается в следующих двух фактах.
Во-первых, я не могу иметь никакого представления, кроме как во временной последовательности; я не могу представить себе никаких предметов, кроме как в пространстве; я не могу представить себе никаких изменений в этих предметах, кроме как с помощью понятия причины и т. д. Таким образом, пространство, время, причинность и т. д. лежат в основе всего моего конкретного познания; они являются необходимыми основаниями всего опыта. Это означает, что если, например, понятие вулкана, солнечного затмения, вида животных возникает только после построения картины мира и осознания многих деталей опыта, то сам опыт, построение картины мира как в деталях, так и во всей полноте, вообще не может возникнуть без применения априорных форм.
Во-вторых: я никогда не могу делать обязательные выводы из всех понятий, сформированных в соответствии с опытом или выведенных из опыта, для дальнейшего опыта. Из того, что сегодня извергаются вулканы, я никогда не могу заключить, что они будут извергаться всегда, а из того, что сегодня определенное строение костей оказывается характерным для какого-то вида животных, я никогда не могу с уверенностью заключить, что другой, неизвестный мне вид животных не мог обладать таким же строением костей. Совсем иначе обстоит дело с выводами, сделанными на основе априорных форм. Если я доказал, что ах2 составляет содержание треугольника, я нисколько не сомневаюсь, что это предложение применимо к любому треугольнику, который мне встречается; если я определил r2p как формулу круга, я не сомневаюсь, что эта формула не применима ни к какой другой фигуре. Эта ценность достоверности характеризует априори и составляет его научную значимость.
Эмпирик, однако, недоумевает по поводу этой ценности достоверности. «Почему в одних случаях для полной индукции достаточно одного примера, а в других мириады совпадающих случаев, без единого известного или только предполагаемого исключения, делают столь малый шаг к установлению общего суждения?». Так спрашивает Джон Стюарт Милл; и он даже не подозревает, что ответ на этот вопрос был дан более чем за полвека до него. Он говорит: «Тот, кто может ответить на этот вопрос, понимает в философии логики больше, чем первый мудрец древности; он решил бы великую проблему индукции». (5) Должно быть, Кант понимал в этом вопросе больше, чем первый мудрец древности, поскольку в любом случае он его решил.
Поскольку эта сторона философии Канта до сих пор понимается многими неправильно, исходя из эмпирических и психологических индивидуальных соображений, проиллюстрируем способ формирования нашего опыта на нескольких элементарных примерах. Например, у нас есть восприятие апельсина. Из чего оно состоит? Оно состоит из суммы зрительных и, возможно, тактильных и обонятельных ощущений, к которым могут быть добавлены воспоминания о вкусовых ощущениях. Но не простая сумма этих ощущений, а их комплекс, представленный в определенном пространственном месте, составляет восприятие. И мы представляем этот комплекс, именно потому, что мы его воспринимаем, как нечто материальное, как субстанцию. Субстанция! Мы не видим, не ощущаем и не пробуем ее на вкус; то, что мы видим, ощущаем и пробуем, – это чувственные восприятия. Но у нас нет выбора; мы должны подчинить эти ощущения мысли о субстанции, и только так мы воспринимаем апельсин как вещь. Если бы мы этого не сделали, то это показалось бы нам чувственным заблуждением. В этом факте, что мы можем говорить о вещах только там, где мы добавляем мысль о субстанции, или, выражаясь наоборот, что мы воспринимаем реальные вещи только тогда, когда мысль о субстанции подчинена, заключается значение мысли о субстанции как средства познания, и действительно как средства познания, необходимого для всего материального восприятия. Специальный вопрос о том, при каких конкретных обстоятельствах мы применяем субстанцию-мысль, при каких других обстоятельствах мы говорим об ощущении-восприятии, не касается вышеуказанного вопроса; это вопрос индивидуального исследования.
Открытие Канта о том, что только возникающая мысль делает восприятие объективным восприятием, не является, однако, просто «трансцендентальным», т.е. подлежащим доказательству как необходимая предпосылка возможного опыта; проверку можно провести самостоятельно с определенным вниманием не только в отношении мысли о субстанции, но и в других случаях, как с истинными, так и с ошибочными восприятиями; более того, можно провести эксперимент произвольно. Хорошо известно, что человек часто воспринимает, что его собственный поезд уходит, в то время как следующий за ним стоит на месте, и должен, посмотрев на окружающее, подумать, что дело обстоит наоборот. При определенной практике, конечно, не всегда сразу, можно переключить фактическое восприятие, не поворачивая глаз, просто переключая мысль, два, три, четыре раза во время медленного прохождения поезда.
Точно так же, как хорошо известно, можно не только думать, но и воспринимать регулярно расположенный рисунок обоев, состоящий из поперечных рядов, треугольников, ромбов, возможно, и квадратов. При некотором усилии, в подходящие моменты, удается даже не видеть солнце, заходящее за край горы, а видеть край горы, поднимающийся перед солнцем, получая таким образом восприятие, соответствующее факту Коперника; и это, очевидно, происходит посредством простого вложения мысли. Если, с одной стороны, такое поведение духа приводит к тому, что мы часто ошибочно воспринимаем непосредственно, как в природной, так и в духовной сфере, то, что стало восприятием только благодаря нашей мысли, которую мы вложили без знания, то, с другой стороны, это доказывает тот факт, что наши идеи становятся объективными восприятиями только благодаря вложению мысли.
Но после того, как мы это установили, нам остается подчеркнуть одно наблюдение, которое Кант сделал, но не рассмотрел в своем следствии. Оно относится к вопросу: что мы выражаем с помощью субстанциальной мысли как средства познания? Ответ на него таков: как только мы добавляем субстанциальную мысль, соответствующий образный комплекс неизбежно становится для нас существующей вещью из случайного единичного восприятия. Восприятие посредством субстанции-мысли, находящейся в нем, говорит, что воспринимаемая вещь существует независимо от него. Ибо субстанцией называется то устойчивое во времени, по которому различные единичные восприятия единообразно относятся к одной и той же вещи.
Идея субстанции в восприятии, сама того не замечая, подчиняет субъективное и исчезающее содержание ощущения самому предмету как отрешенному от субъективности. Такая предметность существует, несмотря на все преувеличения, как необходимое условие всякого опыта. И это показывает, насколько безосновательно, когда даже Гельмгольц может утверждать, что идеалистическая картина мира последовательно осуществима, даже если она является практически весьма сомнительной гипотезой. Концепция мира вообще невозможна без восприятия, а если восприятие обязательно содержит мысль о чем-то, что сохраняется вне восприятия, то это сохранение нельзя отнести к субъективности, не аннулировав само восприятие, а значит, и всякую концепцию мира.
То же самое становится очевидным, когда мы рассматриваем объективную мысль о причинности.
Давайте воспримем, что красивое круглое, желто-оранжевое изображение исчезает и перед нами лежит только куча кожуры и долек! В этом случае мы изначально не имеем ничего, кроме последовательности субъективных ощущений, или отдельных различных восприятий. Но мы не довольствуемся этим. Скорее, мы говорим, что апельсин был очищен от кожуры и нарезан дольками. Таким образом, мы связываем серию различных ощущений или восприятий с единым процессом, происходящим вне нас. Несмотря на разное содержание, мы сохраняем идентичное отношение к одному и тому же объекту и состоянию: Предмет стал другим. Но где бы мы ни констатировали такое изменение в одном и том же предмете, мы добавляем новую мысль, а именно, что временной ряд изменившихся ощущений соответствует изменению самого предмета. Но как мы можем утверждать, что перед нами один и тот же объект, в то время как содержание ощущений совершенно иное? Только думая, что существует объективное отношение, которое вызывает изменение в том же самом объекте. Но мы называем это объективное отношение причиной. Только благодаря добавлению причинной мысли можно понять изменение в восприятии как объективное изменение вещей; а из этого вытекает неизбежное принуждение теперь спрашивать о конкретных причинах конкретных изменений. Причинная мысль, таким образом, не добавляется впоследствии к восприятию события (6), но само восприятие события как объективного события возможно только на основе причинной мысли. Сама каузальная мысль в своей основе не является удержанием тождественного отношения, несмотря на различие содержаний.
Поэтому здесь мы также должны заявить: Представляя себе ряд меняющихся ощущений как изменения в восприятии одной и той же вещи, то есть как изменение самой вещи, мы говорим, что это изменение действительно произошло помимо нас и независимо от нашего случайного восприятия этого изменения. И здесь это утверждение должно быть отделено от другого вопроса, не ошиблись ли мы в деталях и не считали ли мы что-то изменением в вещи, которое, возможно, было лишь изменением в субъективном средстве наблюдения.
Мы должны держаться за эти и аналогичные сказанному фактические выводы, которые являются фундаментальными и авторитетными для понимания опыта, ибо только они выводят нас из иллюзорного мира фантастических спекуляций, который сам Кант отверг в «Критике паралогизмов и доказательств Бога», на ясную и надежную почву научной мысли и исследований. Они предлагают решение проблемы, над которой бились тысячелетия. Но то, что это решение не нашло всеобщего признания и даже сегодня не оценено широкими кругами, имеет свою причину в том вышеупомянутом обстоятельстве, что Кант умеет отделить вопрос о его происхождении и решает последний вопрос поспешно и противоречиво. После того, как он, например, в так называемом «метафизическом обсуждении» пространства доказал со всей точностью, что пространство не только впоследствии, т. е. Из этого, в «трансцендентальном обсуждении», он установил возможность априорных выводов общей достоверности, т.е. возможность геометрии как науки. Затем он без лишних слов переходит к следующим «выводам»: «Пространство не представляет в себе никаких свойств (или отношений) каких-либо вещей», но есть «не что иное, как форма всех явлений внешних чувств, т.е. субъективное состояние чувств». Т.е. субъективное состояние чувственности, при котором только и возможно для нас внешнее созерцания». Точно так же он поступает и в отношении времени, после того как он прекрасно представил его как необходимую основу для всех, а не только для всех внешних взглядов, и подчеркнул, что наука о теории движения может делать априорные выводы только на основе концепции времени. И та же игра повторяется в отношении категорий. Правильная мысль о том, что категории – это априорные условия, лежащие в основе формирования опыта, как условия возможного опыта, сразу же приводит к поспешному выводу, что они лежат в «природе нашего ума» как «субъективные основания» (7) единства.
Разумеется, этот вывод достаточно близок. Если признать, что опыт не поступает к нам в готовом виде, а должен быть создан нами, то без лишних слов кажется, что средства познания, с помощью которых мы создаем опыт, также должны иметь свое происхождение в нас, то есть быть добавлены «разумом» из самого себя.
И, к сожалению, факт, что именно этот вывод играет в истории философии гораздо более значительную роль, чем более ценное методологическое исследование Канта, позади которого он выставлен в неловком виде. Как для последователей Канта от Фихте до Гегеля, так и для его оппонентов именно этот вывод является стержнем, вокруг которого вращается основная дискуссия.
Но этот вывод, во-первых, сам по себе не является необходимым, а во-вторых, он приводит к противоречиям, которые остаются неразрешимыми, если придерживаться его.
Лучший способ доказать, что вывод не является необходимым, – это показать другую возможность объяснения или происхождения вышеупомянутых терминов. Но для того, чтобы найти такое альтернативное объяснение, необходимо раскрыть противоречия, возникающие в результате этого предположения. Они, впрочем, ощущались в основном уже давно, но утверждались, как правило, неверно. Говорили, что объективность, созданная нашим мышлением, не является объективностью самих вещей, что «видимость», следовательно, есть в основном видимость. Однако при таком возражении участвуют в ошибочном выводе самого Канта, полагая вместе с ним, что формы мышления, посредством которых мы создаем опыт, также должны зарождаться в субъекте. Против такой формулировки возражения, следовательно, кантианец ведет легкую игру. Ему достаточно указать на объективную закономерность, установленную Кантом, которая возможна только при вышеупомянутой предпосылке и которая, вероятно, не является его предпосылкой. Он может сказать: мы никогда не можем надеяться и утверждать, что вещи, как они есть сами по себе, то есть независимо от нашего познания, входят в нас. Напротив, если бы это было так, то они были бы явлениями, а не реальными вещами вне нас. Но то, что познавательные детерминации их могут быть только в нас и нигде более, настолько самоочевидно, что об этом не нужно говорить ни слова. И против этого вышеприведенный Einwnd приводит только утверждение, но не доказательство. – Поэтому, если Плеханов думает, что может опровергнуть Канта, сказав ему: «Доказательством пудинга является его поедание», то он попадает совсем не туда. Кант ни в коем случае не отрицает этого; именно он подчеркивает, что ощущение указывает на «реальное присутствие вещи». И именно он со всей энергией боролся против фантастических попыток прийти к «вещам в себе», обходя условия чувственности, и придерживался реальности вещей как в первом, так и во втором издании. (8)
Противоречие, в котором виновен Кант, состоит не в том, что он предполагает субъективные идеи, с одной стороны, и независимые от них вещи – с другой. Противоречие состоит лишь в том, что он выводит происхождение не только тех представлений, которые возможность, необходимость, утверждение, отрицание и т. д. необходимы при образовании представлений о вещах, из «субъективности разума» как их «источника», но что он без разбора бросает вместе с этими представлениями совершенно другой ряд представлений, а именно те, которые используются как определения естественного опыта. Если мы говорим, что вещь «возможно» присутствует, мы тем самым не даем предикат вещи, а только поведение нашей познавательной способности. Но когда мы судим: «вещь сохраняется во времени» или «вещь изменяется», мы делаем заявления о самих вещах; и если бы эти заявления также имели свое происхождение «в субъективности нашего ума», они были бы невозможны. Как только мы должны сказать, что пятно, которое мы видим на предмете, принадлежит самому предмету, мы не можем сказать, что оно происходит от природы очков, через которые мы видим. И точно так же наоборот. Здесь, в отношении познания, а не в противопоставлении вещь-понятие, кроется противоречие. Плеханов не признает этого, когда формулирует свое возражение, например, так: «У Канта априорные законы не имеют объективной ценности или, другими словами, они действительны только для явлений, а не для вещей самих по себе». (9) Кантианец должен задуматься: Не умен ли тот человек, «который из-под носа у Канта отрицает именно то, что тот первым ясно доказал, – объективную ценность действительности априорных законов?». А каково эпистемологическое значение «вещей самих по себе»? Это были бы вещи, которые можно постичь в отрыве от условий нашего познания; и именно этот спекулятивный поиск философского камня сделал исследования Канта невозможными. – Итак, возражение Плеханова нигде не может быть понято человеком, знающим Канта. Если бы он понял, что сам Кант имел в виду метафизическую оппозицию между вещью, которую мы познаем естественно, и вещью, которую мы хотим познать за условиями нашего познания (простым рассудком), то он сформулировал бы свое возражение иначе. Согласно сказанному, оно должно звучать так: «Кант показывает, в качестве каких компонентов объективно достоверное суждение, применяемое к естественным вещам, возникает мысленно, но он упускает из виду тот факт, что утверждения, которые должны быть достоверными о самой вещи, не могут иметь своим источником исключительно субъективность рассудка». Конечно, Плеханов не хочет утверждать ничего иного, кроме этого; когда он говорит о «вещи в себе», он говорит о природной вещи; но его неверная оценка позитивного достижения Канта приводит его к формулировкам, которые ставят под сомнение это самое достижение, и он тем самым делает свои возражения неэффективными.
Но как только мы осознаем, что Кант в своей таблице категорий с самого начала не проводит различия между теми формами рассудка, которые касаются только нашего действия при формировании опыта, и теми, которые становятся предикатами самой природы, а сваливает их вместе без разбора, то это различие ставит перед нами новую проблему. Мы уже не спрашиваем метафизически, как мы переходим от вещей самих по себе к явлениям или наоборот, но спрашиваем эпистемологически о различии между двумя совершенно разными видами объективной достоверности.
Давайте проиллюстрируем это различие на нескольких примерах. Если мы измеряем высоту и ширину камня и на основании этого вычисляем кубатуру или т.п., то различные процедуры, которые мы используем, объективно действительны, но только объективно необходимы для самой процедуры. С другой стороны, только результат действителен для природного предмета – камня. Сложение, умножение, экспоненция, извлечение корня и т. д. являются необходимыми и объективно действительными операциями для процедуры, но они никоим образом не являются объективно действительными для природных предметов. Что должен означать [корень из -1] по отношению к природе? Ничего, чистый нонсенс! Отсюда следует, что с нашими необходимыми и объективными понятиями мы должны не просто определить значение действительности и не просто, как это делает Кант, провести различие между чувственностью и рассудком, но далее исследовать, для какого вида объективности они действительны. Таким образом, помимо типа отношения, место отношения понятия также должно быть рассмотрено эпистемологически. Если, таким образом, оказалось, что возможность, необходимость, утверждение, отрицание и т. д. имеют в качестве места отношения только нашу процедуру по отношению к объектам, пространству, времени, причинности, субстанциальности, но и саму внешнюю природу, то право предикации таких способов отношения должно быть особенно рассмотрено.
Но для этого исследования Канта недостаточно. Он устанавливает объективную истинность из так называемого трансцендентального единства апперцепции, т.е. из того, что все понятия должны стоять в необходимой связи с «я мыслю» в одном и том же предмете. В этом он совершенно прав, поскольку показывает, что только необходимая, единая связь всех познаний гарантирует нам истину, что поэтому мы всегда можем распознать ошибку только из того, что некоторые определения мысли противоречат друг другу. Но он не может сделать это различие понятным. Остается загадкой, как, помимо необходимого отношения к «я мыслю», эмпирическая апперцепция с ее многочисленными ошибками все еще возможна. Прежде всего, однако, остается непонятным, почему одни априорные определения мысли являются конститутивными, а другие, если можно так выразиться, просто конструктивными средствами познания.
Возникающая в связи с этим проблема не может быть решена или устранена никаким заключением о происхождении. Постановление о том, что они возникли в субъекте, создает почти большее противоречие, чем заключение о том, что они возникли в опыте. Последнее, конечно, содержит непримиримое противоречие для того, кто до конца продумал систему Канта. Ибо как могут быть продуктом опыта те элементы, которые, в свою очередь, должны быть произведены опытом? Первый вариант, однако, приводит к совершенно беспочвенным попыткам избежать субъективности с помощью возмутительных допущений. К ним относится утверждение, что источник этих форм находится не в субъекте, а в общем «я», как предполагает Фихте, или в «сознании вообще», как это предлагает Лаас. (10) Но это уклонение бесполезно. В опыте субъект предстает как звено в цепи явлений, причем довольно незначительное. Однако как субъект, формирующий опыт, он имеет в себе всю природу. Если бы он брал элементы для формирования опыта из самого себя, как свои продукты, то его субъективность должна была бы фактически охватывать всю объективность, с одной стороны, и быть лишь ее частью, с другой. Сознание в целом, или всеобщее «я», разрешает это противоречие, только убегая из сумерек в темноту и позволяя проблеме исчезнуть в тумане таинственного слова.
Даже метод Когена и его ближайших последователей здесь недостаточен. Как бы мы ни ценили этих исследователей именно за то, что они раскопали действительный научный фундамент кантианства – исследование средств познания – и, наконец, с упорной энергией все больше и больше обрушивают его на распадающуюся философию современности, мы не можем одобрить того, что они хотят фактически исключить рассматриваемую проблему. Если, конечно, Коген (11) описывает вещь в себе как воплощение всего научного знания, или как «задачу», то у нас нет возражений против такого определения. Но – оно не обозначает вещь-в-себе Канта и не решает оставленной им открытой проблемы. Это определение, которое прекрасно после решения проблемы, но примененное до ее решения, напоминает испанский застенок, который должен ее скрыть. И все же эта попытка сокрытия оказывается тщетной. У Кохена сознание тоже предстает как «источник опыта», но, чтобы избежать видимости субъективного, он имеет в виду «воплощение средств и методов», составляющих научное знание. (12) Таким образом, он обходит точку постановки вопроса и, по сути, сохраняет субъективность, не желая ее слова. Точно так же и Наторп в своей последней книге говорит: (13) Определения, в которых человек пытается постичь данное, «при ближайшем рассмотрении оказываются определениями мысли, которые как таковые не являются данными, а представляют собой собственные образования мысли». Таким образом, он тоже не видит здесь никакой проблемы, но совершенно спокойно допускает, что необходимые условия объективного опыта являются, без различия, собственными конфигурациями мысли.
Все эти констелляции, таким образом, неверно оценивают или уклоняются от рассматриваемой проблемы. Мы не решили проблему до тех пор, пока не сможем показать, что у нас есть процессы сознания, которые мы должны рассматривать как реальные отношения между нами и вещами, и что конститутивно априорные формы могут быть мыслимы как производные от них без ущерба для их ценности достоверности. Тогда, понятно, перенося определения, выведенные из этих отношений, на вещи между собой, мы можем делать достоверные суждения о самих этих вещах. Это так же понятно, как и то, что мы можем вычислить высоту недоступной нам башни по углам, которые она образует с доступным нам путем.
Чтобы подготовить такое решение проблемы, мы должны сначала рассмотреть некоторые особые функции нашего сознания, подчеркнутые еще Кантом, – анализ и синтез. Если мы рассмотрим опыт в том виде, в каком он предстает перед нами в каждом конкретном случае, то обнаружим, что каждый прогресс в нем создается путем анализа какой-то конкретной детали из доселе неразличимого основания и путем соотнесения этой детали с контекстом, в который она может быть единообразно вставлена. Таким образом, пейзаж сначала предстает перед нашими глазами в довольно общих чертах. Только внимательное наблюдение позволяет выявить конкретные детали, которые мы затем фиксируем рядом и друг за другом, часто не без усилий и путаницы, так что, наконец, вместо сознания запутанной поверхности мы сталкиваемся с более или менее структурированным и упорядоченным контекстом.
Так, ухо анализирует тона инструмента из суматохи оркестра и доносит их до сознания в виде упорядоченной мелодии. Точно так же мы анализируем формы поверхности, скользя туда-сюда кончиком пальца, и доводим их до нашего сознания как связность объекта. Таким образом, анализируя, мы уже осуществляем абстракции, так сказать, чувственного наблюдения, поскольку, оставляя в стороне все остальные составляющие земли, мы рассматриваем только определенные детали и затем синтетически связываем их друг с другом.
Следовательно, мы всегда ясно осознаем только те детали или ряд деталей, которые мы анализируем; мы знаем этот ряд, но часто даже не замечаем, что мы это делаем, не говоря уже о том, как мы это делаем. Таким образом, как известно, объективное сосуществование определенных вещей возникает в результате того, что мы по желанию чередуем одно с другим с помощью глаза или органа осязания. Синтез «бок о бок» происходит на основе взаимного анализа. Там, где мы не можем осуществить это взаимно, где восприятия просто следуют друг за другом во времени, мы говорим не о вещах, существующих рядом, а о процессах, которые следуют «один за другим». Мы делаем это постоянно и обычно мгновенно; но сознание того, что мы делаем это именно так, не возникает у многих людей на протяжении всей их жизни. Мы могли бы назвать эту деятельность «подсознательной», чтобы отличить ее от того, что на самом деле является бессознательным. Она становится сознательной только тогда, когда мы научились исследовать нашу собственную деятельность по анализу и связыванию объективных понятий и, в свою очередь, делать ее понятийной; (14) то есть когда мы больше не занимаемся натурфилософией и метафизикой бытия, а вместо этого практикуем познавательную критику.
После этих предварительных замечаний мы возвращаемся к поставленной нами проблеме и спрашиваем, есть ли среди наших познавательных функций те, которые содержат априорные отношения вещей к нам, или, точнее, существуют ли в нас отношения, которые мы должны обязательно интерпретировать как отношения чего-то чуждого нам, и способны ли мы вывести из них детерминации, которые мы должны впоследствии понимать как перенесенные на отношения вещей между собой. Если мы можем это сделать, то напрашивается вывод, что эти отношения были абстрагированы и связаны между собой посредством первоначальной подсознательной аналитической и синтетической деятельности.
«Чувственные созерцания», – говорит он, – «содержат в себе способпоследствия, а значит, несет в себе идею причинности., которым мы испытываем воздействие предметов». Этим он говорит, что основной элемент чувственного созерцания, ощущение, «предполагающее реальное присутствие объекта», (15) приходит в сознание как пассивное бытие подверженным аффекту. Но «быть затронутым» означает ощущать Такие отношения, которые мы ищем, мы, однако, знаем уже давно – в наших процессах ощущения. Мы всегда рассматриваем их как непосредственные аффекты, как пассивные изменения в нашем состоянии в связи с чем-то чуждым нам. Конечно, следует подчеркнуть, что такое отношение может лежать только в живом процессе ощущения как события, а не только в содержании этого процесса, определяемом качеством и интенсивностью. Весь процесс ощущения содержит гораздо больше, чем эти элементы, уже полученные из него путем анализа. На это указывает сам Кант., которым мы испытываем воздействие предметов». Этим он говорит, что основной элемент чувственного созерцания, ощущение, «предполагающее реальное присутствие объекта», (15) приходит в сознание как пассивное бытие подверженным аффекту. Но «быть затронутым» означает ощущать последствия, а значит, несет в себе идею причинности.
Вопрос лишь в том, добавляется ли эта причинная мысль к ощущению впоследствии или же она изначально заложена в самом ощущении и отделяется от него только при анализе.
Поскольку мы не можем остановиться на нашем первоначальном сознании, то есть на нашем первом ощущении, этот вопрос не может быть решен эмпирически. Анализ наших нынешних ощущений не может дать нам полной уверенности. Ведь как только мы захотим сказать, что каузальная идея была получена из ощущения, все равно останется подозрение, что это может быть обманом, поскольку этот недавно предпринятый анализ будет опираться на первоначальный синтез, который мы уже не можем контролировать.
Для решения этой дилеммы, однако, нам прекрасно подходит метод самого Канта. Трансцендентальный» вопрос, который он всегда ставит в качестве методологического основания для решения, звучит так: возникает ли данная предпосылка как условие возможного опыта? Если это так, то вывод таков: то, что оказывается условием возможного опыта, становится необходимым условием реального опыта.
Теперь мы уже видели, что определенные априорные формы являются необходимыми компонентами опыта; и мы показали, что при таком фактическом значении действительности допущение, что они происходят из чистой субъективности «ума», неверно. Если они не возникают в «разуме» и, тем не менее, должны быть априорными, то единственным вариантом является то, что они происходят из первоначального элемента опыта. Поскольку у нас нет другого элемента опыта, из которого можно было бы считать их производными, кроме процесса ощущения, то из этого следует, что конститутивно-априорные формы изначально лежат в нем и должны быть сначала абстрагированы от него.
Тогда было бы слишком странно, что только в последующем опыте, услышав незнакомый звук, испытав неожиданное впечатление от света, почувствовав внезапное ощущение прикосновения, мы должны сразу же спросить, откуда это взялось, если бы сам процесс ощущения по присущей ему особенности не задавал нам этот вопрос. – И более того: если причинное сознание лежит в ощущении и абстрагировано от него, то вполне понятно, что везде, где мы воспринимаем изменения, мы должны априори постулировать причину, и наоборот, если ощущение само по себе не содержит причинного сознания, то нет никакой причины, почему мы должны или даже могли бы, думая о причинной идее, сделать ее сознанием воздействия, т.е. процесса, требующего причины.
Поэтому мы должны прийти к выводу, что конститутивно-априорные формы должны быть выведены из процесса ощущения, что априорно-синтетические суждения о вещах – или формирование опыта – основаны на переносе первоначально подсознательных абстракций на отношения между вещами.
Вопрос о том, как это должно быть сделано, имеет теперь особый, в деталях уже не «трансцендентальный», т.е. эпистемолого-критический, а психологический, или психолого-физиологический, характер. Тем не менее, хорошо бы дать хотя бы несколько общих точек зрения. Ведь возможность мыслить опыт таким образом образует как бы практическую проверку вышеприведенного вывода.
Если ощущение уже изначально есть сознание того, что на нас воздействуют, то есть отношение к нам постороннего человека, то реакция сознания должна состоять в том, что этот посторонний человек определяется. Но для его определения мы имеем сначала – если не принимать во внимание тот факт, что процессы ощущения могут уже изначально иметь подсознательную величину – только качество и интенсивность ощущения. Таким образом, чужое можно поначалу считать определяемым исключительно этим содержанием. Оно не является для сознания ничем, кроме того, что влияет на него таким образом: так мы можем описать факт первоначального синтеза.
Теперь перейдем к другим связям. Для простоты возьмем сначала те, которые имеют одинаковое качество и интенсивность. Они обязательно относятся к одной и той же посторонней вещи, как тождественные. И это тождественное отношение означает: одна и та же объективно сохраняющаяся причина оказывает на нас одинаковое воздействие в разное время. Это и ничто другое есть мысль о субстанции. Поэтому эта мысль не отличается от причинной мысли; постоянное или аналогично повторяющееся воздействие на нас скорее представляет нам через это аналогичную и постоянную причину этого воздействия перед нашим сознанием.
Если сознание должно первоначально отнести аналогично повторяющееся ощущение к одному и тому же сохраняющемуся нечто, т.е. к одной и той же субстанции, то, с другой стороны, оно должно первоначально отнести другой вид ощущения к другой субстанции. И если наблюдение может без разбора переходить от одной вещи к другой, то, как уже говорилось, первоначальное отношение постороннего, «вне нас», немедленно переносится на отношение двух субстанций. Они определяются отдельно друг от друга. Но вместе с этим они вступают во взаимные отношения в единстве, воображаемом вне нас – пространстве.
Таким образом, мы сразу же оказываемся на знакомой почве опыта.
Как только множество таких отношений закрепляется за различными субстанциями, находящимися вне друг друга, пространство обретает наполненность и определенность. Над и под, рядом, перед и за, размер и мера приходят в сознание. И теперь оценка может продолжаться до бесконечности, поскольку каждое новое содержание, которое связано рядом или позади уже зафиксированных мест, снова и снова вступает в то же самое отношение бытия вовне к уже зафиксированным субстанциям. Наконец, при развитом сознании эта фиксация новых пространственных мест без основы ощущения может продолжаться только в мысли и приводит к идее бесконечности пространства.
Если, кстати, пространство в какой-то степени определено и заполнено, то новые ощущения уже не могут фиксироваться в разных точках пространства. Первоначально можно представить себе, что, например, осязательное ощущение лица фиксируется на одной субстанции, а тактильное ощущение – на другой. По мере заполнения пространства это становится невозможным. Ощущения различных органов чувств должны быть зафиксированы вместе в одних и тех же точках пространства; возникает идея субстанций с несколькими качествами, т.е. причинных комплексов, породивших несколько видов ощущений. Таким образом, картина мира создается в постоянной коррекции и перестройке.
Другой вид отношений возникает с самого начала, когда ряды ощущений возникают таким образом, что мы не можем попеременно переходить от одного к другому. Теперь, как мы видели, возникает необходимость констатировать объективные процессы, объективные изменения. (16) Эта необходимость, однако, предполагает, что непосредственное и субъективное сознание последовательности ощущений, в силу которого только и возможно суммирование прежних и настоящих ощущений в мысли о субстанции, мыслится как объективная последовательность процессов, то есть как объективно временное событие. Время, бывшее первоначально подсознательной формой изначальной связи процессов ощущения, теперь становится объективным. И таким образом, как мы видели, устанавливается тождество существенного отношения, несмотря на одновременную нетождественность, противоречие, которое находит свое разрешение в требовании причины изменения. Но эта причина не может лежать в самом процессе, но подобно тому, как мы должны отнести нашу собственную привязанность в ощущении к чему-то вне нас, так и привязанность определяемой вне нас вещи мы должны искать в вещи, впервые определенной или подлежащей определению вне ее. Таким образом, мы снова переносим особенность исходного отношения процесса ощущения на отношение между внешними вещами, или процессами.
И это порождает идею причинно-следственной связи, которая впоследствии, доведенная до научной ясности, ставит задачу, что каждое изменение, какова бы ни была его природа, должно быть адекватно определено в соответствии с его мерой, направлением и особенностью.
Мы должны воздержаться от подробного обсуждения того, как осуществляются эти анализ и синтез. Физиологическая психология показывает, что приобретение даже самого скудного представления о мире должно быть очень сложным процессом, что происходят тысячи ошибочных связей и ошибочных передач. Ребенок тянется к луне, считает самые разные вещи одинаковыми и т.д., и мы, взрослые, все еще часто ошибаемся, когда нужно выяснить, откуда доносится звук, находится ли одна гора позади или рядом с другой и т. п. Коррекция всегда происходит при появлении каких-либо противоречий. Возникновение противоречия является движущей силой в этом отношении.
Этих намеков должно быть достаточно для настоящей цели. Мы лишь стремились показать возможность того, что априорные функции, если рассматривать их как аналитические абстракции от процесса ощущения как исходного отношения между нами и внешним миром, столь же пригодны для синтетического априорного использования для построения всего опыта, как и если рассматривать их как детерминации субъективности.
Но именно таковыми они и являются во всех отношениях. В нашей теории пространство лежит в основе всего внешнего, время – всего внутреннего и внешнего бытия и событий, как и у Канта. Поэтому выводы, которые можно сделать априорно из этих условий опыта, столь же обязательны для всего опыта, как и в предположении Канта. Априорные выводы чистой геометрии, чистой математики, чистого естествознания, если они построены на указанных условиях, а не, как метаматематика, на выборе этих условий, например, как геометрия без теоремы параллельных, (17) так же применимы к опыту, как они могут быть только при предпосылках Канта.
В других отношениях, однако, наш вывод, как мы полагаем, значительно более понятен и более пригоден для объяснения, чем вывод Канта.
Она позволяет гораздо более непосредственно и единообразно понять связь природы и жизни, а главное, устраняет целый ряд загадок и противоречий, которые неизбежны в предположении Канта и которые, как было показано, заставляли слишком легкомысленно проходить мимо значительного научного достижения Канта.
Прежде всего, устраняется необъяснимая в предположении Канта трудность того, что некоторые априорно необходимые функции мышления носят лишь конструктивный характер, т.е. рассматриваются лишь как строительные леса и вспомогательные инструменты в построении опыта, тогда как другие функции мышления оказываются конститутивными, т.е. как строительные блоки самих объектов. И это также решает загадку, что помимо трансцендентальной апперцепции, содержащей объективно достоверное единство, может существовать эмпирическая апперцепция, в которой возможны ошибки.
Но это действительно устраняет разрыв между вещью-в-себе и внешностью, который Коген, казалось, устранил только обходными путями. Материализм, постулирующий просто связь идей с реальными вещами без каких-либо доказательств, кроме здравого смысла, эмпиризм Локка, «воспринимающий» первичные свойства вещей, позитивный феноменализм, решающий все с помощью мыслительной обработки данного разумного содержания и не приходящий ни к каким реальным вещам, материальный идеализм, создающий мир из абсолютного духа, материальный рационализм, разрубающий узел и, подобно Фолькельту, позволяющий интеллекту гарантировать транссубъективность, наконец, скептицизм, который, как у Гельмгольца (18), рассматривает идеалистические концепции как неопровержимые, даже если они практически непригодны: все они, если иначе наша деривация доказательна, опровергаются. Точно так же вспомогательные конструкции «сознания вообще» становятся неуместными, а полуночное чудовище, согласно которому субъект как источник априорных форм закладывает в природу всю законность, а затем, когда он рассматривает себя объективно, предстает как малая часть этой законной природы, растворяется в свете дня самым понятным образом.
Таким образом, вещь сама по себе сжимается в реальный предмет опыта, как фантом Скруджа в столбик кровати. То, что мы можем сказать априори о вещах, относится к самим вещам, а не только к представлениям о них. Только теперь действительно оправдано суждение Когена о том, что «вещь в себе» обозначает не что иное, как воплощение всего знания, или бесконечную задачу познания. Теперь это уже не икс сомнительной загадки, а фактически икс бесконечного уравнения, которое мы должны решить в ходе постоянно развивающегося исследования. Если это так, то теперь, когда призрак вещи-в-себе освобожден от заклятия, мы также не должны больше использовать это имя в сфере познания. Бесконечная задача, которую мы решаем теоретически и практически, не нуждается ни в том, ни в другом.
Примечания
1) К соответствующим работам относятся: – Georg Plechanow, Beiträge zur Geschichte des Materialismus, Stuttgart 1896 – Konrad Schmidt, Kritik zu vorgenanntem Buch im «Sozialistischen Akademiker», Juli- und Augustheft, 1896.
– К. Шмидт, О книге Кроненберга «Кант – его жизнь и учение», Vorwärts, 17 октября 1897 года, 3-е дополнение
– Эдуард Бернштейн, Реалистический и идеологический элемент в социализме, в «Die neue Zeit, Heft 34 und 39, Stuttgart 1897/98
– Г. Плеханов, Бернштейн и материализм, там же, выпуск 14
– Г. Плеханов, Конрад Шмидт против Карла Маркса и Фридриха Энгельса, там же, выпуск 5, 1898/99 г.
– К. Шмидт, Некоторые замечания о Плеханове, там же, выпуск 11
– Г. Плеханов, Материализм или кантианство, там же, выпуски 19 и 20
– Д-р Ч. Шитловский, полемика Плеханова против Штерна и Конрада Шмидта, «Sozialistische Monatshefte», июнь / июль 1899 г.
2) «Die Neue Zeit», выпуск 5, 1898/99, стр. 136
3) «Die Neue Zeit», там же, стр. 326
4) Кант, Критика чистого разума, под редакцией Кербаха, стр. 18
5) Милль, Система дедуктивной и индуктивной логики, перевод Шиля, 3-е немецкое издание I, стр. 371.
6) Здесь необходимо обратить внимание на выражение «восприятие изменений». Кант говорит (KEHRBACH стр. 181), что понятие изменения не заключается в восприятии различных состояний, а добавляется. Это ни в коем случае не противоречит тому, что только что было сказано. Ибо восприятие различных состояний еще не есть восприятие как единый объективный процесс.
7) КАНТ, Критика чистого разума, издание KEHRBACH стр.134
8) Когда ПЛЕХАНОВ повторяет старую мысль о том, что позиция КАНТА в отношении «вещей в себе» в первом издании иная, чем во втором, он путает простое изменение фронта полемики с фактическим изменением. В первом издании Кант выступает только против тех, кто хочет прийти к вещам на основе простого разума; во втором издании он также выступает против тех, кто утверждает, что он материальный идеалист. Выдержка (KEHRBACH 283) из 1-го издания (стр. 251) о том, что из понятия видимости следует, что ей соответствует нечто, что не является видимостью, ясно показывает, что и здесь он ни в коем случае не занимает материально-идеалистическую позицию.
9) Neue Zeit, 1898/99; Номер 20, Страница 629
10) EMIL LAAS, Kant’s Analogies of Experience, page 94 ff. Когда я начал читать этот отрывок его времени, я подумал, что это горькая ирония, но, к сожалению, оказалось, что Лаас был чертовски серьезен.
11) HERMANN COHEN, Kant’s Theory of Experience, 2-е издание, страница 519.
12) COHEN, там же, стр. 141f
13) Пол НАТОРП, Социальная педагогика, стр. 25
14) КАНТ, изд. KEHRBACH, стр. 95 «Приведение синтеза к терминам».
15) КАНТ, там же, стр. 76
16) То, что, скорее всего, в первую очередь привлекает внимание именно движение, а не отдых, не влияет на приведенное выше изложение. Здесь речь идет лишь о том, чтобы схематично обсудить основные отношения в их возможности.
17) Системы, не основанные на совокупности условий опыта, могут быть сами по себе чрезвычайно последовательными; но они не имеют ничего общего с опытом. Они представляют собой математическую метафизику, совершенно аналогичную прежней метафизике разума, которая, будучи последовательно проведена, также приводит к последовательным системам, часто истинным логическим произведениям искусства, которые только, к сожалению, терпят неудачу, когда соотносятся с естественным опытом.
18) HERMANN HELMHOLTZ, Die Tatsachen in der Wahrnehmung, page 34f
LITERATUR – Franz Staudinger, Der Streit um das Ding ansich und seine Erneuerung im sozialistischen Lager, Kant-Studien 4, Berlin 1900.