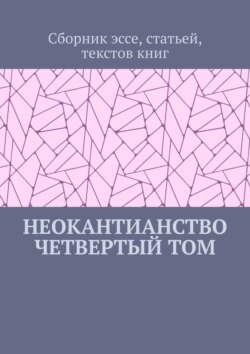Читать книгу Неокантианство. Четвертый том - Валерий Антонов - Страница 9
ФРАНЦ ШТАУДИНГЕР
Логика Когена чистого познания
ОглавлениеСтарый учитель неокантианства ГЕРМАНН КОХЕН в Марбурге недавно опубликовал первый том новой работы после долгого перерыва. «System der Philosophie, Erster Teil, Logik der reinen Erkenntnis» (Berlin 1902). За этим последует вторая часть, которая, как сказано в предисловии к первой части, должна принести систематические, фактические и исторические дополнения, а также полемику с современниками из среды людей, занимающихся этим предметом, и научных исследователей. Настоящая первая часть, по сути, содержит почти только споры с исследователями вплоть до Канта. Ее намерение – дать «законы и правила пользования разумом» не только формально, но «во всем его объеме и в его единообразии» и отнести его ко «всем направлениям культуры», но прежде всего к науке.
Эта работа, вероятно, вызовет удивление как у друзей, так и у противников старой методологической школы мысли Когена. Ведь в ней идея, которая раньше была само собой разумеющейся, но которая в некоторых местах рассматривалась почти как quantité négligeable [ничтожное количество – wp], силой выталкивается в исходную точку и центр дискуссии – учение о происхождении чистых понятий; С другой стороны, другая мысль, которая раньше казалась существенной, даже решающей, – учение о фундаментальной ценности и действительности этих понятий – теперь не только выступает в одном ряду с другой точкой зрения, но и практически отодвигается от нее; действительно, создается впечатление, что действительность должна быть установлена и гарантирована только чистым происхождением из идеи. «Только через идею чистое обретает свою методическую ценность». (стр. 6)
С самого начала мы должны признаться, что до сих пор способ преподавания Когена казался нам достойным и значительным по сравнению с другими именно потому, что он мало заботился о происхождении чистых форм и делал главный акцент на том, что он анализировал их в чистой абстракции как необходимые основы научного мышления. Было показано, что в этом отношении они, однако, должны лежать в основе нашего научного опыта a priori, если мы хотим, чтобы он развивался методично и осознанно. Однако основной акцент во втором издании теории опыта Канта (1) был сделан не на том, что элементы науки являются первичными элементами сознания, а наоборот, на том, что «элементы познающего сознания достаточны и необходимы для установления факта науки». Его необходимость как основания и его выполнение «в качестве рычага и ценностного измерителя опыта» было главным критерием. Тот факт, что Коген так безапелляционно ответил на вопрос о происхождении априорного в духе Канта, долгое время вызывал у меня разногласия.
Однако теперь в новой работе ««исток» из идеи выходит на первый план, а именно как волшебный источник, из которого вытекают сокровища знания. Из «идеи» выводится; в небытии, в бесконечно малом, обнаруживается «бытие». Развитие в этом направлении не было совершенно неожиданным после работы над принципом исчисления бесконечно малых. Тем не менее, новая работа меня поразила. Вся исходная точка знакомой ему методологии оказалась здесь измененной. Вместо того, чтобы цепляться за опыт и отталкиваться от него, это называлось цепляться за идею и от нее идти к науке. То, что всегда казалось мне ошибкой у Канта, стало центром системы.
Наша позиция по отношению к Когену, конечно, должна быть изменена. Прежде всего, мы должны методически сохранить точку зрения Канта, который, несмотря ни на что, начинает с анализа обыденного опыта, чувственного восприятия, ищет в нем конструктивные элементы и, исходя из найденных здесь синтезов, переходит к познанию в подлинном смысле слова. (2) Для нас, как и для Канта, анализ восприятия составляет методологическую основу для поиска априорного.
Затем, однако, мы должны более пристально взглянуть на само это априори. В «Теории опыта» Коген проницательно выделил три значения априори, которые можно кратко описать как априори происхождения, априори основания и априори достоверности. Согласно своему происхождению, априори «дано в разуме», как говорит Кант; согласно своему основанию, оно является составной частью, которая обязательно лежит в основе всех естественных восприятий; согласно своей действительности, оно позволяет делать необходимые и общие выводы математики и математического естествознания.
Что касается двух последних значений, то априори – это научно неопровержимое основание знания. И именно Когену принадлежит неоспоримая заслуга в том, что он особо выделил эти значения apriori и тем самым весьма выдающимся образом способствовал пониманию научных достижений Канта. – В первом значении, однако, apriori несет в себе двусмысленность. То, что оно также является составляющей сознания как элемента познания, самоочевидно; но возникает вопрос, относится ли оно, с одной стороны, только к сознанию, а с другой стороны, является ли оно автохтонным [in situ – wp] порожденным из сознания. Кант ответил на оба вопроса утвердительно, поскольку он не очень тщательно отделял психологический анализ от объективного. Однако тот факт, что априорное является необходимым основанием познания, вовсе не означает, что оно порождается в сознании. Это утверждение, которое Наторп также очень строго формулирует словами о том, что априорные конструкции «вплоть до последних компонентов являются собственными продуктами мысли» (3), по меньшей мере, является преждевременным.
Итак, мы должны оспорить констелляции Когена с двух точек зрения: с точки зрения метода дедукции и с точки зрения значения априори. Для этого мы должны показать, что ошибки Когена проистекают из общего источника, а именно: он не понял самую фундаментальную эпистемологическую проблему, проблему отношения к объекту, в ее остроте, не больше, чем его эмпирические и психологические оппоненты, и не больше, чем Кант.
Прежде чем приступить к решению этой задачи, необходимо, однако, набросать основное содержание работы Когена.
Начиная с «идеи», благодаря которой «чистота» получает свой «методический характер», Коген формулирует (стр. 17) следующие положения: «Мышление логики есть мышление науки». «Вопрос о согласованности наук – это вопрос о согласованности методов». Но поскольку все науки оперируют мышлением, а в некоторых из них оно все еще проявляется неопределенно, то трудность может быть преодолена только в том случае, если мы возьмем за основу науку, в которой мышление определено. «Математическое естествознание оказалось такой наукой». Вот почему Коген берет ее за основу.
Их основные предпосылки заключаются в определенных основных формах мышления – суждениях, в которых возникают определенные основные средства рассматриваемого предмета – категории. Здесь Коген высказал прекрасную мысль, а именно, что деление суждений, которые он, как и Кант, делит на четыре группы по три в каждой, является искусственным и не представляет самостоятельного интереса (стр. 342). Суждения служат только для нахождения категорий, они – «ложе категорий», которых в одном виде суждения может быть несколько, так же как одна и та же категория может встречаться в нескольких видах суждений (стр. 47). «Таким образом, форма суждения вновь становится текучей и поддающейся обработке» (стр. 46), и это необходимо из-за прогресса наук, который всегда порождает новые проблемы и, таким образом, «требует новых предпосылок, новых категорий» (стр. 342f).
Четыре подкласса, на которые делит Коген, он называет законами мышления, математикой, математическим естествознанием и методологией. В них появляются:
1. суждения происхождения, тождества и противоречия;
2. суждения о реальности, большинстве и всеединстве;
3. суждения о субстанции, законе и понятии;
4. суждения о возможности, действительности и необходимости.
В суждениях тождества и противоречия действуют законы мышления формальной логики; но им предшествует в качестве предварительного суждения суждение происхождения, которое уже предваряет суждение реальности, утверждая происхождение чего-то из ничего, в контексте которого должен утверждать себя принцип непрерывности.
В суждении о реальности это происхождение чего-то из ничего называется принципом исчисления бесконечно малых. «Пусть основание конечного будет бесконечно малым». Здесь конечное имеет свое начало (стр. 114), свою реальность, основанием которой является категория числа.
Однако, как ни странно, это число должно сначала превратиться в большинство путем «сложения» с помощью категории времени, которую Коген, как и пространство, превращает из формы восприятия в форму мышления. Его основной областью является будущее, из которого он, так сказать, догоняет прошлое; настоящее же приводится в отношение к совместному бытию, к пространству.
Это происходит в суждении всеединства, которое называется завершением бесконечного ряда. Всеединство порождает содержание; внутреннее, содержание – это пространство, определение которого есть совместное бытие. Интегральное исчисление представляет свое определение как цель.
Субстанция, хотя и является научной категорией, сначала представляется математически. Это х в уравнении (стр. 190). Но если заменить x на y, то изменение, которое в геометрии превращается в движение, становится отношением пространства и времени, которое снимает их сосуществование. Теперь субстанция – это категория сохранения в движении. Эти категории взаимопроникают друг в друга, на них основывается содержание (стр. 201) и, кроме того, материя.
Как в последующем суждении закон, причинность, сила, функция развиваются во взаимной зависимости, а «субстанция в движении» называется «проблемой естествознания», мы должны, как заходящие слишком далеко, пропустить. Точно так же мы можем лишь намекнуть, что в следующем суждении рассматривается единство объекта, проблема жизни и ее единства и прежде всего развивается идея системы: «Категория понятия становится категорией объекта, а новое единство требует категории системы. Система природы становится реальной проблемой понятия. Здесь появляются категории личности и цели – вечный вопросительный знак совести. Здесь нет завершения тотальности. (стр. 326)
С помощью этого суждения мы полностью вышли за рамки математического суждения. Предметом стала естественная наука в целом, а не только математическая наука. Но в природе, к которой относится эта наука, есть фактор, который, кажется, насмехается над всей чистой теорией, – фактор ощущения; и мышление теряет свой научный характер, если не может овладеть им» (стр. 346). Вот для чего нужны критические категории.
В суждении о возможности необходимо сначала отличить смутную возможность мысли от возможности, основанной на контексте, к которой затем присоединяется третья основная функция возможности – гипотеза. «Это возможно» означает: это делает возможным новое познание. В действительности сенсация затем подходит со своими утверждениями. Но даже если Коген признает это, даже подчеркивает однажды, что для Дарвина цвет иногда является отличительным признаком (тем самым, тем не менее, «средством познания»), это средство познания не является чистым. (Содержание ощущений никогда не может быть резко абстрагировано, независимо от причины). Но мы имеем дело только с чистым познанием. Для этого ощущение становится чистым только тогда, когда оно осмысляется как движение (колебание) и выражается в величинах. «Абстрактное бытие лишь придает ценность конкретному». – Наконец, в суждении о необходимости понятие необходимости умозаключения противопоставляется другому понятию необходимого вывода из основания. «Необходимость – это ведущее понятие исследования в рамках науки, образованное причинностью функции» (стр. 446), «необходимость доказательства» (стр. 451), связи в доказательстве.
Это соединение мыслей, благодаря которому пропозиция впервые становится языком, содержится в трех формах умозаключения, в которых соединение общего и частного происходит через частное, средний термин. Категорический вывод представляет нам общий образ и модель умозаключения; он служит основой для гипотетического вывода, содержащего дедукцию, синтез математического естествознания, и для дизъюнктивного вывода, образующего систематику. Исключение (или – или) в последнем является лишь средством для достижения объединения элементов.
В конце, помимо повторного сильного акцента на исходной идее, выдвигается мысль о том, что наука в своем темном порыве не всегда осознавала правильный путь, но тем не менее существенно изменила его. Задача логики – сделать его осознанным.
С последним мы полностью согласны. Ибо только тогда, когда оно осознано, оно может вновь стать плодотворным для науки. А о том, что люди точных наук это чувствуют, можно судить по тому, что они все чаще обращаются к философским проблемам, чтобы получить отсюда ясность в отношении своих конечных базовых предпосылок. Философия может гарантировать эту ясность только тогда, когда она сама закрепится на безусловно надежных основаниях. Книга Когена во многом способствовала этому в деталях; в целом, однако, мы должны, к сожалению, отвергнуть такое утверждение. Нам придется показать, как, особенно в начале, он смешивает логические и психологические элементы и как мало он уже здесь занимается основным вопросом философии – отношением к объекту. В последующих рассуждениях мы часто попадаем на более твердую почву; и даже если манера изложения представляет довольно необычные трудности для понимания, даже если некоторые вещи становятся понятными только в другом месте, чем там, где они рассматриваются, и даже если, наконец, некоторые детали не поддаются моему пониманию даже после повторного чтения, основная идея в дальнейшем становится все яснее и яснее. Например, страницы 341—348, которые читатель должен прочитать до введения, дают больше ясности, чем длинные предыдущие рассуждения. То, что затем говорится о критических категориях и заключительной процедуре, кажется, дает нам много хороших подсказок.
Но сегодня мы обречены больше критиковать, чем одобрительно объяснять. Ибо целое действительнее индивидуального. Поэтому мы также критически оставляем в стороне несущественные индивидуальные вопросы, например, как «присутствие» приходит к «пространству», как индивид может стать чистой категорией, почему соотношение средства-цели вызывает такие возражения. «Мы хотим перейти к главному вопросу и здесь сначала изложим концепцию чистого познания, насколько мы можем идти от Когена, изложим также различия критического и эмпирического, а также психологического метода, а затем подойдем к критике его основных установок.
На вопрос, что такое чистое познание, Коген отвечает: «Научное мышление». (стр. 17) Таким образом, не конкретные объекты наук, а способы и основания, методы их мышления сами должны стать объектом нового исследования. Олицетворением средств и методов», устанавливающих объективность познания, можно сказать, следуя книге Кохена «Теория опыта Канта» (2-е изд., с. 142), является чистое познание.
Это осознание является абстрактным. Коген также часто использует это слово в своей новой книге. Но когда мы говорим «абстрактный», это неумолимо вызывает вопрос: абстрагированный от чего? Процесс, посредством которого разум производит эти чистые средства познания, заключается в абстрагировании их от чего-то. От чего-то! Что это такое? Где находится этот предмет?
Но мы можем, пожалуй, ненадолго отложить этот вопрос на второй план и, пусть даже с опаской, что без ответа на него у нас нет фундамента, задать другой вопрос: Абстрагироваться от чего? Коген отвечает: Для конституирования науки. И до тех пор, пока и постольку, пока рассматривается только этот вопрос, мы продолжаем стоять на его стороне.
Мы делаем это по отношению к эмпиризму, независимо от того, берется ли он за открытие априорных форм индуктивным или генетическим путем. Генетическое объяснение и индукция выполняют свои важные задачи только после того, как заложен или хотя бы предположен критический фундамент. Они бессильны перед самим этим фундаментом и, сами того не замечая, уже оперируют теми абстракция
ми, которые, как они утверждают, хотят найти первыми. Джон Стюарт Милл сказал: «Тот, кто решает великий вопрос, почему в единичных случаях достаточно одного примера для полной индукции, а в других мириадах совпадающих случаев „делается столь малый шаг к установлению общего суждения“, понимает в философии логики больше, чем первый мудрец древности». (4) Таким образом, он показал несостоятельность эмпиризма в этой области, а также свое невежество в отношении человека, который уже давно решил эту задачу по существу. Конечно же, именно Коген впервые убедительно показал нам значение Канта. И это должно остаться для него незабвенным.
Но тогда мы полностью на стороне Когена в вопросе о взаимоотношениях между психологией и эпистемологией. Сказать, что он полностью на его стороне, значит сказать здесь слишком много. Здесь мы утверждаем, что он сам не знал, как провести решающую точку зрения, которую он так ясно понял по существу, так же ясно, как и сам Кант.
Фундаментальное различие, насколько его признал Коген, заключается не в материале, а в точке зрения. «Мышление как познание действительно является (стр. 21) процессом сознания», то есть процессом психологического рода, но критика познания не обязана рассматривать его как таковое. Предметом рассмотрения является не психика, в которой все наши идеи собраны вместе и определенным образом связаны. Предметом является, скорее, в целом целевая точка, по отношению к которой наше мышление претендует на вынесение обоснованных суждений. «От остроты точки зрения зависит утверждение независимости обоих путей чисто и уверенно».
Здесь дело обстоит точно так же, как, например, в физических или химических экспериментах, где, тем не менее, также различают объективные условия соединения, которое должно обязательно дать результат, и субъективную правильность и определенность эксперимента: Правильный эксперимент, конечно, в конечном счете должен совпадать с объективно необходимым ходом. Но именно последний дает основание для первого, а не наоборот.
В другом отношении, конечно, психическая деятельность является такой же предпосылкой и основой логики, как эксперимент является предпосылкой и основой открытия новых методов в физике и химии. Но как химику или физику не придет в голову выводить доказательства объективной обоснованности нового метода из этих экспериментов и испытаний как таковых, а только из связи самих процессов с результатом, так и в деятельности души не следует видеть ничего, кроме предпосылки для операции, но не следует стремиться выводить из нее объективную обоснованность основных методологических предпосылок.
В той мере, в какой Коген придерживается этих принципов, мы остаемся его приверженцами. Но именно по этой причине мы с сожалением вынуждены констатировать: Сегодня он придерживается их менее строго, чем в прошлом. Если и тогда он несколько рано и, как нам кажется сейчас, радикально перешел от обыденного опыта, с которого начинает Кант, к опыту научному, то теперь он полностью оторвался от него. Все должно быть найдено в мышлении как таковом. Даже если он однажды указывает на то, что субстанция мышления не является исходной субстанцией сознания, Коген это ясно видит. Но он не видит, что содержание понятия как такового также является чисто психологическим. Из содержания понятия как такового нельзя вывести никакой характеристики его права на научную обоснованность. Эта обоснованность состоит только в отношении этого содержания к чему-то, что им не является, по крайней мере, не является содержанием данного понятия. Это неразличение, о котором более подробно будет сказано далее, уже приводит Канта к смешению объективной и психологической точек зрения. Примером этого может служить тот факт, что Кант смешивает совершенно разные вопросы о том, является ли средство познания «вообще и обязательно» действительным для объектов и имеет ли оно «свое место в разуме», т.е. психологически.
Здесь, однако, Коген полностью следует примеру Канта. На странице 28 находится эпистемологическое предложение: «Мышление должно открыть бытие», а на странице 49 – метафизико-психологическое предложение: «Мышление создает основания бытия». На странице 67f эти два предложения написаны как синонимы: «Только само мышление может произвести то, что можно считать бытием» и: «Только то можно считать данным мышлению, что оно само способно открыть». Там точка зрения психологическая, здесь – объективная.
Сам Коген (стр. 49) чувствует парадокс, заключающийся в требовании, чтобы мышление производило свою собственную субстанцию, и пытается устранить его, указывая на то, что субстанция мышления не является исходной субстанцией сознания. На это можно было бы ответить, что тогда то, что производится в мышлении, было бы все-таки «первоначальной материей», поскольку она не должна быть взята из другой первоначальной материи. Но главное, что Коген замечает только этот фактический парадокс, но не то, что здесь также имеет место методическое смещение точки зрения. Когда говорят, что мышление производит свою субстанцию, то, как бы ни трактовать «производство», речь идет только о деятельности души, но никак не о вопросе о том, что означает содержание мышления как основание и вывод для предмета. Психологическая, даже психолого-метафизическая точка зрения переросла эпистемологическую.
Отношение к предмету, это фактически единственная критическая точка зрения. Вопрос: какие компоненты необходимы для того, чтобы можно было назвать что-то предметом, является основным критическим вопросом. Я все еще помню свет, который придал ему в то время, в частности, Коген, когда он подчеркнул: нас совершенно не волнует, является ли это врожденным или нет. «То, что нам необходимо для создания синтетического единства, эти необходимые части конструкции мы называем априорными»(5) Это было искупительное слово; все остальное казалось неважным. Решение должно было заключаться в том, чтобы проработать эту, единственно возможную критическую точку зрения, до ее логического завершения.
Но теперь, в случае с Когеном, второстепенный вопрос выдвинулся в качестве основного, а прежний основной вопрос, на который хотя бы намекалось в вышеприведенных словах, почти забыт. Психологический момент приобретает фундаментальное значение, отношение к предмету становится размытым.
Это очевидно уже при рассмотрении Когеном формально-логических элементов, тождества и противоречия. Если мы спросим, что такое тождество, то, если мы придерживаемся вышеизложенной точки зрения единого отношения к объекту, ответ следует почти сам собой: тождество – это отношение нескольких отдельных содержаний к одному объекту. Являются ли эти содержания одинаковыми или различными, не имеет значения для определения. Моменты: Белый, белый, белый, белый, относящиеся к одной и той же бумаге или к понятию белый, мысли сторона, угол, угол, относящиеся к одному и тому же треугольнику, идеи «Irminsäule», «Weserübergang», «Sachsen», относящиеся к Саксонской войне Карла Великого, всегда тождественно связаны по отношению к соответствующему объекту. (6)
Сам Коген, однако, хотя он полемизирует против простого психологического тождества и объявляет образование a равно a не истинным тождеством, ищет тождество в том, что a утверждается как a и удерживается. Конечно, а должно удерживаться; но это всего лишь психологический акт. Таким образом, самоочевидная психологическая предпосылка для отношения тождества становится самим отношением тождества. Идентичность, однако, не становится тем самым тавтологией, но пустой тавтологией.
Не лучше обстоит дело и с теоремой противоречия, в которую мы не хотим углубляться. Отметим лишь, что именно в соответствии с вышеупомянутым принципом Когена здесь все равно пришлось бы иметь дело с доктриной анализа (выделение детерминаций, объединенных по отношению к точке тождества) и абстракции (полное разделение детерминаций по отношению к новому, понятийному единству). Мы упоминаем об этом потому, что эти понятия становятся необходимыми при критике развития концепции числа у Когена.
Согласно Когену, число, к обсуждению которого мы подходим, возникает в суждении о реальности. «Основание конечного бесконечно мало» (стр. 105). «В неощутимом разумное имеет свое начало» (стр. 114). «Непрерывность», «постоянная связь» этих бесконечно малых элементов и есть «реальность»: а содержащееся в ней «единство», которое образует «основание», «фундамент», приводит к «числу как категории» (стр. 116f). И это «Sonderung становится дополнением», большинством в «новой категории – времени» (стр. 127).
Этот вывод, как нам кажется, соответствует исходной точке, но переворачивает реальные факты с ног на голову. Это больше соответствует методу, который некогда отстаивал Коген, – решать загадки бесконечно малых исчислений, исходя из тех основ, которые сами по себе ясны. Сам Коген не хотел бы утверждать, что выведение конечного из бесконечно малого может быть ясно понято. Так человек, который так резко упрекает философа бессознательного за его объяснение света из темноты, не должен делать то же самое здесь.
Теперь, однако, число как число должно быть выведено из бесконечно малых. Но мы выводили числа и раньше, задолго до того, как было придумано бесконечно малое исчисление; и потом, что еще важнее: в бесконечно малом исчислении новое отношение выводится из отношения уже существующих чисел, а не наоборот. Но нельзя считать, что производное является порождением того, из чего оно выведено.
Понятие бесконечно малого опирается на особое понятие отношения: функцию. Здесь требуется найти не отношение между двумя заданными величинами, а отношение другой величины, обладающей тем свойством, что при каждом изменении первого отношения это новое отношение также изменяется строго закономерным образом. Такое функциональное соотношение, например, существующее между кривой и ее касательной, в принципе можно найти, начав с изначально ошибочного соотношения, позволяя этой ошибке становиться все меньше и меньше и, таким образом, достигая предельного значения, при котором ошибка исчезает. Это похоже на аппроксимацию числа π многоугольниками с все меньшими и меньшими сторонами, а затем на мысль, что ошибка, подразумеваемая этой процедурой, должна исчезнуть, как только сторона = 0.
Таким образом, это метод мышления, процесс работы, который посредством процесса редукции, задуманного в законной последовательности, в конечном итоге приводит к соотношению 0/0, в котором становится известна простая функция, не связанная с конкретными пропорциями.
Существенным здесь является, с одной стороны, то, что исходным пунктом является вполне обычное соотношение чисел, а с другой – то, что особый метод мышления ведет от него к новому соотношению. Это уже доказывает, что выводы, которые можно сделать из достигнутого результата, не являются автохтонно укорененными в «бесконечно малом» или его идее, но сами должны быть прослежены в том закономерном абстрактном процессе, из которого возникла «предельная величина». Этот процесс не следует отодвигать в сторону как генетическое происхождение. Скорее, в нем коренится убедительная сила обоснованности новой деривации.
Поэтому уже отсюда следует возражение против идеи Когена о желании породить число из идеи бесконечно малого. Некоторые математики, например, Веронский, как говорят, рассуждал подобным образом. Но большинство математиков решительно выступили против этого и, подобно Вейерштрассу, отстаивали положение о том, что все величины и все операции с ними должны быть прослежены до целых чисел и операций с ними».
Не будет также уместным ссылаться для такого вывода на Грассманна и его школу, который, однако, как мы полагаем, совершенно правильно проводит различие между науками, относящимися к бытию, и теми, которые имеют свою истину только в согласии мыслительного процесса между собой. (Ausdehnungslehre 1844). Только ему следовало бы более четко провести различие между чистой и прикладной математикой. Если провести это различие, то можно логически ничего не сказать против «Ausdehnungslehre», которая, в сущности, воздерживается от того, что мы в действительности должны называть «протяженностью», а скорее «расширяет и одухотворяет чувственные представления геометрии в общие логические понятия». «Все принципы, выражающие взгляды на пространство (то, что „дано“ в природе), здесь отпадают». (Ausdehnungslehre 1862 и ENGEL, Werke, Vol. II, page 4f).
Но мысль Когена следует отвергнуть не только потому, что он делает абсолютным местом происхождения относительную конечную точку процедуры, которая теперь снова становится относительной отправной точкой для новых процедур, но прежде всего потому, что таким образом он хочет открыть не только происхождение, но и содержание процедуры: число как реальность.
Такое возникновение – не четкое, логически проверяемое выведение из определенных абстрактных факторов и их закономерной связи, а возникновение онтологического рода, происходящее из темного беспринципного основания. Тогда эти реальности на самом деле не являются абстракциями, к которым их неоднократно относит Коген; они смущающе похожи на мелкие материальные реальности. Нечто, действительно возникшее из ничего, является мифологическим существом и наделяется не просто реальностью, а существованием, хотя и невидимым. Старое доброе методичное различие между генетическим и логическим происхождением у Когена полностью размыто.
Кроме того, следует упомянуть о смешении, в котором отчетливо проявляется уже упоминавшееся неразличение содержания и предмета мысли. Коген представляет себе число как непрерывно возникающее из ничего в нечто. Число, однако, никогда не дает непрерывности, а всегда только прерывность. Непрерывность может быть только у сосчитанного.
Само число – это лишь дискретность, даже если оно представляет собой наименьшую мыслимую долю. Даже процесс формирования ряда или сужения до предельных значений никогда не является непрерывным, а протекает, так сказать, в некоторых ритмических интервалах. Если здесь «мыслится» непрерывность, то это ни в коем случае не непрерывность в содержании мыслительных моментов, а в отношении к их объекту. Мы можем мыслить актуальные интервалы числа по отношению к объекту, который не имеет интервалов как таковых. Например, к линии, отрезку времени – короче говоря, ко времени и пространству. Почему, конечно, сами время и пространство, которые мы можем постичь только через дискретность интервалов, тем не менее, сами должны рассматриваться как непрерывные, требует другого исследования.
Более того, время, с которым Коген, как и Кант, связывает число, объективно обязательно не имеет с ним ничего общего, не более чем со всем, что можно сосчитать. Психологически, конечно, мы считаем во времени, поскольку мыслим и живем во времени. Но что из объективного времени должно присутствовать в абстракции числа, найти невозможно.
Примечания
1) Ср. напр. COHEN, Logik der reinen Erkenntnis I, pp. 77, 124, 198, 222 и очень часто в других местах.
2) Критика чистого разума, §10, начало, 2-е издание, стр. 102f, где говорится о «слепой, хотя и необходимой функции» синтеза, который собирает элементы, ведущие к познанию. Это непроизвольное «приведение синтеза к понятиям» является работой понимания, которое только «дает нам познание в его истинном значении». – Таким образом, основой познания является тот синтез, который мы называем восприятием. Ср. также «Аналогии опыта».
3) Пол Наторп, Социальная педагогика, стр. 26
4) Джон Стюарт Милл, Логика, 1-я книга, третье издание (SCHIEL), стр. 371.
5) Германн Кохен, Теория опыта Канта, 1-е издание, стр. 104.
6) Я попытался рассмотреть вопрос тождества точно в соответствии с основным методом Кохена в серии статей «Identität und Apriori» в Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie XIII, 1889, которая не была полностью завершена из-за другой работы. Ср. также Sigwart, Logik I, §14.
LITERATUR – Franz Staudinger, Cohens Logik der reinen Erkenntnis und die Logik der Wahrnehmung, Kant-Studien Bd. 8, Berlin 1903.