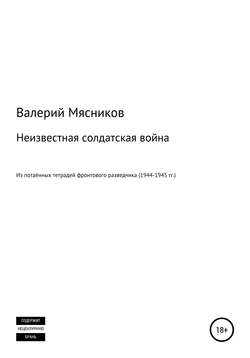Читать книгу Неизвестная солдатская война - Валерий Фёдорович Мясников - Страница 2
Воскрешение правды
Рассказывает Григорий Тимофеевич Лобас
Оглавление– Зимой 42-го под Сталинградом взяли контрольного пленного. У ефрейтора никаких важных документов оказаться не могло, поэтому никто не обратил внимания на толстый блокнот, который я тут же конфисковал и показал переводчику. Это был дневник. И что меня поразило: бои почти не прекращались ни днём, ни ночью, а записи ефрейтор делал каждый день. Может быть, он меня и подтолкнул к этой идее…
Лобас Григорий Тимофеевич, станица Гривенская, Краснодарский край, 1990 г. (Из семейного альбома Г.Т. Лобаса)
Хотя толком объяснить, почему я стал вести дневники, не смог бы тогда и не могу сейчас. Просто была тетрадь, была полевая сумка, где тетрадь можно хранить, и был химический карандаш. Как в блиндаже согреюсь, так под видом письма домой начинал писать. Чтобы тетради не попали в плохие руки или к командирам, я всегда носил их при себе – даже когда ходил в разведку, за «языком». Но разведчики в это время сами, случалось, становились «языками», и тетради, таким образом, могли оказаться у немцев. Поэтому я многие подробности в дневник не заносил. Писал намёками или условными сокращениями.
В моём отделении все следили за тем, как я делал записи, и к вечеру обязательно кто-то напоминал: ты не забыл записать? Во время сильных боёв или длительных марш-бросков вести записи каждый день, конечно, не удавалось. При первой возможности мы с ребятами восстанавливали события всех предшествующих дней. Иногда записи делали самые близкие друзья из моего отделения разведки – Шитиков, Лозуков, Шуралёв, Коба.
Лозуков и Шуралёв до Берлина не дошли, погибли. Шитиков погиб уже в Берлине. Следы Кобы после войны затерялись. Все вместе берегли тетради от командиров, а особенно от нашего особиста. Однажды командир взвода, которого все называли Ванька-взводный (фамилию его не помню, звали Иваном), углядел-таки. Подходит ко мне, когда рядом никого не было, и предупреждает: «А ты Лобас, не боишься со своей тетрадкой попасть куда-нибудь далеко?..». Нелюдимый был этот Ванька-взводный, всё как-то сам по себе, молчит. Понадеялся я, что никому не скажет, и пообещал выбросить тетрадь. Не знаю, от него или от кого-то другого узнал-таки о моих тетрадках особист – начальник особого отдела нашего полка. Можно только предполагать, что было бы со мной, а дневники, конечно, пропали бы навсегда. Но помогли обстоятельства.
Как раз в это время, летом 43-го, мы находились на отдыхе в одном украинском селе. Постирались и развесили мокрую одежду на плетень. А тут бомбёжка. Хата горит, плетень тоже загорелся, и вся одежда наша, конечно, сгорела. Осталась у меня одна полевая сумка, с которой я даже голый не расставался.
Пока старшина после бомбёжки искал нам одежду, решил написать домой письмо. Ну и написал в письме: «Лежу голый…». На следующий день вызывает меня особист капитан Трусов: «Ты почему пишешь в тыл, что в армии ты служишь голый?». Я ему все объяснил. Тогда он говорит: «Мне стало известно, что ты ведёшь какие-то записи. Где они?». Если, думаю, буду отпираться, всё равно дознается и арестует меня. Решил сознаться, а потом «чистосердечно» сообщил, что тетрадь сгорела вместе с одеждой под тем плетнём. Особист поверил и больше не приставал.
Не думал я тогда, что Трусов вспомнит о моём дневнике через два года, уже после войны. В июне 45-го долечивался я в харьковском госпитале. Точнее, это был совсем не госпиталь, а какой-то техникум. Раненых и искалеченных тогда столько было, что нас размещали во всех школах, техникумах, институтах… Однажды, во дворе встречаю капитана Трусова, на костылях, без ноги. Обрадовался он мне как родному: «Гриша, мне с тобой поговорить надо. Нет ли тут укромного местечка? Выпивку беру на себя».
Была у меня тогда кралюшка Маруся. Пошли к ней на квартиру. Выпили. И когда остались наедине, он мне предлагает: «Посвидетельствуй в том, что во время боёв ты видел, как я поднимал солдат в атаку… И вот, когда в очередной раз я поднимал роту или, нет, лучше батальон – как меня ранило в ногу». Я ему: «Какая атака? Когда поднимал? Я ничего не видел. Тем более, что меня ранило раньше, чем вас…». «Да кто будет разбираться, раньше или позже. Главное, что ты видел и можешь подтвердить».
Тогда я подумал, что Трусов говорит всё это несерьезно, по пьянке. Он правда сильно пьяный был. Но через два дня снова нашёл меня в техникуме: «Ну как, подтвердишь?..». Как я мог подтверждать, если встречался с Трусовым только в штабе полка, а на передке его ни разу не видел. Вот тогда Трусов и вспомнил про мои дневники. И так мне стало подло на душе. Если бы ни рана на спине, брызнул бы я ему, чтобы костыли в разные стороны… У меня это не задерживалось. В общем, послал его, на том и расстались. Но, очевидно, Трусов никуда не докладывал о моих дневниках, потому что ни в госпитале, ни потом никто меня по этому поводу не вызывал.
Когда меня ранило в последний раз, под Берлином, тетради остались у Амоса Шитикова. После того, как погиб Шитиков, они оказались у Роговского Мишки – водителем у нас служил. Он-то мне и написал в госпиталь, что они у него. Я как вылечился, сразу поехал к Роговскому в Донбасс, забрал тетради и переправил их брату Павлу, который в то время служил на флоте в Севастополе.
О нашем разговоре с капитаном Трусовым в харьковском госпитале я не забыл…