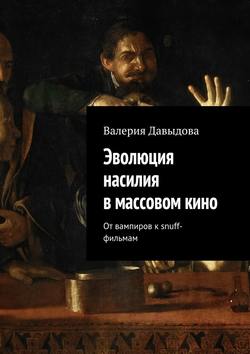Читать книгу Эволюция насилия в массовом кино - Валерия Давыдова - Страница 5
Глава 2. Вампиры как сверстники кинематографа
ОглавлениеВикторианская литература пришлась ровно на период зарождения кинематографа. Эстетика романтизма вытеснялась эстетикой реализма, и теперь перед литературой стоял вызов: увлечь читателя не только чем-то сверхъестественным, но и осязаемым, телесным ― тем, что могло бы угрожать зрителю со страниц книги. Это вполне объясняет возросшую популярность сюжетов о вампирах в викторианской литературе.
Вампиры стали первым персонажем в кинематографе, которые «вскрывали» чужое тело, и тем самым привлекали зачарованных зрителей к тогда ещё тканевому экрану.
В современной массовой культуре вампиры – это монстры. Некоторым страшен солнечный свет, чеснок и святые распятия, некоторым ― только осиновый кол. Эти клише дополнили культурный семиотический набор благодаря кинематографу, который успешно использует образ вампира до сих пор. Число стереотипов в отношении вампиров растёт, но кино закрепило те атрибуты, которые помогают аудитории без труда определить жанр и сюжет фильма.
Множество базовых элементов визуального ряда мигрировали на большой экран из беллетристики. Повести, рассказы, сказки, поэмы о вампирах исчислялись десятками к моменту появления кинематографа. Роман «Дракула» Брэма Стокера увидел свет в 1897 году, он сделал популярную тему пугающего актуальным культурным мифом современной истории. Тем не менее, именно кинематограф ответственен за всеобщую концептуализацию вампиров. Ведь кинематограф и образ графа Дракулы появились почти в одно время.
Вампир – это герой, которого любит камера, и все его кровавые атрибуты, представленные на экране, созданы самим же кинематографом. Кинематограф взял на вооружение репрезентативность и привлекательность вампирского образа сразу же после своего появления. Тем самым кинематограф сыграл решающую роль в том, что вампир стал привлекательным культурным символом. Яркий, запоминающийся, всевозможным образом стилизованный (и порой чересчур), иногда комичный, визуальный ряд фильмов о вампирах действительно выглядит как пародия на литературного прототипа кровососущего монстра.
Тема вампиров в западной культуре менялась так же стремительно, как и тренды в кино. Если мы проследим историческую эволюцию образа, то убедимся, что такие изменения стали возможны благодаря некоторым столкновениям образа вампира с другими культурными образами, помещением вампира в чуждую ему среду. Ведь вариативность образа вампира напрямую зависит от вариативности интерпретаций.
До кинематографа наряду с литературой образ вампира активно эксплуатировался европейским театром. Европейский театр существовал как посредник между готической литературой и вампирах и кинематографом, который использовал образ вампира на протяжении всего XIX века и разработал практические все визуальные маркеры вампира, которые использовались режиссёрами и позже. Поздняя готическая литература о вампирах активно использует стилистические и нарративные приёмы кинематографа, вот почему справедливо говорить о взаимном влиянии.
Образ вампира в готической литературе, в отличие от других образов, обладает телесностью.
Вампир представляет собой древний архетип монстра с визуальным телом, в отличие от призраков или других сверхъестественных существ, представленных миметически, которых читатель видит интуитивно3. Встреча с призраком в многочисленных викторианских рассказах – это всегда нечто иллюзорное, не до конца понятное, мистическое. В этом случае сложно уловить разницу между сном и явью. Встреча с монстром всегда реальна, естественна, но порождает неестественные ситуации. Вампиры превращают зрителя в соучастника преступления, в подглядывающего. «Вскрытое» тело жертвы – следы укусов или даже разорванная глотка – это безусловное свидетельство агрессии монстра, улика нападения вампира. Здесь не может быть двойственности, метафоричности, символизма. Это обыкновенный натурализм, сцена нападения, акт насилия, в особенности, если мы говорим о современных хоррорах, которые демонстрируют склонность показывать физическое, телесное, словом, – визуальное насилие.4
Именно Брэм Стокер (в лице своего героя Ван Хельсинга) начал традицию называть вампиров красивым и загадочным румынским словом «носферату», ставшим популярным в текстах о вампирах. Кинематограф обратился к теме вампиров на самом раннем этапе своего существования. Первая экранная адаптация романа «Дракула» появилась в 1922 году. Это был немой фильм гения немецкого экспрессионизма режиссёра Фридриха Вильгельма Мурнау «Носферату». Эта работа разожгла конфликт между компанией «Prana Films», которая занялась производством, и вдовой Стокера, которая пыталась добиться запрета на распространение пиратской версии романа.
Кадр из фильма «Носферату» (1922)
Кинокритик венгерского происхождения Бела Балаш написал в 1924 году, что «по сценам фильма „Носферату“ пробегает знобящий холод судного дня». Мурнау и его оператор добились этого несколькими способами. З. Кракауэр так писал об атмосфере фильма: «Кадры негатива изображали карпатские леса – массу призрачных белых деревьев на фоне черного неба. Кадры, снятые двойной экспозицией, преображали кровать клерка в зловещую ладью, толчками двигающуюся вперед. Но самым впечатляющим эпизодом был тот, где корабль-призрак со своим страшным грузом скользил по фосфоресцирующим волнам. Символика кадров и все технические ухищрения преследовали единственную цель – нагнетание ужаса»5. Основной сюжет романа в фильме Мурнау был сохранён, но роли Люси и Ван Хельсинга были сокращены, имена почти всех главных героев были изменены (граф Орлок заменил графа Дракулу), место действия также сменилось (режиссер перенес сюжет в Бремен вместо викторианского Лондона начала XIX века).
Мурнау внёс важное изменение в финале – смерть монстра стала возможна благодаря силе любви и самопожертвованию Эллен Хуттер (стокероская Мина Харпер), заменив акт экзорцизма. Эллен удерживала графа в своей спальне до рассвета, позволяя ему пить свою кровь, чтобы затем навсегда успокоить дух вампира. Монстр растаял в первых рассветных лучах солнца, и это случилось впервые в истории жанра, ведь Стокер никогда не писал о вреде солнечного света для вампиров. Существует и другая, неизвестная литературе, трактовка этого события. Подобная чувствительность к свету есть и у киноплёнки, это создаёт метафоричное сходство вампиров и кинематографа6.
Кадр из фильма «Носферату» (1922)
Визуальное открытие Мурнау было обречено стать конвенцией жанра, как в кино, так и в литературе. Оно было со временем модернизировано с помощью всё новых и новых визуальных эффектов. Достаточно вспомнить взрывающихся на солнце вампиров в культовом хоррор-боевике «От заката до рассвета» (1996) Роберта Родригеса или горящих заживо монстров из брутального фильма «Вампиры» (1998) Джона Карпентера.
В 1979 году был снят квазиэкспрессионистский римейк «Носферату» немецкого режиссёра Вернера Херцога «Nosferatu the Vampyre» с Клаусом Кински, Изабелль Аджани и Бруно Ганцом. Псевдо-документальная реконструкция создания оригинального фильма «Носферату» по названием «Тень вампира» вышла в 2000 году.
Меридж взял за основу общеизвестную легенду об актёре Максе Шреке, играющем графа Орлока, что тот был настоящим вампиром. Меридж развил на экране метафоричную историю о жертвенной силе искусства: герой Джона Малковича – это сумасшедший режиссёр Мурнау, заключивший со Шреком кровавую сделку: режиссёр позволит выпить кровь актрисы, исполняющей главную женскую роль, Греты Шрёдер, взамен на правдоподобную игру. Уиллем Дэфо, сыгравший роль Макса Шрека, который в свою очередь сыграл графа Орлока, нёс тяжёлую ношу нагромождения смыслов и ролей.7
Уиллем Дэфо в образе Макса Шрека в фильме «Тень вампира» (2000)
Два выдающихся фильма о вампирах вышли в начале 1930-ых, стилистически же они отличались. Фильм «Vampyr ― Der Traum des Allan Grey» (1932) датского режиссёра Карла Теодора Дрейера был снят в сновиденческой манере и исследовал метафизические пределы сознания8. Например, в сцене, где главный герой наблюдает за собственными похоронами из своего же гроба даёт зрителю шанс идентифицировать себя с покойником. «Vampyre» стал слишком сложным для зрительского восприятия и провалился в прокате. Это стало началом творческого застоя самого Дрейра, однако, фильм остался в рядах кинематографических шедевров.
Фильм «Дракула» (1931) американского режиссёра Тода Браунинга с Белой Лугоши в главных ролях имел другую судьбу. «Дракула» стал первой звуковой картиной о трансильванском вампире и первым фильмом среди ряда «монструозных» проектов студии Universal (позже были сняты фильмы о монстре Франкенштейна, Мумии, Человеке-невидимке и Оборотне). Фильм Браунинга показывает пафосный образ аристократа в чёрном плаще с высоким воротом. У этого героя странный акцент, который в действительности был акцентом преувеличенным акцентом самого актёра венгерского происхождения Лугоши, он говорил по-английски не очень хорошо. Несмотря на композиционную смелость и избыточную манеру игры главного актёра, фильм снискал любовь зрителей, хотя сюжет был далёк и от романа Стокера, и от фильма Мурнау. Студия сорвала куш, а Бела Лугоши стал суперзвездой. Это был ключевой момент для будущего кинематографического вампирского образа.
Бела Лугоши в роли графа Дракулы
Белла Лугоши в образе Графа Дракулы
Безоговорочный авторитет американского кино о вампирах был подорван в середине 1950-ых, когда образ вампира вернулся в Великобританию. Фильм «Дракула» (1958) режиссёра Теренса Фишера («Ужас Дракулы» в американском прокате) положил начало ряду фильмов студии «Hammer», среди которых «Дракула: принц тьмы» (1965) Фишера, «Дракула, восставший из могилы» (1968) Фрэнсиса и другие. В этих фильмах роль вампира из Трансильвании исполнил Кристофер Ли, высокий харизматичный британский актёр, ставший преемником Лугоши. По словам историков, он выглядел в точностью, как Влад Цепеш, что помогло ему создать образ величественного и готичного злодея.
Кристофер Ли в роли Дракулы, 1958
В отличие от первых фильмах о вампирах, где вампирское насилие и присущий этому эротизм были за кадром, жанровые вариации фильмов студии «Hammer» открыто и избыточно демонстрировали жажду крови, реализуя эстетическую программу заданную студией: «Нам не нужны фильмы со смыслом, мы создаём развлечения»9. Мэтр итальянского хоррора Марио Бава создал колоритный и модифицированный образ вампира по шаблону студии «Hammer», превращая каждый свой фильм в увеселительную поездку: «Чёрное воскресенье» (1960), «Шабаш ведьм» (1963), «Планета вампиров» (1965).
«Планета вампиров» (1965)
Запоминающийся образ вампира приобретал новые черты в послевоенные десятилетия, в особенности, в 1970-ых в литературе. Активная перестройка жанровых моделей, таких, как соединение мотивов вампира и сюжет научной фантастики приводят к появлению таких литературных произведений, как «Я легенда» (1954) Ричарда Мэтсона (о последнем человеке на Земле, избежавшем пандемии, которая превратила всех жителей планеты в вампиров) и «Космические вампиры» (1976) Колина Уилсона (о фантастическом вторжении инопланетян).
Разнообразие эстетических приемов появилось в 1970-ых в кинематографических вариациях предмета. Сексуальная революция предыдущего десятилетия открыла дорогу преимуществам эротизма вампирского образа. Развитие трэш-культуры и секс-индустрии в начале 1970-ых дали начало низкобюджетным хоррор-фильмам с максимально извращёнными женскими персонажами-вампирами и нарочито искусственной кровью в кадре. Такие фильмы, как «Вампиры-лесбиянки» (1971) и «Вампирша с оголённой грудью» (1973) Джесса Франко уже подхватили два тренда ― вампиры и эксплуатейшн. Кстати, Франко был режиссёром и традиционного фильма «Граф Дракула» с Кристофером Ли.
Появляются мейнстримовые фильмы с необычной визуальной составляющей, например, «Носферату» Херцога, «Дракула» Бэдэма с Франком Ланджеллой в роли Графа и Лоуренсом Оливье в роли Ван Хельсинга. Сразу же появились и пародии, такие, как «Дракула и сын» (1976) французского режиссёра Эдуарда Молинаро с Ли в роли Графа. Но кинематограф стал уступать телевидению и комиксам (позже к ним присоединятся и компьютерные игры), которые постепенно делали образ вампира более тривиальным. Тем не менее, именно 1970-ые сделали вампиров такими популярными.
«Носферату» (1979)
3
ЗЕНКИН, С. Эффект фантастики в кино. В: Фантастическое кино. Эпизод первый, сост. Самутина, Н., М.: Новое Литературное Обозрение (НЛО). 408 с. С.56.
4
ГРАНТ, Б. К. Фантастическое кино. Эпизод первый, Пер. ДОБРОНИЦКОЙ, Т. М.: НЛО, 408 с. С. 24.
5
КРАКАУЭР, З. От Калигари до Гитлера. Психологическая история немецкого кино. М.:Искусство, 1997, 145 с., С.38
6
СТОКЕР, Б. Дракула. М.: Энигма. 2005. 640 с. С.331—334
7
ПАЛЬЯ, К. Личины сексуальности. Екатеринбург: Уральский университет. 2006. 880 с. С. 433
8
ДОБРОТВОРСКИЙ, С. Н. Кино на ощупь.1990—1997,СПб: Сеанс. 2001. 527 с. С.320
9
МАРКУЛАН, Я. К. Киномелодрама. Фильм ужасов: Кино и буржуазная массовая культура., Л.: Искусство. 1978. 192 с. С.150