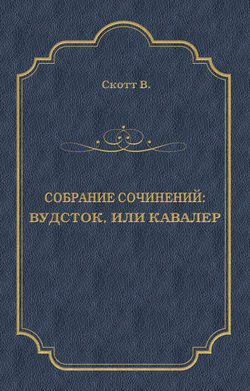Читать книгу Вудсток, или Кавалер - Вальтер Скотт - Страница 8
Глава V
ОглавлениеК таким речам язык мой непривычен,
Топорных фраз ему не одолеть;
Пускай в них есть величье, но они
На языке моем висят, как цепи:
Так юношу Давида лишь стесняла
Царя Саула тяжкая броня.
Дж. Б.
Тем временем Маркем Эверард шагал по направлению к замку вдоль одной из широких просек, тянувшихся по лесу; просека то сужалась, то расширялась, ветви то сплетались у него над головой, то раздвигались, пропуская лунный свет; иногда они расступались, образуя небольшие лужайки или поляны, залитые серебристыми лучами, – это волшебный свет играл на дубах, на их темной зелени, сухих сучьях и массивных стволах; такой пейзаж мог привести в восторг поэта или художника.
Но Эверард если и думал о чем-нибудь, кроме тягостной сцены, в которой ему только что пришлось участвовать и которая, казалось, разбила все его надежды, то разве лишь об осторожности, необходимой при ночных прогулках. Время было смутное и тревожное, дороги кишели дезертирами, особенно из роялистов – прикрываясь своими политическими взглядами, они мародерствовали и разбойничали по всей стране. Браконьеры – а они всегда бывают отчаянными головорезами – наводняли теперь Вудстокский заповедник. Словом, время и место были настолько небезопасны, что Маркем Эверард держал заряженные пистолеты за поясом, а обнаженную шпагу под мышкой – он был готов отразить любое нападение.
Пересекая одну из лужаек, он услышал, что колокола в вудстокской церкви звонят к вечерне, но звуки затихли, когда он вступил на темную просеку. В этот момент он услышал, что кто-то посвистывает; свист становился все громче – очевидно, человек приближался. Вряд ли то был единомышленник – члены секты, к которой принадлежал Эверард, считали непристойной всякую музыку, кроме пения псалмов. «Если человеку весело, пусть поет псалмы» – так гласила заповедь, и они понимали ее буквально, да и применяли так же некстати, как и другие заповеди в этом роде. Но посвистывание длилось очень уж долго, оно не могло быть сигналом для ночных бродяг и звучало так весело и добродушно, что не наводило на мысль о злых помыслах. А путник тем временем перестал свистеть и во все горло запел разухабистую песенку, какой кавалеры в былые времена вспугивали ночных сов:
Кавалеры, бравый вид!
Кавалеров Бог хранит!
Оплеуху, оплеуху
Вельзевулу{91} прямо в ухо!
Оливер от страха весь дрожит!
– Что-то знаком мне этот голос, – сказал Эверард, осторожно взводя курок пистолета, который он вытащил из-за пояса и держал в руке.
А певец тем временем продолжал:
Ахни, трахни,
По башке бабахни!
– Эй, эй, – закричал Маркем, – кто идет? Ты за кого?
– За церковь и короля, – ответил голос и сразу прибавил: – Нет, нет, черт меня возьми, я хотел сказать – против церкви и короля, за тех, кто берет верх, вот забыл только, кто они такие.
– Да это, кажется, Роджер Уайлдрейк? – воскликнул Эверард.
– Он самый… собственной персоной. Из Скуоттлсимир, из сырого Линкольншира.
– Уайлдрейк – валяй-дурак! – вскричал Маркем. – Ты, видно, здорово промочил себе глотку, а теперь горланишь песни совсем в духе наших дней!
– Поверь, Марк, песенка хоть куда, жаль, немножко устарела.
– Кому и попадаться-то навстречу, – сказал Эверард, – как не загулявшему пьяному роялисту, отчаянному и опасному во хмелю, да еще в ночное время. А что, если бы я наградил тебя за песню пулей в глотку?
– Ну что ж, купил бы мне новую глотку, вот и все, – ответил Уайлдрейк. – Но куда ты идешь этой дорогой? Я-то думал найти тебя в хижине.
– Мне пришлось уйти оттуда, потом расскажу почему, – ответил Маркем.
– Что такое? Старый баронет, помешанный на пьесах, разозлился, или, может, Хлоя{92} была неприветлива?
– Полно шутить, Уайлдрейк, для меня все кончено, – сказал Эверард.
– Вот так дьявол! – вскричал Уайлдрейк. – И ты говоришь об этом так спокойно? Подумать только! Воротимся-ка туда вместе… Я за тебя похлопочу… Уж я-то знаю, чем подхлестнуть старика рыцаря и хорошенькую девицу… Дай только я докажу, что ты rectus in curia[13], ты, лицемерный плут. Черт возьми, сэр Генри Ли, скажу я, нечего отрицать, что ваш племянник немножко пуританин, но я все-таки ручаюсь, что он джентльмен и человек порядочный, да и хорош собой… Мадам, скажу я, может, вы думаете, что ваш кузен похож на ткача, распевающего псалмы в уродливой фетровой шляпе, в жалком коричневом плаще, с белым галстучком, вроде детских завязочек, а сапожищи у него такие, что на каждый пошла кожа с целого теленка; но наденьте ему набекрень касторовую шляпу с пером, приличествующим его званию, повесьте ему на бок толедский клинок, вышитую перевязь, эфес с инкрустацией вместо этой тонны железа в виде черного Андреа Феррара{93}, меча с рукояткой как корзина; вложите ему в уста галантные речи – и, клянусь кровоточащими ранами Христа, мадам, скажу я…
– Полно, Уайлдрейк, вздор болтать, – прервал его Эверард. – Скажи-ка, ты не очень пьян, можешь выслушать меня серьезно?
– Ну, еще бы, приятель, я ведь пропустил только пару четвертей с пуританскими круглоголовыми солдатами там, в городе. Черт меня возьми, я их всех за пояс заткнул! Гнусавил, ворочал глазами, когда брался за кружку… Тьфу! И вино-то пахло притворством! Сдается мне, негодяй капрал под конец кое-что пронюхал, зато солдаты ничего не заподозрили, даже попросили прочитать молитву над следующей четвертью.
– Вот об этом-то я и хотел поговорить с тобой, Уайлдрейк, – сказал Маркем. – Как ты считаешь, ведь я тебе друг?
– Верный, как клинок! Мы были неразлучны еще в университете, и в Линкольн-Инн мы были словно Нис и Эвриал, Тесей и Пирифой, Орест и Пилад, а если всех их замесить вместе, да еще с пуританской закваской, так получатся Давид и Ионафан{94}. Нас не могла разлучить даже политика, а ведь этот клин разъединяет родственников и друзей, как железо расщепляет дуб.
– Верно, – согласился Маркем, – и когда ты последовал за королем в Ноттингем, а я вступил в армию Эссекса{95}, мы поклялись при расставании: на чьей бы стороне ни оказалась победа, тот из нас, кто будет в числе победителей, поддержит менее удачливого друга.
– Правда, приятель, правда, и разве ты мне уже не помог? Не ты ли спас меня от веревки? И не тебе ли я обязан тем, что сыт?
– Дорогой Уайлдрейк, я сделал только то, что и ты сделал бы для меня, сложись все иначе. Вот об этом-то я и хочу с тобой поговорить. Зачем ты мне мешаешь помогать тебе? Это ведь и так нелегкое дело. Зачем ты лезешь в компанию солдат или им подобных? Ты ведь так легко можешь войти в раж и выдать себя. Зачем ты слоняешься попусту, горланишь роялистские песни, как какой-нибудь пьяный кавалерист из войск принца Руперта или чванливый телохранитель Уилмота?
– Потому что в свое время я, может, был и тем и другим, ты ведь не знаешь, – ответил Уайлдрейк. – Черт возьми! Неужто мне нужно все время напоминать тебе, что наше обязательство помогать друг другу, наш, если можно так выразиться, оборонительно-наступательный союз должен существовать независимо от политических и религиозных взглядов подзащитной стороны и без малейших обязательств согласовывать свои взгляды со взглядами другого.
– Верно, – сказал Эверард, – но с одной важной оговоркой: подзащитный должен внешне подчиняться заведенным порядкам, для того чтобы другу было легче и безопаснее защищать его. А ты все время срываешься, подвергаешь себя опасности и бросаешь тень на мою репутацию.
– Говорю тебе, Марк, и я повторил бы это твоему тезке святому апостолу, ты ко мне несправедлив. Ты ведь с колыбели привык к воздержанию и лицемерию, и приучали к ним с пеленок до женевского плаща – это у тебя в крови, и, конечно, тебе непонятно, что прямолинейный, веселый, честный парень, который привык всю жизнь резать правду, особенно когда находит ее на дне бутылки, не может быть таким педантом, как ты. Дудки! Нет между нами равенства. Опытный пловец тоже порой укоряет новичка – он ведь спокойно остается под водой десять минут, а тот готов лопнуть через двадцать секунд на глубине в шестьдесят футов. В конце концов, если принять во внимание, что для меня притворство – в новинку, думается мне, я неплохо с этим справляюсь… Испытай-ка меня!
– Есть какие-нибудь вести о вустерской битве? – спросил Эверард серьезным тоном, который ввел его приятеля в заблуждение; ответ был быстрым и откровенным:
– Худо, черт меня возьми, во сто раз хуже, чем было. Разбиты наголову. Нол, конечно, продал душу дьяволу, но когда-нибудь ему придется за все заплатить – это единственное наше утешение.
– Ага! Значит, вот как ты ответишь первому красному мундиру, который задаст тебе такой вопрос? – воскликнул Эверард. – По-моему, это самый верный способ оказаться в ближайшей караулке.
– Нет, нет, – смущенно ответил Уайлдрейк, – я ведь думал, ты меня серьезно спрашиваешь. Чудесные новости! Великая удача… Ослепительная удача… Завершающая удача… достойная, возвышающая. Уверен, что злодеи рассеяны от Дана до Вирсавии…{96} разбиты наголову на веки веков.
– Слышал ты что-нибудь о раненом полковнике Торнхофе?
– Подох, круглоголовый мошенник, – ответил Уайлдрейк, – хоть в этом-то повезло! Нет, постой, это я оговорился!.. Я хотел сказать – прекрасный, благочестивый юноша!
– А что слышно про молодого наследника, короля шотландского, как его называют? – спросил Эверард.
– Ничего, разве только, что на него охотятся в горах, как на куропатку. Да поможет ему Бог и да поразит врагов его. Хватит, Марк Эверард, надоело мне дурачиться. Ты что, не помнишь, на представлениях в Линкольн-Инн я играл не хуже других, но меня никак не могли заставить играть всерьез на репетициях. Ты, правда, редко в этом участвовал. Вот и теперь то же самое. Я слышу твой голос и чистосердечно на все отвечаю, а когда я в компании твоих гнусавых приятелей, ты видел, что я играю свою роль довольно прилично.
– Разве что прилично, – заметил Эверард, – ведь с тебя ничего особенного и не спрашивают, только будь поскромнее и помалкивай. Говори поменьше и постарайся отучиться от проклятий и свирепых взглядов… да шляпу надвинь поглубже на лоб.
– Да, вот это труднее всего. Я всегда славился тем, что изящно ношу шляпу. Худо, когда достоинства человека оборачиваются против него.
– Не забудь, что ты мой клерк.
– Секретарь, – поправил Уайлдрейк, – сделай милость, назначь меня своим секретарем.
– Лучше, если ты будешь только клерк, простой клерк, и помни – ты должен быть вежливым и покорным, – ответил Эверард.
– Но вы, мистер Маркем Эверард, не должны мной командовать с таким высокомерным видом. Я ведь на три года раньше тебя и звание-то получил. Черт меня возьми, не знаю, как мне и быть.
– Ну есть ли еще такой упрямец на свете! Ради меня, если уж не хочешь ради себя самого, подчини свои глупые причуды голосу рассудка. Подумай, чем я рискую, какую опасность навлекаю из-за тебя на свою голову.
– Знаю, ты ведь настоящий друг, Марк, – ответил роялист, – и ради тебя я готов на все. Но не забудь кашлянуть и сказать «гм», если увидишь, что я перехожу границы. А теперь ответь-ка мне, где мы устроимся на ночь?
– В Вудстокском замке – нам надо присмотреть за дядиным имуществом, – сказал Маркем Эверард, – мне доложили, что солдаты захватили замок. Но как это могло случиться, раз ты видел, что они пьянствуют в городе?
– Какой-то их комиссар, секретарь, или как там этого негодяя называют, пошел в замок – я проследил за ним.
– В самом деле? – спросил Эверард.
– Святая истина, говоря твоими словами, – продолжал Уайлдрейк. – Каких-нибудь полчаса назад я бродил там, искал тебя и заметил свет в замке. Иди-ка за мной, сам увидишь.
– В северо-западном крыле, – спросил Эверард, – в окне той комнаты, что называют гостиной Виктора Ли?
– Ну да, – продолжал Уайлдрейк, – я ведь долго служил в отряде Ленсфорда и привык к патрульной службе… Вот я и сказал себе: «Будь я проклят, если оставлю свет у себя в тылу и не узнаю, что там такое». К тому же ты, Марк, столько рассказывал про свою хорошенькую кузину, вот я и подумал, почему бы мне не посмотреть на нее.
– Безрассудный, неисправимый человек! Какой опасности ты подвергаешь и себя и друзей своих из-за собственного беспутства! Ну, рассказывай дальше.
– Клянусь этим дивным лунным светом, ты, кажется, ревнуешь, Марк Эверард, – рассмеялся его веселый спутник. – И напрасно. Я хоть и стремился поглядеть на эту даму, но честью своей был защищен от чар твоей Хлои… Потом, дама ведь меня бы не увидела и не смогла бы сделать сравнения не в твою пользу. Ну и, наконец, дело обернулось так, что мы с ней не встретились.
– О, в этом я уверен. Мисс Алиса ушла из замка задолго до заката и больше туда не возвращалась. Что же ты там увидел, раз понадобилось столь длинное вступление?
– Да ничего особенного, – ответил Уайлдрейк, – я забрался на какой-то карниз (я ведь лазаю, как бродячая кошка) и уцепился за плющ и лозы, растущие вокруг; поэтому я и смог свободно заглянуть в комнату, о которой ты говоришь.
– Ну и что же ты там увидел? – строго спросил Эверард.
– Я уже сказал: ничего особенного, – ответил роялист, – теперь ведь не диво, что чернь пирует в королевских или дворянских покоях. Увидел я, как два мошенника опустошают солидную флягу бренди и жрут огромный жирный пирог с олениной прямо на дамском рабочем столике. Один из них бренчал на лютне.
– Негодяи бессовестные! – вскричал Эверард. – Это же лютня Алисы!
– Молодец… Очень рад, что расшевелил такую флегму, как ты. Я нарочно подбросил в свой рассказ лютню и столик, хотел высечь из тебя хоть искру человеческого чувства, святоша ты этакий!
– Что это были за люди? – спросил молодой Эверард.
– Один, как и все вы, – фанатик с кислым лицом, в обвислой шляпе, в длинном плаще – должно быть, это и есть тот комиссар или секретарь, про которого я слышал в городе; другой – коренастый, здоровенный детина, за поясом – охотничий нож, черные волосы, белые зубы и веселая улыбка, рядом с ним – огромная дубина. Думаю, что это здешний егерь или оруженосец.
– Первый, должно быть, любимец Десборо, Верный Томкинс, – заметил Эверард, – а другой – егерь Джослайн Джолиф, Томкинс – правая рука Десборо, индепендент, на него нисходит благодать, как он сам говорит. Кое-кто думает, что дело тут в ловкости, а не в благодати. Слышал я, что он из всего умеет извлечь пользу.
– И я видел, что он это умеет делать, по фляжке было заметно. Вот только дьявол устроил так, что на старой стене подо мной обвалился камень. Растяпа вроде тебя раздумывал бы целый век, что делать, он бы непременно полетел вслед за камнем, прежде чем на что-нибудь решиться. А я, Марк, прыгнул, как белка, уцепился за ветку плюща и замер, но меня чуть не подстрелили: шум всполошил их. Оба выглянули в окно и заметили меня, фанатик схватил пистолет – ты ведь знаешь, что это священное писание они всегда носят на поясе рядом с карманной Библией; егерь взялся за дубинку… ну, а я принялся хохотать и строить им рожи: тебе ведь известно, что я могу гримасничать, как обезьяна, этому меня выучил француз-комедиант, он умел щелкать челюстями, словно щелкунчик. Потом я легонько спрыгнул на траву и понесся прочь, да все держался поближе к стене, пока возможно было; даю слово, они приняли меня за своего собрата дьявола, который явился к ним без зова. До чего ж они перепугались!
– Как ты неосторожен, Уайлдрейк, – заметил его спутник, – сейчас мы придем в замок, что будет, если они тебя узнают?
– А в чем мое преступление? Со времен Тома из Ковентри никто еще не поплатился за любопытство, а он-то получил настоящее удовольствие, не то что я. Не бойся, они меня не узнают – ведь это все равно что человек, видевший твоего друга Нола только на заседании святош; он не узнает того же самого Оливера на коне, когда тот ведет в атаку эскадрон красных мундиров, или того же Нола, когда он отпускает шутки и прикладывается к бутылке с беспутным поэтом Уоллером{97}.
– Тсс… ни слова про Оливера, если дорожишь своей жизнью и моей. Со скалой, откуда можешь свалиться, шутки плохи… Но вот и ворота… Сейчас мы прервем забавы наших достойных джентльменов.
С этими словами он постучал во входную дверь огромным тяжелым молотком.
– Трах-тах-тах, – произнес Уайлдрейк, – славная встряска для вас, рогоносцы вы круглоголовые.
Затем он пропел, гримасничая, бравурную песенку:
Рогоносцы, полно спать! Рогоносцы, время встать!
Надо, рогоносцы, джигу вам сплясать!
– Ради бога! Это уж совсем из рук вон! – остановил его Эверард, сердито повернувшись к нему.
– Ни капельки, ни капельки, – ответил Уайлдрейк, – я просто слегка откашливаюсь, как перед длинной речью. Вот издал боевой клич, а теперь целый час буду серьезным.
В эту минуту в холле послышались шаги, калитка в огромной двери приоткрылась, но осталась на предохранительной цепочке. Томкинс, а за ним и Джослайн появились в просвете, освещенные лампой, которую Джослайн держал в руке; Томкинс спросил о причине шума.
– Требую, чтобы меня немедленно впустили! – заявил Эверард. – Джолиф, ты ведь меня хорошо знаешь?
– Как же, сэр, – подтвердил Джослайн, – и от души хотел бы принять вас, да видите ли, сэр, я уже ключам не хозяин. Вот джентльмен, который мною распоряжается, – помоги мне, Господь, пережить эти времена.
– И когда же этот джентльмен, который, сдается мне, служит лакеем у мистера Десборо…
– Недостойным секретарем его чести, если позволите, – вмешался Томкинс, а Уайлдрейк шепнул Эверарду на ухо:
– Не буду я больше секретарем! Правда твоя, Марк, клерк – более благородное звание.
– Если вы секретарь мистера Десборо, то, полагаю, вы хорошо знаете меня и мой чин, – сказал Эверард, обращаясь к индепенденту, – и не откажитесь предоставить в замке ночлег мне и моему провожатому.
– Конечно, конечно, – заторопился индепендент, – если только ваша милость считает, что здесь вам будет лучше, чем в городе, в этом увеселительном заведении, которое горожане непристойно зовут гостиницей Святого Георгия. Больших удобств здесь нет, ваша честь, к тому же нас только что до смерти напугало появление сатаны, хотя его огненные стрелы теперь и потушены.
– В этом замке всего можно ожидать, господин секретарь, – ответил Эверард, – вы можете поговорить об этом, когда вам в следующий раз заблагорассудится выступать в роли проповедника. Но я не потерплю, чтобы меня дольше задерживали на холодном осеннем ветру. Если вы меня сейчас же не примете достойным образом, я пожалуюсь на вас вашему начальнику за дерзкое поведение при исполнении служебных обязанностей.
Секретарь Десборо не посмел больше сопротивляться: все знали, что сам Десборо достиг своего положения только благодаря родству с Кромвелем, а главнокомандующий, который в то время уже пользовался почти неограниченной властью, как всем было известно, весьма благоволил к Эверардам – отцу и сыну. Правда, Эверарды были пресвитериане, а Кромвель – индепендент; хотя они разделяли его строгость в вопросах морали и религиозный пафос, присущий большинству в парламенте, они не были склонны, подобно многим, держаться крайней точки зрения в этих вопросах. Но известно было и то, что Кромвель не всегда руководствовался собственными религиозными убеждениями при выборе фаворитов, а благосклонно относился к тем, кто мог быть ему полезен, даже если, как говорили тогда, те вышли из тьмы египетской. Старший Эверард пользовался репутацией человека благоразумного и проницательного; кроме того, он был из хорошей семьи и обладал значительным состоянием; его поддержка придала бы вес любому лагерю. Да и сын его уже отличился на военном поприще, он слыл среди подчиненных человеком дисциплинированным, храбрым в бою и гуманным, когда нужно было смягчить значение победы. Подобными людьми нельзя было пренебрегать, когда выяснилось, что политические группы, свергнувшие и казнившие короля, начинают враждовать между собой из-за дележа добычи. Поэтому Кромвель заигрывал с обоими Эверардами, и считалось, что влияние их на главнокомандующего весьма значительно; вот почему мистер Томкинс, верный секретарь, не захотел подвергать себя опасности, споря с полковником Эверардом из-за такой мелочи, как устройство на ночлег.
Джослайн, со своей стороны, старался по мере сил – зажег больше свечей, подбросил дров в очаг; прибывших провели в гостиную Виктора Ли, как ее называли из-за портрета над камином, уже описанного нами. Вид дома, где полковник Эверард провел самые счастливые часы своей жизни, так сильно повлиял на него, что прошло несколько минут, прежде чем он вновь обрел свое обычное стоическое спокойствие. Вот секретер, который всегда вызывал у него чувство восхищения, когда сэр Генри Ли давал ему наставления по рыболовству, доставал оттуда крючки и удочки и объяснял, как сделать искусственную приманку, что было тогда новинкой. Вот висит старинный фамильный портрет, который благодаря таинственным рассказам дяди вызывал у Эверарда, даже когда он был подростком, чувство страха, смешанного с любопытством. Он помнил, как, оставшись один в комнате, замечал, что пристальный взгляд старого воина всегда встречался с его взглядом, в какую бы часть комнаты он ни отходил, и как это необъяснимое свойство портрета смущало его детское воображение.
Затем на него нахлынуло множество дорогих его сердцу воспоминаний о нежной привязанности к своей милой кузине Алисе, о том, как он помогал ей учить уроки, приносил воду для цветов, аккомпанировал, когда она пела; он вспомнил, как однажды отец ее посмотрел на них с добродушной и веселой улыбкой и пробормотал: «Если дело так обернется – что ж, может это будет к лучшему для обоих?» – и планы о будущем счастье, рожденные этими словами. Все эти мечты были рассеяны звуком фанфар, призвавшим сэра Генри Ли и его самого во враждебные лагери; а события этого дня показали, что успехи Эверарда как воина и государственного деятеля совершенно исключили возможность осуществления этих планов.
Он отвлекся от таких печальных дум, когда вошел Джослайн. Егерь был навеселе, но делал все с такой быстротой и ловкостью, каких трудно было ожидать от человека, пропировавшего целый вечер.
Егерь пришел за приказаниями полковника относительно ночлега.
– Угодно ли вам откушать чего-нибудь?
– Нет.
– Угодно ли его чести спать в постели сэра Генри Ли? Она уже приготовлена.
– Да.
– А постель мисс Алисы прикажете приготовить для секретаря?
– Нет, или ты поплатишься своими ушами! – воскликнул Эверард.
– Где тогда прикажете поместить достойного секретаря?
– Хоть в собачьей конуре, если желает, – ответил полковник Эверард, – но эту комнату никому не позволено осквернять. – Он подошел к спальне Алисы, выходившей в гостиную, запер дверь и вынул ключ.
– Угодно вашей чести приказать еще что-нибудь относительно ночлега?
– Ничего, только выставить из дома этого человека. Со мной останется мой клерк. Мне нужно написать несколько приказов… Постой-ка… Ты отдал утром мое письмо мисс Алисе?
– Отдал.
– Ну и что она сказала, добрый Джослайн?
– Она, кажется, очень огорчилась, сэр; сдается мне, что даже всплакнула немножко; право же, вид у нее был очень расстроенный.
– А что она поручила мне передать?
– Ничего, пусть ваша честь не обидится. Она начала было говорить: «Скажи кузену Эверарду, что я при первом удобном случае передам отцу добрые предложения дяди, но боюсь…» Тут она замолчала и потом добавила: «Я напишу кузену, может быть, я не сразу смогу поговорить с отцом. Приходи за ответом после обедни». Я и пошел от нечего делать в церковь, а когда вернулся в замок, вижу – этот парень требует, чтобы мой господин сдавался. А я, хочешь не хочешь, должен ввести его во владение замком. Хотел было я предупредить вашу милость, что старый баронет и молодая хозяйка застанут вас в моей норе, да вот не вышло.
– Ты все прекрасно устроил, добрый друг, я не забуду твою услугу… А теперь. господа, – сказал он, обращаясь к двум клеркам или секретарям, которые в это время спокойно сидели за глиняной бутылкой и беседовали по душам со стаканами в руках, – позвольте вам напомнить, что время уже позднее.
– Но в бутылке все еще что-то булькает, – возразил Уайлдрейк.
– Кх-кх-кх, – кашлянул полковник парламентских войск; и хотя уста его не произнесли проклятия по поводу дерзости его спутника, не поручусь, что в душе он этого не сделал.
– Ну, – сказал он, заметив, что Уайлдрейк налил себе и Томкинсу еще по стакану, – выпейте на прощание и расходитесь.
– Не угодно ли вам сначала узнать, – сказал Уайлдрейк, – что сей достойный джентльмен сегодня видел, как дьявол заглядывал вот в это окно. Он считает, что дьявол здорово похож на покорного слугу и недостойного писца вашей милости. Вы только послушайте, сэр, и отведайте стаканчик пользительной настойки.
– Я не стану пить, сэр, – строго сказал полковник Эверард, – а вам замечу, что вы пропустили слишком уж много стаканчиков. Мистер Томкинс, сэр, желаю вам доброй ночи.
– А сейчас – поучительное слово при расставании, – начал Томкинс, вставая; он оперся на спинку высокого кожаного кресла, откашлялся и засопел так, как будто готовился произнести проповедь.
– Простите меня, сэр, – твердо заметил Маркем Эверард, – вы сейчас недостаточно владеете собой, для того чтобы поучать других.
– Горе тем, кто не внемлет… – проговорил секретарь комиссаров, выбегая из комнаты; стук двери заглушил конец его речи или он не договорил ее, испугавшись последствий.
– А теперь, сумасбродный Уайлдрейк, отправляйся в постель, она вон там, – он показал на покои баронета.
– А спальню дамы ты приберег для себя? Видел я, как ты положил ключ в карман!
– Не хочу… Просто не смогу заснуть в той комнате… Сегодня я нигде не засну. Просижу в этом кресле. Я приказал принести дров, чтобы поддержать огонь. Спокойной ночи. Ложись в постель и выспись после попойки.
– Попойка! Смешно слушать тебя, Марк, чертов трезвенник. Ты даже и понятия не имеешь, что может совершить приличный малый за доброй чаркой.
«В этом несчастном соединились пороки целой партии, – сказал про себя полковник, искоса следя за тем, как его protege[14] нетвердым шагом брел в спальню. – Головорез, пьяница, кутила. Если я не переправлю его благополучно во Францию, он, без сомнения, погубит нас обоих. Однако ж он добр, храбр, великодушен и, конечно, сам сделал бы для меня все то, чего сейчас ожидает от меня; а в чем же твоя заслуга, если ты выполняешь только те обязательства, которые не могут тебе повредить? Но я все-таки постараюсь обезопасить себя от дальнейших вторжений с его стороны».
С этими мыслями он запер дверь из спальни, куда удалился роялист, в гостиную, потом, в раздумье походив по комнате, вернулся на свое место, поправил огонь в лампе и вынул из кармана несколько писем.
– Прочту-ка я эти письма еще раз, – сказал он, – может быть, мысли о государственных делах отвлекут меня от моих собственных горестей. Милосердный Боже! Чем же все это кончится? Для защиты родины мы пожертвовали согласием в своих семьях, самыми лучшими устремлениями молодых сердец, а получается, что каждый шаг к свободе раскрывает перед нами новые, еще более страшные бедствия; так человек, карабкающийся на горные вершины, с каждым шагом подвергается все большей опасности.
Он долго и внимательно читал утомительные и запутанные письма, в которых авторы, твердя о славе Божьей, о свободе Англии как единственной своей цели, не могли за витиеватыми выражениями скрыть от проницательного Маркема Эверарда, что главными движущими пружинами их действий были своекорыстие и тщеславие.