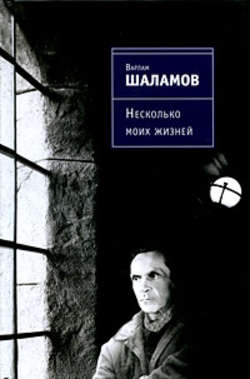Читать книгу Несколько моих жизней: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела - Варлам Шаламов - Страница 1
На сайте Литреса книга снята с продажи.
«Мне нужно сжечь себя…»
ОглавлениеВ рабочей тетради Шаламова 1966 года есть такая запись: «Мне нужно сжечь себя, чтобы привлечь внимание».
Страстная жажда отклика, понимания жила в Варламе Тихоновиче. Неудовлетворенная жажда. Автор «Колымских рассказов» часто кажется читателю неким изваянием из гранита, поднявшимся высоко над современниками, их слабостью и неразумием. «Каменный Варлам» – назвал его поэт.
Воспоминания Варлама Тихоновича и его записные книжки открывают нам внутренний, глубоко личный мир Шаламова – трагизм его вынужденной немоты, жажду сочувствия, понимания собеседника, читателя.
«Мир мал, но мало не только актеров, мало зрителей». Мало читателей, ибо истинный читатель – сотворец автора, он собой – своими мыслями, чувствами выявляет в тексте то, что там, в глубине, лежит, как золотоносная руда, – сокровенный смысл, тайну текста. Надежда, что такой читатель появится, порой покидала Шаламова.
Тайны речи твоей пусть никто не раскроет.
Мастерство! Колдовство! Волшебство!
Пусть героя скорей над горою зароют:
Естество превратят в вещество…
(«Пусть лежит на столе…», стихотворение 1972 г.)
В каждом рассказе и стихотворении Шаламова, как и каждого большого писателя, есть такой знак, адресованный читателю.
Думаю, тот, кто внимательно прочтет эту книгу, с предельной искренностью открывающую потаенный мир автора, поймет его рассказы и стихи лучше и глубже, примет их к сердцу, ибо, как говорит почитаемый Шаламовым Сент-Экзюпери – «зряче только сердце». Мы видим, как поступает Шаламов в самых критических ситуациях своей жизни, смертельно рискованных, как сохраняет он верность себе и искусству, не уступая ни государственному, ни либеральному террору.
Вместе с Шаламовым читатель пройдет по главным вехам его жизни – юношеская мечта о Свободе, Равенстве, Братстве; двадцатые годы, «штурм неба», утопленный в крови репрессий; голод тридцатых, после коллективизации; Москва, отгороженная кордонами от нашествия голодающих; Колыма 1938 года, расстрелы, холод, голод, побои; 1946 год – курсы фельдшеров и сражение с блатными: работая в приемном покое больницы, он возвращал обратно на этап блатарей, симулянтов, из-под гипса извлекая ножи, за все это был приговорен блатными, но тайное заступничество перед «авторитетом» врача Ф. Е. Лоскутова его спасло. Ф. Е. Лоскутова Шаламов называл праведником. Однако – «Богу не нужны праведники, те проживут и без Бога. Богу нужны раскаявшиеся грешники».
Судьба, действительно, жестока с праведниками – и с Лоскутовым, и с самим Шаламовым, словно непрерывно испытывая их на прочность. Какое воздаяние они получат и где – нам неизвестно.
В одной из последних своих тетрадей Шаламов напишет:
Я не просил пощады
У высших сил,
У рая или ада
Пощады не просил.
Он считал долгом сделать свое дело художника: написать о Колыме так, чтобы запомнили о ней навсегда. И дать какой-то нравственный пример людям этим делом.
«Я пишу не для того, чтобы описанное – не повторилось. Так не бывает, да и опыт наш не нужен никому.
Я пишу для того, чтобы люди знали, что пишутся такие рассказы, и сами решились на какой-либо достойный поступок – не в смысле рассказа, а в чем угодно, в каком-то маленьком плюсе».
Это он сделал. Так он и жил, опираясь не на надежду, славу и успех, а на долг, нравственный императив. «В моей жизни не было удач», – писал Варлам Тихонович. Удары судьбы следовали один за другим, начиная с 1918 года: чтобы прокормить семью и ослепшего отца, он торговал пирожками на базаре. Последний удар – интернат для инвалидов, слепота, глухота…
Но стихи были с ним до самого последнего дня.
…Как ни трудна эпоха,
Я был ее сильней…
В каждой написанной им строке он предельно искренен, за каждым словом – его сердце, его ум, не знавшие хитрости, корпоративных интересов, приспособленчества ни к государству, ни к Западу.
Часто он кажется противоречивым, но это естественное свойство большого таланта, видящего вещи объемными, а каждая идея, человек, явление искусства или жизни – не плоскость, не однозначность, а сгусток энергии, творческой энергии, и постигать его, наверное, надо, рассматривая в объеме, в глубине, многообразии. (Вспомним А. Блока: «спасительный яд творческих противоречий. Собр. соч., т. 7. М. – Л., 1963. С. 24.) Этот «яд» спасает от самолюбования, убеждения в собственной непогрешимости, стремления поучать людей, от ограниченности и жестокости.
Не торопиться наклеивать ярлыки, не выдергивать цитаты, а всмотреться, вчувствоваться, осмыслить… Так надо читать и прозу, и стихи Шаламова, многозначные, многослойные, при кажущейся простоте – проникнутые глубокой символикой и апелляциями к религии, философии, фольклорным и художественным текстам, живописи и музыке. «Мастерство такое, что не видать мастерства», – говорил Л. Толстой о И. Репине. Таково мастерство и Шаламова. Тем больший интерес для исследователя представляют его тексты, которые надо «вскрыть», чтобы обнаружить их структуру, ритм, культурный контекст, знаковую систему. То, что делал Шаламов по творческому наитию, по велению высшей сущности, можно попытаться расшифровать и сделать доступным не только интуиции, непосредственному «синтетическому» восприятию, но и научному исследованию, анализу.
Прекрасную книгу по своему глубокому пониманию текстов Шаламова написала Елена Васильевна Волкова – «Трагический парадокс Варлама Шаламова», М., 1998. Е. Волкова пишет в предисловии к своей книге: «Шаламов видит трагические парадоксы в самой жизни, он прибегает также к парадоксу как способу преодоления трагизма, ужаса и абсурда, в которые оказался погружен человек XX века».
Блистательны работы Елены Михайлик (Австралия), свою диссертацию на соискание степени доктора наук посвятившую творчеству В. Шаламова. «Рассказ «Ягоды» написал человек, сражавшийся при Армагеддоне и знающий, что мертвые не восстали», – пишет Е. Михайлик, прозревая истинно библейский подтекст в маленьком рассказе Шаламова, «анекдоте», как сказал бы Солженицын, пророк в своем отечестве.
Замечательные работы посвятили Шаламову российские исследователи Е. Громов, В. Есипов, Ф. Апанович (Польша), Л. Токер (Израиль), М. Берутти (Франция), Л. Клайн (США), Минако Токаги (Япония) и многие другие.
Читатели все-таки есть, несмотря на засилье кича. «Духовный голод», о котором писал Н. Бердяев («Судьба России», «Ростов-на-Дону», 1997, с. 28), еще не подавлен агрессивными суррогатами культуры. Студенты МГУ, школьники Череповца, инженер из Омска, учитель из Сургута, итальянский профессор, преподаватель Сорбонны – в их словах и письмах есть понимание творчества Шаламова и глубокое уважение к его личности и судьбе.
Я вижу с отрадой, что совсем молодые люди даже более восприимчивы к подтексту прозы Шаламова, может быть, это объясняется свободой мышления, незашоренностью, знанием Ветхого и Нового Заветов, интересом к учениям философов древних и новых. Или просто поисками смысла жизни, чуткостью молодого сердца…
Недаром самому любимому своему прижизненному сборнику стихов «Дорога и судьба» (1967) Шаламов хотел дать эпиграф из «Тристана и Изольды»:
Разве дело в звуках моего голоса?
Звук моего сердца – вот что ты должна
Была услышать.
Книга писем читается как повесть о героически достигнутом автором в нравственном и литературном плане, о крушениях в личной жизни – в любви и дружбе, о горьком предвидении будущего человечества и радостях жизни – привязанность женщины, кошки. Природа входит живым существом в мир людей. Клен перед окном, букет пионов…
Но даже малые радости непрочны – погибает кошка, спиливают клен, уходит любимая женщина.
Но не разрушает это его, живущего для высших ценностей, для поэзии, разговора с Богом, для познания души человеческой, для утверждения памяти – очищающего, божественного дара.
Письма расположены по корреспондентам, а затем – по хронологии.
Эпистолярное наследие В.Т. Шаламова охватывает 1952–1979 годы, что связано с известными обстоятельствами его биографии. Может быть, вынужденное писание «в стол» прозы, а часто и стихов, неутоленное желание высказаться перед живым и близким читателем сделало письма Шаламова, казалось бы, избыточно щедрыми – в них устремлялись те слова, чувства, мысли, которые иначе он не мог высказать и закрепить.
Письма В. Шаламова блистательны. Чтобы в этом убедиться, достаточно прочесть его письма Б. Пастернаку, А. Солженицыну, Н. Мандельштам, Ф. Вигдоровой, Ю. Шрейдеру, И. Сиротинской, А. Кременскому и др. Он искренен и открыт в переписке – для него это возможность высказаться, столь им ценимая. Тот «звуковой поток, выталкивавший на «решетку мысли»[1], который постоянно бушевал в его мозгу и, когда находил слушателя или читателя, радостно устремлялся в форму письма, часто письма-эссе, в форму эмоционального, захватывающего рассказа.
Основной поток приходился на долю обсуждения работы художника, роли искусства в жизни, не получая отклика на непечатаемые рассказы и стихи, он вьшивался в письменные и устные беседы, увы, не всегда находившие адекватный ответ у корреспондентов, живших активной творческой и повседневной жизнью.
Письмо, пожалуй, как никакой другой документ, открывает читателю личность автора: глубокая эмоциональность, стремящаяся не только к самораскрытию, но к «редчайшему», как говорит и сам Шаламов, стремлению вывернуть душу до дна. Удивительно ли, что, обладая такой особенностью, переписка драматична, порой как пьеса:
– оборванная трагическими обстоятельствами на высочайшей ноте переписка с Б. Пастернаком, душевно близким человеком, гением, живым Буддой;
– затухающая переписка с колымским товарищем – A3. Добровольским, пресеченная неизлечимой его болезнью;
– семейная переписка с женой, дочерью, так ясно показывающая отчуждение от родных, идеалом которых представляется отец в роли мирного сухумского садовода;
– недолгая и яркая дружба с Н.Я. Мандельштам, но «болельщицкие» ее наклонности явно отталкивают независимого и твердого Шаламова;
– короткая («нашла коса на камень») переписка с Г.Г. Демидовым, одним из лучших людей, по словам Шаламова, встреченных им на Колыме;
– Ю.А. Шрейдер, наполнявший свои письма занимательными философскими и филологическими текстами, и привлекая, и раздражая В.Т. своими стихотворными упражнениями: «никакой Бог не сделает Вас поэтом…»
И много, много людей втянуты в орбиту общения с В.Т. – колымские друзья (колоритнейший человек, доктор Ф. Лоскутов, бывший чекист В. Кундушидр.). Писатели и поэты (Ю. Домбровский, А. Жигулин, Ф. Искандер и др.) – кто мимолетно, кто серьезно касался его «горящей судьбы».
– Близкие и дорогие В.Т. люди – Н. Столярова, И. Сиротинская, Я. Гродзенский, А. Авербах и др.
Впервые образ Шаламова – «анахорета», созданный ПЧ («Прогрессивным человечеством»), которое он не пускал на порог, потерпит столь яркое поражение от самого автора.
С какими замечательными малоизвестными до сих пор нам людьми – Лидия Максимовна Бродская, Наталья Александровна Кастальская, тот же Федор Лоскутов – знакомит нас эта переписка. И таковы их душевные свойства, что они становятся нам близки и дороги. И тут мы подходим к самой важной для В.Т. проблеме – памяти. Помнить каждое доброе слово и чувство, каждую тонкую мимолетную мысль и свыше всего – добрый и светлый поступок! Помнить. И тогда, может быть, мир будет лучше – в нем растворится память и осветит все жалкое и жестокое в нашем мире.
Переписка систематизирована по корреспондентам. Начальная дата первого письма определяет место переписки с каждым корреспондентом в общей композиции книги.
Комментарии расположены непосредственно после завершения переписки с данным лицом.
Отдельный раздел составляет переписка с И.П. Сиротинской, объединенная через комментарии с ее воспоминаниями, частично опубликованными в «Шаламовском сборнике», вып. 1. Раздел значительно пополнен текстами мемуарными и эпистолярными.
И. Сиротинская
1
Из письма И.П. Сиротинской, 1971 г.