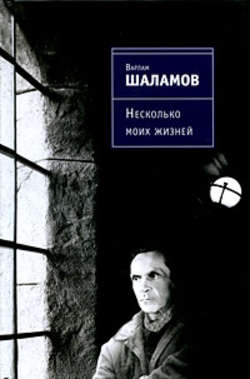Читать книгу Несколько моих жизней: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела - Варлам Шаламов - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Воспоминания
О Колыме
[Арест]
Оглавление12 января 1937 года я [был] арестован[331] и поначалу допрашивался каким-то стажером по фамилии не то Романов, не то Лиманов, молодым краснощеким стажером, красневшим от каждого своего вопроса, – вазомоторная штука – игра сосудов, вроде как у Гродзенского[332], красневшего до корней волос, а то и до пяток.
– Значит, вы можете написать, что в 29-м году разделяли эти взгляды, а теперь не разделяете?
– Да, так.
– И можете подписать?
– Конечно.
Вазомоторный следователь выходил куда-то, показывал кому-то что-то, а к вечеру меня переводят на Лубянку, 14, в Московскую комендатуру, где я уже бывал восемь лет назад и знал все порядки и перспективы Лубянки, 14 – это «собачник», сборный приемник, оттуда ход или на волю, и так бывало, или на Лубянку, 2 – это значит, что ты государственный преступник, опытный враг высшего ранга, близко стоящий к высшей мере, либо в Бутырскую следственную тюрьму, где ты, признанный врагом народа, подлежишь все-таки изоляции в минусе или плюсе[333].
Поэтому Бутырки – это жизнь, но не свобода. На волю из Бутырок не выходят. И не из-за престижа государства («ГПУ не арестовывает зря»), а просто из-за бюрократического вращения этого смертного колеса, которому не хотят, не умеют, не могут, не имеют права придать другой темп вращения, изменить его ход. Бутырки – государственное колесо.
Следователь Ботвин, который вел мое дело и довел до благополучного конца – не до трибунала, конечно, но трибуналом он мне грозил не однажды, а до самого мелкого шрифта многомиллионной литерки – КРТД[334]. Впрочем, трибунал был в самой букве Т. В самом слове «трибунал» была эта смертная буква, но вряд ли следователь Ботвин мог определить истинный удельный вес, который занимала в советском алфавите эта тайная темная буква, достойная всяких магических кругов, достойная теургического толкования. Следователь Ботвин был ленивым человеком моих лет и дело мое готовил не спеша. В моем присутствии прерывал допрос и к моему же делу подшивал какие-то бумажки.
Жилищный кризис, недостаток кабинетов для работы обострял все действия ЧК. Ботвин получал кабинет для работы со мной на какой-то определенный срок, а потом его выгоняли оттуда, как «последнюю падлу».
– Вылетишь отсюда, как последняя падла, если хоть час пробудешь, – услышал я в коридоре голос какой-то высшей персоны.
Ботвин был чином невелик, и поэтому, неизбежно циник и лентяй, он экономил время тем, что работал в моем присутствии. Все справки, поступавшие по моему делу, были навалены около его же стола. Ноги наши соприкасались во время допроса, так тесны были тогдашние кабинеты еще времен Дзержинского. Прочесть [можно] своими глазами любую строку из того, что перед тобой раскладывают не спеша и не желая спешить. Я тогда с удовольствием просмотрел, перечел через стол свое собственное дело 1929 года. Арест, допросы, папку с показаниями свидетелей в начале и конце следствия и, наконец, последний листок в моем тогдашнем деле – отказ расписаться в получении приговора: трех лет лагерей и пяти лет ссылки. [Метка, сделанная] равнодушной рукой дежурного коменданта. А кто был тогда дежурным комендантом по МОКу, по мужскому одиночному корпусу? Комендантом тюрьмы был Адамсон, но дежурил кто? Нет, это было не в МОКе, а в этапном корпусе, где я объявил голодовку. Какая причина? – не желаю сидеть с контрреволюцией, требую отправки к оппозиционерам.
– Вы у нас не как следственный, вы у нас как приговоренный, – равнодушно сказал мне дежурный комендант, – и действительно [показал] выписку-основание, на этой бумажке и была драгоценная метка чьим-то почерком, моя метка: «Расписаться отказался».
Ботвин тоже перечитывал и даже не спеша перечитывал дело, перечел и другую грозную метку: «Дело сдать в архив». Эта формула значила вечное хранение.
Я все это и так знал. А Ботвина интересовало что-то другое. Просто его интересовало, как бы половчей оформить это дело, в котором открываются безграничные по тому времени возможности. Ботвин приходил всегда с какого-то доклада, держа в руках целую стопу документов. Наряду с цинизмом и ленью у него обнаружилось и надлежащее служебное рвение, желание не проворонить чего-то, не оступиться на славном пути. Выжать из техники максимум того, что она может дать.
– Он руки к партии протягивает, – воскликнул Ботвин…
– Кто?
– Вы.
Кто-то из высших ставил на документе точки, тире…
Вдруг он изменил и план, и ход допроса. После получения моего старого дела были передопрошены все свидетели по моему делу – уже с замахом не на ссылку, а на трибунал. Свидетелей по делу у меня было очень мало, тот минимум, который сегодня лучше максимума. Все сослуживцы – Гусятинский, Шумский – полностью передопрошены.
Гусятинский приволок массу новых фактов – ездил в Киев, где похвалил Ефимова – директора Киевского индустриального института, а обругал честных ленинцев. Это все ему казалось подозрительным, и он сообщает официально, кто меня в редакцию рекомендовал.
Ничем не изменились показания Шумского – против первого его допроса. Шумский оказался вовсе не трусом.
Наиболее серьезно были изменены показания моей жены, но суть их я знаю лишь в пересказе Ботвина: «Вот и жена на вас показывает, что вы были активным оппозиционером, только скрывались, замаскировались, как же, вот». Но показаний таких не нашлось.
Я угодил под литерку.
Через 14 лет, еще до реабилитации, я спросил [жену][335].
– Что тебе [писали] в твоих собственных показаниях? Что ты могла сказать лишнего в таком году, как 37-й год?
– Мои показания вот какие: я, конечно, не могу сказать, чем ты занимался в мое отсутствие, но в моем присутствии ты никакой троцкистской деятельностью не занимался.
– Вот и отлично.
– Будешь раз в месяц встречаться с Пастернаком, сюда будешь приезжать, ну, скажем, раз в неделю.
– Пастернаку, – сказал я, – больше нужен я, чем он мне. Пастернак дал мне, что мог, в своих ранних стихах, стихах «Сестры моей жизни». У Пастернака тоже нет никакого долга передо мной.
– Дай мне слово, что оставишь Леночку в покое, не будешь разрушать ее идеалы. Она воспитана мною лично, подчеркиваю это слово, в казенных традициях, и никакого другого пути я для нее не хочу. Мое ожидание тебя в течение 14 лет дает мне право на эту просьбу.
– Еще бы – такое обязательство я дам и выполню его. Что еще?
– Но не это главное, самое главное – тебе надо забыть все.
– Что все?
… Ну, вернуться к нормальной жизни….
331
Второй раз Шаламов был арестован в ночь с 11 на 12 янв. 1937. Первоначально дело вел мл. лейтенант ГБ Туртанов, затем оперуполномоченный ГБ Ботвин. (См. следственное дело.)
332
Гродзенский Яков Давидович (1906–1971) – друг Шаламова со студенческих лет. Репрессирован в 1935, отбывал заключение на Воркуте.
333
Декретом СНК от 23 марта 1923 судьям предписывалось указывать подлежит заключенный «более или менее строгой изоляции».
334
Хотя следствие по делу Шаламова велось по 58-й статье, он был осужден Особым совещанием при НКВД СССР на 5 лет заключения в исправительно-трудовых лагерях по литеру КРТД (контрреволюционная троцкистская деятельность). Протокол ОСО при НКВД СССР от 2 июня 1937 г.
335
Гудзь Галина Игнатьевна (1910–1986) – первая жена В. Шаламова.
Янушевская Елена Варламовна (1935–1990) – дочь В. Шаламова.