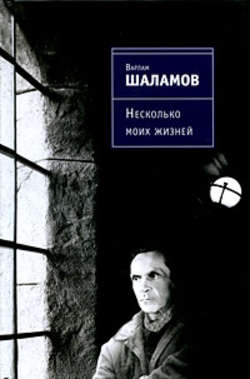Читать книгу Несколько моих жизней: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела - Варлам Шаламов - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Воспоминания
Двадцатые годы
ОглавлениеПРИМЕЧАНИЯ
Впервые в сокращении – «Юность», 1987, № 11, 12.
Публиковались за границей по неправленому маш. экземпляру (А-Я. Париж, 1985).
Полностью публикуется впервые.
Подлинник рукописи хранится в Российском государственном архиве литературы и искусства, ф. 2596, оп. 1, ед. хр. 6–9.
Литературная критика двадцатых годов еще не вышла из приготовительного класса и писала с орфографическими ошибками. Так, молодой Ермилов[21] называл Киплинга американским писателем, а Войтоловский[22] в учебнике по истории русской литературы, перечисляя героев «Евгения Онегина», назвал Гремина – персонажа оперы, а не поэмы. Совсем недавно литературовед Машинский[23] на обсуждении первого тома «Истории советской литературы» уверял, что «Рычи, Китай» Третьякова[24] – пьеса, а не поэма.
Конечно, были критики и пограмотнее – Фриче[25], Коган[26], но они не пользовались уважением ни у рапповских вождей[27], ни у лихих лефовцев[28].
Чтобы разнеслась
бездарнейшая погань,
Раздувая
темь
пиджачных парусов,
Чтобы
врассыпную
разбежался Коган,
Встреченных
увеча
пиками усов…
<В. Маяковский. «Сергею Есенину»>
Или:
Следите,
как у Лежнева[29],
на что уж
робок,
Тускнеет
злее прежнего
Зажатый обух…
<Н. Асеев. «Литературный фельетон»>
У лефовцев это считалось полемикой лучшего тона. Рапповцы же не «обыгрывали» внешности противника (любимый лефовский «прием»), не каламбурили, называя Ольшевца[30] «пошлевцем», а «сопролетарских» конструктивистов[31] – «сопля татарская». Рапповцы привешивали литературным противникам политические ярлыки по типу «чем вы занимались до семнадцатого года».
Леф опирался на «формалистов». Шкловский[32] – крупная фигура Лефа, был тем человеком, который выдумывал порох, и для формалистов был признанным вождем этого течения. Ленинградцы Тынянов[33], Томашевский[34], Эйхенбаум[35] – все это были эрудиты, величины солидные, недавние участники тоненьких сборничков ОПОЯЗа[36]. Пока в Ленинграде формалисты корпели над собиранием литературных фактов, Москва создавала эти литературные факты.
Двадцатые годы – это время литературных сражений, поэтических битв на семи московских холмах: в Политехническом музее, в Коммунистической аудитории 1-го МГУ, в Клубе Университета, в Колонном зале Дома Союзов. Интерес к выступлению поэтов, писателей был неизменно велик. Даже такие клубы, как Госбанковский на Неглинном, собирали на литературные вечера полные залы.
Имажинисты[37], комфуты[38], ничевоки, крестьянские поэты; «Кузница»[39], ЛЕФ, «Перевал»[40], РАПП, конструктивисты, оригиналисты-фразари и прочие, им же имя легион.
Литературные битвы развивались по канонам шекспировских хроник:
Сцена 5. Входят, сражаясь, Маяковский и Полонский[41]. Шум боя. Уходят.
Сцена 6. Входят Воронский[42] и Авербах[43]. Воронский (поднимая меч): – Извините, я. – Уходят, сражаясь.
Сцена 7. Темный лес. Входит, озираясь, Асеев[44]. Навстречу ему Лежнев и т. д.
Битвы-диспуты устраивались зимою, по крайней мере раз в месяц, а то и чаще.
В Колонном зале, где часто устраивались литературные вечера, никогда не бывало диспутов.
Выступления поэтов, писателей, критиков были двух родов: либо литературные диспуты-поединки, где две группы сражались между собой большим числом ораторов, либо нечто вроде концертов, где читали стихи и прозу представители многих литературных направлений.
Вечера первого рода кончались обычно чтением стихов. Но не всегда. Помнится на диспуте «ЛЕФ или блеф»[45] для чтения стихов не хватило времени – так много было выступавших.
Для участия в диспутах приглашались иногда и «посторонние» видные журналисты – Левидов[46], Сосновский[47], Рыклин[48].
Иногда устраивались диспуты на какую-нибудь острую общественную тему:
«Богема».
«Есенинщина».
«Есть ли Бог».
«Нужен ли институт защитников».
Писатели, поэты и журналисты выступали и здесь, но уже стихов, конечно, не читали.
Москва двадцатых годов напоминала огромный университет культуры, да она и была таким университетом.
Диспут «Богема» шел в Политехническом музее. Доклад, большой и добротный, делал Михаил Александрович Рейснер[49], профессор истории права 1-го МГУ, отец Ларисы Михайловны[50]. Сама Лариса Михайловна в то время уже умерла.
Докладчик рассказывал о французской богеме, о художниках Монмартра, о Рембо[51] и Вердене[52], о протесте против капиталистического строя. У нас нет социальной почвы для богемы – таков был вывод Рейснера. «Есенинщина» – последняя вспышка затухающего костра.
Несколько ораторов развивали и поддерживали докладчика. Зал скучал. Сразу стало видно, что народу очень много, что в зале душно, потно, жарко, хочется на улицу.
Но вот на кафедру вышел некий Шипулин – молодой человек студенческого вида. Побледнев от злости и волнения, он жаловался залу на редакции журналов, на преследования, на бюрократизм. Он, Шипулин, написал гениальную поэму и назвал ее «Физиократ». Поэму нигде не печатают. Поэма гениальна. В Свердловске отвечают так же, как в Москве. Он, Шипулин, купил на последние деньги билет на диспут. Пришел на это высокое собрание, чтобы заставить себя выслушать. Лучше всего, если он прочитает поэму «Физиократ» здесь же вслух.
Толстый сверток был извлечен из кармана. Чтение «Физиократа» длилось около получаса. Это был бред, графоманство самой чистой воды.
Но главное было сделано: Шипулин со своим «Физиократом» зажег огонь диспута. Было что громить. Энергия диспутантов нашла выход и приложение.
– Уважаемый докладчик говорит, что у нас нет богемы, – выкрикивал Рыклин. – Вот она! Гражданин Шипулин сочиняет поэму «Физиократ». Ходит по Москве, всем говорит, что – гений.
– Ну, жене можно сказать, – откликается Михаил Левидов из президиума.
Рыклин сгибается в сторону Левидова:
– Товарищ Левидов, вы оскорбляете достоинство советской женщины.
Одобрительный гул, аплодисменты.
Рыклин бы тогда молодым, задорным. Левидов – известный журналист двадцатых годов, считавшийся полезным участником всяких литературных и общественных споров того времени, «испытанный остряк», сам себя называвший «комфутом», то есть коммунистическим футуристом (!).
Двадцатые годы были временем ораторов. Едва ли не самым любимым оратором был Анатолий Васильевич Луначарский[53]. Раз тридцать я слышал его выступления – по самым разнообразным поводам и вопросам, – всегда блистательные, законченные, всегда ораторское совершенство. Часто Луначарский уходил от темы в сторону, рассказывая попутно массу интересного, полезного, важного. Казалось, что накопленных знаний так много, что они стремятся вырваться против воли оратора. Да так оно и было.
Выступления его, доклады о поездках – в Женеву, например, я и сейчас помню – рассказ о речи Бриана[54], когда Германию принимали в Лигу Наций. Бриан заговорил: «Молчите, пушки, молчите, пулеметы. Вы не имеете здесь слова. Здесь говорит мир». И все заплакали, прожженные дипломаты заплакали, и я сам почувствовал, как слеза пробежала по моей щеке.
Его доклады к Октябрьским годовщинам были каждый раз оживлены новыми подробностями.
Часто это были импровизации. В 1928 году он приехал в Плехановский институт, чтобы прочесть доклад о международном положении. Его попросили, пока он снимал шубу, сказать кое-что о десятилетии рабфаков. Луначарский сказал на эту тему двухчасовую речь. Да какую речь!
После каждой его речи мы чувствовали себя обогащенными. Радость отдачи знания была в нем. Если Ломоносов был «первым русским университетом», то Луначарский был первым советским университетом.
Мне приходилось говорить с ним и по деловым вопросам и по каким-то пустякам – в те времена попасть к наркомам было просто. Любая ткачиха Трехгорки могла выйти на трибуну и сказать секретарю ячейки: «Что-то ты плохо объясняешь про червонец. Звони-ка в правительство, пусть нарком приезжает». И нарком приезжал и рассказывал: вот так-то и так-то. И ткачиха говорила:
– То-то. Теперь я все поняла.
А когда дверь кабинета Луначарского была закрыта, в Наркомпросе шутили: «Нарком стихи пишет».
Нам нравилось в десятый раз расспрашивать его о Каприйской школе[55], о Богданове[56], который был еще жив, преподавал в Университете. Богданов умер в 1928 году. Он был универсально одаренным человеком. Философ махистского толка, он написал два утопических романа: «Инженер Мэнни», «Красная звезда». «Пролеткульт»[57] связан с его именем. В Университете он читал лекции. Написал книжку, учебник «Краткий курс экономической науки».
Жизнь не пошла по тому пути, на который ее звал и вел Богданов. Он постарался занять себя наукой, создал первый Институт переливания крови, много в нем работал, выступал с теорией, что два литра крови человек может дать вполне безопасно. Всего крови в организме человека пять литров. Три находятся в беспрерывной циркуляции, а два – в так называемом «депо». Вот на этом основании и построил Богданов свою теорию. Ему говорили, что человек умрет, если у него отнять два литра крови, Богданов доказывал свое. Он был директором Института переливания крови. Он провел опыт на самом себе – и умер.
Никто не знает – было ли это самоубийством.
Богданов с Луначарским были в дружбе и в родстве. Сестра Богданова – первая жена Луначарского. Второй женой была актриса Малого театра Н. А. Розенель[58].
Маяковский был любимцем Луначарского. В выступлениях, в письменных и устных, Луначарский всячески подчеркивал эту свою симпатию. И не только в выступлениях, а решался «для пользы дела» и на более серьезные вещи. Если бы была известна в свое время записка Ленина к Луначарскому[59] о Маяковском, обнародованная только в 1960 году, – литературная судьба наследства Маяковского сложилась бы, бесспорно, иначе. Но Луначарский утаил ленинский документ. На это нужна смелость.
Приятель мой так сказал про Луначарского:
– Немножко краснобай, но как много знает!
Почти не уступал Луначарскому, а кое в чем и превосходил его митрополит Александр Введенский[60], красочная фигура двадцатых годов. Высокий, черноволосый, коротко подстриженный, с черной маленькой бородкой и огромным носом, резким профилем, в черной рясе с золотым крестом, Введенский производил сильное впечатление. Шрам на голове дополнял картину. Введенский был вождем т. н. «новой церкви», и какая-то старуха при выходе Введенского из Храма Христа ударила его камнем, и Введенский несколько месяцев лежал в больнице. На память Введенский цитировал на разных языках целые страницы. Блестящие качества обоих диспутантов привлекали на сражение Луначарский – Введенский большое количество людей.
На диспуте «Бог ли Христос» в бывшей опере Зимина (филиал Большого театра) на Б. Дмитровке Введенский в своем заключительном слове (порядок диспута был таков: доклад Луначарского, содоклад Введенского, прения и заключительные слова: сначала Введенского, потом Луначарского) сказал:
– Не принимайте так горячо к сердцу наши споры. Мы с Анатолием Васильевичем большие друзья. Мы – враги только на трибуне. Просто мы не сходимся в решении некоторых вопросов. Например, Анатолий Васильевич считает, что человек произошел от обезьяны. Я думаю иначе. Ну что ж – каждому его родственники лучше известны.
Аплодисментам, казалось, не будет конца. Все ждали заключительного слова Луначарского, как он ответит на столь удачную остроту. Но Луначарский оказался на высоте – он с блеском и одушевлением говорил: да, человек произошел от обезьяны, но, поднимаясь со ступеньки на ступеньку, он далеко опередил животный мир и стал тем, что он есть. И в этом наша гордость, наша слава!
Словом, Анатолий Васильевич не отмолчался, а развернул аргументы еще ярче, еще убедительней.
Наше всегдашнее уважение вызывала его манера произносить «по-западному» целый ряд слов: «революционный», а не «революцыонный», как произносим мы, «социализм», а не «соцыализм», «интернационал», а не «интернацыонал» и так далее.
Нам нравилось, что носовой платок наркома всегда белоснежен, надушен, что костюм его безупречен. В двадцатые годы все носили шинели, кожаные куртки, кители. Моя соседка по аудитории ходила в мужской гимнастерке и на ремне носила браунинг. В Луначарском, в его внешнем виде была какая-то правда будущего нашей страны. Это был не протест против курток, а указание, что время курток проходит, что существует и заграница, целый мир, где куртка – костюм не вполне подходящий.
Луначарский редактировал первый тонкий советский журнал «Красная нива»[61]. Там печаталась сначала уэллсовская «Пища богов»[62], а потом – в стиле тех лет – коллективный роман тридцати писателей. Каждый из тридцати писал особую главу. Новшество было встречено с большим интересом, и писатели в этой игре принимали живое участие, но толку, разумеется, не вышло никакого. Роман этот был даже не закончен, оставлен.
В этом журнале была напечатана фотография «Красин в Париже». Красин[63] был тогда послом. Он выходил из какого-то дворца с колоннами. На голове его был цилиндр, в руках – белые перчатки. Мы были потрясены, едва успокоились.
Луначарский, правда, цилиндра в Москве не носил, но костюм его был всегда отглажен, рубашка свежа, ботинки старого покроя – с «резиночками».
Он любил говорить, а мы любили его слушать.
На партийной чистке зал был переполнен в день, когда проходил чистку Луначарский. Каприйская школа, группа «Вперед», богостроительство – все это проходило перед нами в живых образных картинах, нарисованных умно и живо.
Часа три рассказывал Луначарский о себе, и все слушали затаив дыхание – так все это было интересно, поучительно.
Председатель уже готовился вымолвить «считать проверенным», как вдруг откуда-то из задних рядов, от печки, раздался голос:
– А скажите, Анатолий Васильевич, как это вы поезд остановили?
Луначарский махнул рукой:
– Ах, этот поезд, поезд… Никакого поезда я не останавливал. Ведь тысячу раз я об этом рассказывал. Вот как было дело. Я с женой уезжал в Ленинград. Я поехал на вокзал раньше и приехал вовремя. А жена задержалась. Знаете – женские сборы. Я хожу вдоль вагона, жду, посматриваю в стороны. Подходит начальник вокзала:
– Почему вы не садитесь в вагон, товарищ Луначарский? Опаздывает кто-нибудь?
– Да, видите, жена задержалась.
– Да вы не беспокойтесь. Не волнуйтесь, все будет в порядке.
Действительно, прошло две-три минуты, пришла моя жена, мы сели в вагон, и поезд двинулся.
Вот как было дело. А вы – «Нарком поезд остановил».
Емельян Ярославский[64], в кожаной куртке, в кепке, стоял перед занавесом театра Революции. Он выступал с воспоминаниями об Октябре: «Были и в наших рядах товарищи, которые ахали и охали, когда большевики стреляли по Кремлю. Пусть нынешний нарком просвещения вспомнит это время».
Луначарский мог ходатайствовать о людях искусства, о памятниках искусства, мог писать пьесы и говорить «мой театр». «Освобожденный Дон Кихот», «Бархат и лохмотья», «Канцлер и Слесарь» – все это род лирико-философских драм… Мог ездить во главе дипломатической миссии на международные конференции, но политики он не делал и не был ни вождем, ни крупным теоретиком. Его эмоциональная натура, огромный культурный багаж, разносторонняя образованность, великий талант популяризатора, просветителя, история всей его богатой жизни – все это привлекало к нему симпатии молодежи.
У молодежи к нему было чуть-чуть ироническое отношение, совмещенное с глубокой нежностью и уважением. Анатолий Васильевич встречался с молодежью с восторгом. С его литературными вкусами считались. Но, конечно, не Луначарский делал большую политику.
Двадцатые годы нельзя представить себе без «Синей блузы»[65]. Искусства советского, нового искусства без «Синей блузы» представить нельзя. «Синяя блуза» была гораздо большим, чем эстрадная форма, малая форма. Она была своеобразной философией эпохи. Именно поэтому она привлекла к себе самых лучших писателей, поэтов, самых интересных молодых режиссеров того времени.
Маяковский, Асеев, Третьяков, Арго[66], позднее Кирсанов[67] охотно писали для «Синей блузы».
Сергей Юткевич[68] ставил в коллективе «СБ» оратории, скетчи.
Борис Тенин[69], нынешний известный киноактер, начинал в «Синей блузе», Клавдия Коренева[70], премьерша Детского театра, также впервые сплясала «Частушки метрополитена» в «Синей блузе».
Константин Листов[71] начинал как композитор «Синей блузы». Ему принадлежат и знаменитые марши – «Антрэ»:
Мы синеблузники,
Мы профсоюзники,
Мы не баяны-соловьи,
Мы только гайки,
Великой спайки
Одной трудящейся семьи.
«Синяя блуза» – живая газета. Да, «Синяя блуза» была живой газетой. До наших дней дожили агитбригады, культбригады – род художественной самодеятельности, начало которой было положено «Синей блузой».
Пятнадцать-двадцать человек, одетых в синие блузы, разыгрывают перед зрителями сценки, скетчи, оратории.
Выходили они под марш, превращая любую площадку в сцену. «Синяя блуза» служила современности: по-газетному – била растратчиков, хапуг и в ораториях – по международной политике, вступая в диспут с Чемберленом.
За серьезным материалом шел развлекательный – фельетон, короткий скетч.
Грима у синеблузников не было, занавеса – не было.
Впоследствии введены были «аппликации», накладки, помогающие зрителю разобраться в героях очередной сценки.
Все в темпе, под музыку.
Пока академические театры раскачивались и приглядывались к революции, «Синяя блуза» казалась революцией на сцене, казалась каким-то новым явлением быта нашего, новой дорогой искусства.
«Эстрадные группы» или, как их называли, «коллективы» «Синей блузы», росли повсеместно. К пятилетней годовщине «Синей блузы» было в СССР 400 коллективов. В «Синей блузе» не было актеров-профессионалов – по первоначальному замыслу. Новый товарищ надевал синюю блузу, прикалывал эмалированный значок и выходил на сцену клуба, на любые подмостки.
В качестве хранителей истинной веры, синеблузной закваски, образца и примера сохранялись, допускались в центре коллективы профессионалов – в большинстве из учеников театральных училищ, из бывших актеров.
В Москве были коллективы:
Образцовый,
Ударный,
Основной —
восемь, кажется, групп.
«Синяя блуза» имела свой стационар – бывшее кино «Ша-Нуар» – теперь кинотеатр «Центральный» на Пушкинской площади[72].
В юбилейные даты помещение «Ша-Нуара» для «Синей блузы» было тесно.
Пятилетие, например, было отпраздновано в Колонном зале Дома Союза при невиданном стечении народа.
Плакатность, апелляция к разуму зрителя больше, чем к чувству, острый отклик на «злобу дня» составили ту особенность «Синей блузы», которая оказалась вечным ее вкладом в искусство, в мировое искусство. Ибо театр Бертольда Брехта[73], знакомый москвичам, – рожден от «Синей блузы» и вдохновлен «Синей блузой». Сам Брехт это подчеркивал неоднократно.
Успех нового искусства был велик. «Синяя блуза» была первым советским театром, выехавшим за границу. Триумфальная поездка по Германии, по Скандинавии. Приглашение в Америку, аншлаги всюду.
Каждый день рождал новые находки. Первые синеблузники относились к делу бережно, благоговейно. Казалось, что, надев «синюю блузу», человек изменился и способен только на хорошее.
«Синяя блуза» издавала репертуарные сборники, альманахи, которые быстро превратились в журнал «Синяя блуза». Он существовал четыре года. В первых синеблузных выпусках скетчи, оратории, фельетоны не подписывались вовсе – работа сине-блузная считалась коллективной, и Маяковский соседствовал с Ивановым или Сидоровым, и льва можно было узнать только по когтям.
Но вскоре этот порядок, несколько напоминавший пуританские нравы основателей Художественного театра, был изменен. Материал стал печататься с подписью автора, и только завзятые энтузиасты-синеблузники подписывали свои вещи инициалами.
Новизна синеблузной философии была разносторонняя. Один из ее вождей говорил:
– «Синяя блуза» отрицает плагиат. Мы можем взять для пользы все лучшее, что создала литература, поэзия, скомпоновать, монтажировать – и дать новый текст для исполнителя. Актеров в «Синей блузе» не было – были исполнители.
Редактором всех синеблузных журналов, основателем, идеологом и вождем «Синей блузы» был Борис Семенович Южанин – молодой журналист, только что пришедший из армии, с Гражданской войны.
Его все знали, все любили – за доверчивость, за приветливость, скромность, за наивность и – за принципиальность, за фанатизм.
Выдержать пришлось много боев. Искусство ли «Синяя блуза»? Не занимает ли она больше места в жизни, чем ей положено? И что «Синяя блуза» по сравнению с академическими театрами, которые уже возвращались к активной жизни? Художественный уже поставил «Бронепоезд»[74], а Малый – «Любовь Яровую»[75]. Зритель отхлынул от «Синей блузы», а закрепить движение и его находки на большой высоте Южанин не сумел. Это удалось только Бертольду Брехту.
В ответственный момент, когда решалась судьба «Синей блузы» и на горизонте вырисовывались дальнейшие ее рубежи, произошла катастрофа.
Южанин был арестован за попытку перейти границу, приговорен к трехлетнему заключению в лагерь и отравлен на Северный Урал, на Вишеру.
Разбитые очки, чуть зажившие мозоли на ладонях, грязное загорелое тело, рваные штаны и «сменка», которые дали Борису Южанину блатные, раздев его дочиста на «этапе», – и широко раскрытые, близорукие, крупные южанинские глаза.
– Вы знаете, я ничего не помню, что со мной было. Психоз какой-то. Почему я очутился в Армении – я не знаю.
В тогдашнем лагере манией начальства – знаменитого Берзина[76] – было использовать каждого заключенного по специальности. Это было романтическое начало известной «перековки». В соответствии с традициями Берзина Южанин был назначен организатором лагерной «Синей блузы» и редактором местного журнала «Новая Вишера». Писал оратории, скетчи.
Через год Южанин вернулся в Москву, жил в Мытищах, в тридцатые годы работал на радио.
Синеблузное движение медленно сошло на нет: живые газеты, агитбригады, культбригады, художественная самодеятельность…
«Синяя блуза» была искусством нашего поколения. Ее марши напевали по всей стране.
Сейчас в музее, в Доме художественной самодеятельности, под стеклом хранится синяя блуза с эмалированным значком «Синеблузника».
В музей приходит и Южанин. Он постарел, поседел. Он был раздавлен лагерем. Никогда не оправился после этой катастрофы. Еще бы – ведь потом был тридцать седьмой год, была война…
Спрос на художественную литературу рос. Создано было новое акционерное общество, огромное издательство «Земля и фабрика»[77]. С маркой «ЗИФ» выходили книги русские и переводные. Альманахи «Недра». Журнал «30 дней», переданный «ЗИФу» «Гудком»[78], вскоре занял свое особое место среди других журналов, энергично привлекая талантливую молодежь. Именно в «30 днях» начали печататься Ильф и Петров. После большого перерыва начал выступать там с очерками Михаил Булгаков. Лет пять после «Роковых яиц» он жил рассказиками для «Медицинского работника» – профсоюзного «тонкого» журнала. Булгаков, врач по образованию, почти для каждого номера ежемесячника давал очерк или рассказ вроде «Случаев из практики».
Во главе издательства «Земля и фабрика» был поставлен человек очень большого организационного опыта, крупный русский поэт-акмеист Владимир Нарбут[79]. Нарбут был редактором «30 дней», «Всемирного следопыта». Заведующим редакцией «30 дней» был работник «Синего журнала» Регинин[80]. Заведующим редакцией тогда назывались нынешние ответственные секретари.
Нарбут имел свое место в литературе. Сборник «Аллилуйя» – не исключишь из русской поэзии XX века.
Кроме «Аллилуйи» Нарбут выпустил после революции несколько сборников стихов – в Харькове, в Одессе.
После Октябрьской революции оказалось, что Нарбут – член партии большевиков. Он воевал всю Гражданскую, потерял на войне левую руку.
Чтобы кровь текла, а не стихи
С Нарбута отрубленной руки…
Это Асеев двадцатых годов («Мы – мещане, стоит ли стараться»…)
Кончилась Гражданская война, и Нарбут возглавил второе по величине издательство в СССР. Размах у него был большой, прибыли издательства – огромны, замыслы – велики.
Внезапно он был исключен из партии и снят с работы.
Постановление ЦКК по его делу было опубликовано в газетах. Оказывается, будучи захвачен белыми в Ростове и находясь в контрразведке, Нарбут позволил себе дать показания, «порочащие его как члена партии». Более того: когда факты стали известны – продолжал все отрицать. Упорство усугубляет вину.
Нарбут был сослан в Нарым, кажется, и года через два вернулся.
В начале тридцатых годов он занимался вместе с Зенкевичем[81] пропагандой «научной поэзии». Тогда я и познакомился с Нарбутом на каком-то собрании.
Писатель Дмитрий Сверчков[82], который весьма активно Нарбуту помогал, был тогда членом Верхсуда. В 1937 году погибли оба: и Нарбут, и Сверчков. Нарбут был на Колыме, там, кажется, и умер.
Но имени его не исключить ни из истории русской поэзии, ни из организационных великанских дел двадцатых годов.
После ухода Нарбута издательство «ЗИФ» быстро захирело, сошло на нет.
Имя Пильняка[83] было самым крупным писательским именем двадцатых годов. «Серапионовы братья»[84] в Ленинграде – Федин, Каверин, Никитин, Зощенко, Всеволод Иванов, Тихонов – приглядывались к революции. Группа распалась после смерти Льва Лунца, и бывшие «серапионы» еще не определили своего отношения к революции. В Москве же Пильняк уже выступил с «Голым годом», с фейерверком рассказов и повестей. Писал Пильняк много. Книги путевых очерков, романы выходили один за другим. Чуть не в каждом номере «Нового мира», например, еще в 1928 году был новый рассказ Пильняка.
Своим учеником Пильняк называл Петра Павленко[85], подписывал вместе с ним несколько первых (для Павленко) рассказов: «Трего тримунтан», «Speranza». Рассказы были очень хороши, по-пильняковски увлекающи, смутны. Но когда Павленко изготовил свой первый самостоятельный роман «Баррикады», с первых страниц были видно, что это – совсем не Пильняк. Роман хвалили, но очень сдержанно. Следующий роман «На востоке» был откровенно плох. Учеба у Пильняка не помогла Павленко.
Пильняк был плохой оратор, редко выступал, много писал, ездил.
Когда Андрей Белый умер, некролог в «Известиях» был подписан Пильняком, Пастернаком и… Санниковым[86].
«Мы считаем себя его учениками». Фраза была понятной в устах Пильняка, Пастернака, но Санников?
Пильняк много ездил. В комнате у него на всю стену был натянут шелковый ковер с изображением дракона. Пильняк привез из Японии. Была написана книга «Камни и корни». Еще раньше – толстый том «О'кэй» о путешествии в Америку.
Недавно где-то я усмотрел статью об Ильфе и Петрове, в которой заявлялось, что путешествие Ильфа и Петрова в Америку было «первым путешествием советских писателей за рубеж».
Но Пильняк и в Европу, и в Америку уже ездил и не один раз.
Маяковский ездил в Америку и Мексику. Эренбург жил за границей постоянно, романы о загранице писал.
Но в путешествии Ильфа и Петрова был особый смысл.
Дело в том, что тогдашняя Америка ошеломляла всех, кто ее видел. Пильняковский «О'кэй» – лучший тому пример. У нас была переведена книга знаменитого немецкого журналиста: «Эгон Эрвин Киш[87] имеет честь представить вам американский рай». Это было вроде «О'кэй», но менее рекламно.
Послали сатириков, чтобы развенчать Америку, но «Одноэтажная Америка» ошеломила и их.
Пильняк, идя от знаменитых ритмов «Петербурга» Белого, искал новых путей для новой прозы. Он успел найти мало – он умер в 1937 году, почти за десять лет до этого как бы выключенный из литературы. Но в двадцатые годы это был самый крупный наш писатель.
«Попутчик», как говорили тогда.
По молодости лет мы часто не знали – кто попутчик, а кто нет. Например, Всеволод Иванов[88] ходил в брюках «гольф», в каких-то узорных шерстяных носках – явный попутчик. Да еще в круглых роговых очках. Читая разносные статьи по поводу «Тайное тайных» и вспоминая брюки «гольф», мы понимали, как опасно быть «серапионом».
О чем он говорил в тот давний вечер в Политехническом?
О трудности писательского пути, о том, что он, Иванов, в юности переписал от руки «Войну и мир» – хотелось понять, ощутить, как пишутся такие строки. Я понимал это. А на другой день я увидел его около Смоленского рынка. По всему Смоленскому бульвару тогда тянулся Смоленский рынок – «толкучка», уступавшая первое место только Сухаревке.
Иванов стоял, внимательно глазея на проезжающего извозчика. Лошадь задрала хвост, и дымящийся навоз падал на дорогу. Взгляд Иванова был так пристален и сосредоточен на этом зрелище, что приятель мой сказал:
– Вставит теперь этот навоз в роман, обязательно вставит.
. . . . . . . . . . . . . .
Никогда, ни на одном литературном диспуте не выступал Андрей Соболь[89]. Попутчик?
Соболь был политкаторжанин, прошедший знаменитую Байкальскую «Колесуху» – концлагерь царского времени.
Талантливый человек, русский интеллигент, по своим знакомствам и связям Соболь много печатался, но искал не славу, а что-то другое. Совесть русской интеллигенции, принимающей ответственность за все, что делается вокруг, – вот кем был Соболь.
НЭП Соболь принимал очень болезненно. Поездка за границу мало помогла, не успокоила. Соболь много работал на Капри. «Рассказ о голубом покое» был одной из вещей, написанных тогда. Был написан, наконец, давно задуманный роман, который Соболь считал главным своим трудом. Соболь, как и Маяковский, не любил черновиков. И вот, когда все было готово, отпечатано, проверено, когда все черновики сожжены, а перепечатанный беловик уложен в аккуратную стопку на письменном столе, – Соболь открыл окно комнаты, где жил и работал.
Порыв сирокко, итальянского ветра, выдул рукопись в окно, и роман исчез бесследно во мгновение ока.
Соболь сошел с ума. После месяца, проведенного в психиатрической лечебнице, Соболь уехал на родину, подавленный, угнетенный. В Москве его встретили весьма сердечно.
«ЗИФ» готовил полное собрание сочинений Соболя. Камерный театр поставил его «Рассказ о голубом покое». Пьесу назвали «Сирокко», она не один сезон шла в Камерном театре.
Но жизнь Соболя уже кончилась. Осенью 1926 года на Тверском бульваре, близ Никитских ворот, Соболь выстрелил себе в живот из револьвера и умер через несколько часов, не приходя в сознание. Пушкинская рана. Было не поздно сделать операцию, извлечь пулю, зашить кишки, но в 1926 году еще не было пенициллина и сульфамидов. Соболь умер.
Если Есенин и Соболь покидали жизнь из-за конфликта со временем, он был у Есенина мельче, у Соболя глубже, то смерть Рейснер была вовсе бессмысленна.
Молодая женщина, надежда литературы, красавица, героиня Гражданской войны, двадцати девяти лет от роду умерла от брюшного тифа. Бред какой-то. Никто не верил. Но Рейснер умерла. Я видел ее несколько раз в редакциях журнала, на улице. На литературных диспутах она не бывала.
Я был на ее похоронах. Гроб стоял в Доме Печати на Никитском бульваре. Двор был весь забит народом – военными, дипломатами, писателями. Вынесли гроб, и последний раз мелькнули каштановые волосы, кольцами уложенные вокруг головы.
За гробом вели под руки Карла Радека[90]. Лицо его было почти зеленое, грязное, и неостанавливающиеся слезы проложили дорожку на щеках с рыжими бакенбардами.
Радек был ее вторым мужем. Первым мужем был Федор Раскольников[91], мичман Раскольников Октябрьских дней, топивший по приказанию Ленина Черноморский флот, командовавший миноносцами на Волге. Рейснер была с ним и на Волге, и в Афганистане, где Раскольников был послом.
Через много лет я заговорил о Рейснер с Пастернаком.
– Да, да, да, – загудел Пастернак, – стою раз на вечере каком-то, слышу чей-то женский голос говорит, да так, что заслушаться можно. Все дело, все в точку. Повернулся – Лариса Рейснер. И тут же был ей представлен. Ее обаяния, я думаю, никто не избег.
Когда умерла Лариса Михайловна, Радек попросил меня написать о ней стихотворение. И я его написал.
Иди же в глубь предания, героиня…
– Оно не так начинается.
– Я уже не помню, как оно начинается. Но суть в этом четверостишии. Теперь, когда я написал «Доктора Живаго», имя главной героине я дал в память Ларисы Михайловны.
Разговор этот был в пятьдесят третьем году, в Москве.
Каждая новая книжка Ларисы Рейснер встречалась с жадным интересом. Еще бы. Это были записи не просто очевидца, а бойца.
Чуть-чуть цветистый слог Рейснер казался нам тогда большим бесспорным достоинством. Мы были молоды и еще не научились ценить простоту. Некоторые строки из «Азиатских повестей» я помню наизусть и сейчас, хотя никогда их не перечитывал, не учил. Последняя вещь Ларисы Михайловны – «Декабристы» – блестящие очерки о людях Сенатской площади. Конечно, очерки эти – поэтическая по преимуществу картина. Вряд ли исторически справедливо изображен Трубецкой[92], ведь он был на каторге в Нерчинске со всеми своими товарищами, и никто никогда ни на каторге, ни в ссылке не сделал ему никакого упрека. Упрек сделали потомки, а товарищи знали, очевидно, то, чего мы не знаем. Екатерина Трубецкая, его жена, – великий символ русской женщины.
Каховский[93] у Рейснер тоже изображен не очень надежно: «сотня душ», которыми он владел, – не такое маленькое состояние, чтобы причислить Каховского чуть не к пролетариям. Отношения Каховского и Рылеева[94] и весь этот «индивидуально-классовый анализ» десятка декабристов выглядит весьма наивно. «Декабристы» – поэма, а не историческая работа.
Смотрите, как из плоского
статьи кастета
к громам душа Полонского
И к молниям воздета.
<Н. Асеев. «Литературный фелъетон»>
Вячеслав Полонский вовсе не был каким-то мальчиком для битья, мишенью для острот Маяковского. Скорее наоборот. Остроумный человек, талантливый оратор, Полонский расправлялся с Маяковским легко. Это ему принадлежит уничтожающий вопрос «Леф или Блеф», приводивший Маяковского в состояние крайнего раздражения. Это он широко использовал крокодильскую карикатуру на Маяковского из его обращения к Пушкину:
После смерти
нам
стоять почти что рядом —
Вы на «П», а я на «М»…
<«Юбилейное»>
Крокодильская карикатура показывала, что между «М» и «П» есть две буквы, составляющие многозначительное «НО».
Полонский был автором большой монографии о Бакунине, ряда работ по современной литературе, по искусству вообще.
Диспуты его с Маяковским носили характер игры в «кошки-мышки», где «мышкой» был Маяковский, а «кошкой» Полонский.
Маяковский оборонялся как умел. И злился здорово. Зажигал папиросу от папиросы.
Иногда оборона приводила к успеху. На диспут «Леф или блеф» в клуб I МГУ Маяковский вместе со Шкловским и кем-то еще пришел пораньше, прошелся по сцене, поднял для чего-то табуретку в воздух, опустил. Вышел на авансцену к залу, еще не полному. Еще шли по проходам, усаживались, двигали стульями.
Маяковский крикнул что-то. Зал затих.
– Ну, что же, давайте начинать!
– Давайте, давайте.
– Да как начинать. От Лефа-то явились, а вот от Блефа-то нет…
Хохот, аплодисменты.
Двадцатые годы были временем ораторов. И Маяковский был оратором не из последних. Оратором особого склада, непохожим на других. Это был «разговор с публикой» – так это называлось. Фейерверк острот, далеко не всегда удачных. Говорили, что остроты потоньше заготовлены заранее, а те, что погрубее, похамоватее – сочинены на месте.
Я не вижу в этом большого греха, зная, как много значения придавал Маяковский «звуковой» стороне своих выступлений. Отсюда и пресловутые «лесенки», исправляющие недочеты слога. По собственным словам Маяковского, такую строку, как «шкурой ревности медведь лежит когтист», – только лесенка и спасает.
В том, что заготовку острот Маяковский делал частью своей литературной и общественной деятельности, – тоже нет ничего плохого. Заготовка острот была вполне в духе того эпатажа, которым всю жизнь занимался Маяковский. Но записки не были фальшивыми, то есть заготовленными или подобранными заранее. Обывательский интерес столь ограничен, а глупость столь разнообразна, что возможности острить на каждом вечере у Маяковского были почти не ограничены.
Большое количество стихов Маяковского печаталось в профсоюзных журналах – их была бездна и размещены были они во Дворце труда на Солянке, в бывшем институте благородных девиц, воспетом Ильфом и Петровым в «12 стульях».
В герое «Гаврилиады» легко узнавался Маяковский, автор профсоюзной халтуры и поэмы, «посвященной некой Хине Члек», то есть Лиле Брик.
Читал Маяковский великолепно. Читал обычно только что написанное, только что напечатанное. Но свою «профсоюзную» халтуру не читал никогда.
По улицам Москвы ездят в 1962 году автомобили, на бортах их «цитаты» из Маяковского:
Чтоб наполнить желудок, ум
Все идите в Гум, —
или что-то в этом роде. Не надо бы таких «цитат».
Впервые я услышал Маяковского в Колонном зале Дома Союзов на большом литературном вечере. Читал он американские стихи: «Кемп Нит Гедайге» и «Теодора Нетте».
Звонким тенором читал «Феликса» Безыменский[95], отлично читал, хоть стихи и не были первосортными, Кирсанов читал «Плач быка», Сельвинский[96] – «Цыганский вальс на гитаре», «Мы», «Мотькэ Малхамовеса». Место Маяковского в сердце сегодняшней молодежи занимает Евтушенко. Только успех Евтушенко гораздо больше. Успех менее скандален, привлекает больше сердец. Тема-то у Евтушенки, с которой он пришел в литературу, очень хороша: «Люди лучше, чем о них думают». И всем кажется, что они действительно лучше – вот и Евтушенко это говорит.
К сожалению, «корневые рифмы» портят многие его стихи. Стихи Евтушенко не все удачны, но живая душа поэта есть в них безусловно. Стремление откликнуться на вопросы времени, дать на них ответ, и добрый ответ! – всегда есть в стихах Евтушенко.
Я включил недавно телевизор во время его вечера в клубе I МГУ. Это был тот самый зал, где проходил диспут «Леф или блеф», где Маяковский много раз читал стихи, где Пастернак читал «Второе рождение».
Евтушенко был на месте в этом зале. Только жаль, что его чтение испорчено режиссерской «постановкой» – поэт не должен этого делать. Пастернак читает стихи – как Пастернак, Маяковский – как Маяковский, а Евтушенко – как актер Моргунов[97]. Раньше он читал лучше.
Телевизионная камера двигалась по залу – все молодежь, только молодежь.
Аудиторией Пастернака были писатели, актеры, художники, ученые – о каждом, сидящем в зале, можно было говорить с эстрады.
Аудитория Маяковского делилась на две группы: студенческая молодежь – друзья и немолодая интеллигенция первых рядов – враги.
У Евтушенко же были все друзья и все молодые.
Евтушенко родился в рубашке. В нем видят первого поэта, который говорит смело, – после эпохи двадцатилетия мрачного молчания, подхалимажа и лжи.
Евтушенко – поэт, рожденный идеями XX и XXII съездов партии. Родись бы такой Евтушенко лет на десять раньше – он бы или не пикнул слова, или писал бы «культовые» стихи, или… разделил судьбу Павла Васильева.
Каждый год рождается достаточно талантов, не меньше, чем родилось вчера и чем родится завтра. Вопрос в том, чтобы их вырастить, выходить, не заглушить. Чтобы сапожник из твеновского «Визита капитана Стормфилда в рай» мог всегда стать полководцем.
Толстый журнал «ЛЕФ» перестал выходить в 1925 году. Перегруппировав силы, лефовцы добились выхода своего ежемесячника – на этот раз в виде «тонкого» журнала. «Новый ЛЕФ» начал выходить с января 1927 года. В первом его номере было помещено известное «Письмо писателя Владимира Владимировича Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому». Текст этого стихотворения хорошо известен. Публикация же его чуть не привела к крупному недоразумению.
А. М. Горький написал из Сорренто письмо – в адрес Воронского, редактора «Красной нови», требуя оградить свое имя от оскорблений подобного рода.
В это время шли переговоры о переезде Горького на постоянное жительство на родину. Горький просил Воронского информировать о своем письме правительство. В ответном письме Воронский заверял Горького, что Маяковский будет поставлен на место, что повторений подобного «ёрничества», как выразился Воронский, больше не будет.
. . . . . . . . . . . .
На первой читке поэмы «Хорошо» в Политехническом музее народу было, как всегда, много. Чтение шло, аплодировали дружно и много. Маяковский подходил к краю эстрады, сгибался, брал протянутые ему записки, читал, разглаживал в ладонях, складывал пополам. Ответив, комкал, прятал в карман.
Внезапно с краю шестого ряда встал человек – невысокий, темноволосый, в пенсне.
– Товарищ Маяковский, вы не ответили на мою записку.
– И отвечать не буду.
Зал загудел. Желанный скандал назревал. Казалось, какой может быть скандал после читки большой серьезной поэмы? Что за притча?
– Напрасно. Вам бы следовало ответить на мою записку.
– Вы – шантажист!
– А вы, Маяковский, – но голос человека в пенсне потонул в шуме выкриков: – Объясните, в чем дело.
Маяковский протянул руку, усилил бас.
– Извольте, я объясню. Вот этот человек, – Маяковский протянул указательный палец в сторону человека в пенсне. Тот заложил руки за спину. – Этот человек – его фамилия Альвэк[98]. Он обвиняет меня в том, что я украл рукописи Хлебникова[99], держу их у себя и помаленьку печатаю. А у меня действительно были рукописи Хлебникова, «Ладомир» и кое-что другое. Я все эти рукописи передал в Праге Роману Якобсону[100], в Институт русской литературы. У меня есть расписка Якобсона. Этот человек преследует меня. Он написал книжку, где пытается опорочить меня.
Бледный Альвэк поднимает обе руки кверху, пытаясь что-то сказать. Из рядов возникает неизвестный человек с пышными русыми волосами. Он подбирается к Альвэку что-то кричит. Его оттесняют от Альвэка. Тогда он вынимает из кармана небольшую брошюрку, рвет ее на мелкие куски и, изловчившись, бросает в лицо Альвэку, крича:
– Вот ваша книжка! Вот ваша книжка!
Начинается драка. В дело вмешивается милиция, та самая, про которую было только что читано:
Розовые лица,
Револьвер желт,
Моя милиция
Меня бережет.
<«Хорошо»>
и вытесняет Альвэка из зала.
На следующий день в Ленинской библиотеке я беру эту брошюру. Имя автора Альвэк. Название «Нахлебники Хлебникова». В книге помещено «Открытое письмо В. В. Маяковскому», подписанное художником П. В. Митуричем[101], сестрой Хлебникова[102], Альвэком и еще кем-то из «оригиналистов-фразарей» – членов литературной группы, которую возглавляет Альвэк.
Авторы письма требуют, чтоб Маяковский вернул или обнародовал стихи Хлебникова – те многочисленные рукописи, которые он, Маяковский, захватил после смерти Хлебникова и держит у себя.
Кроме «Открытого» письма есть нечто вроде анализа текстов, дающих автору право обвинять Маяковского и Асеева в плагиате.
У Хлебникова: «Поднявший бивень белых вод» («Уструг Разина»).
У Асеева:
Белые бивни
Бьют
в ют
<«Черный принц»>
У Маяковского – «Разговор с солнцем».
У Хлебникова: «Хватай за ус созвездье Водолея, бей по плечу созвездье Псов» («Уструг Разина»).
«Плагиат» Маяковского явно сомнителен. Да и Асеева. Не такое уж великое дело эти «белые бивни», чтобы заводить целый судебный процесс.
Конечно, Маяковский был нахрапист, откровенно грубоват, со слабыми противниками расправлялся внешне блистательно. Во встречах же с такими диспутантами, как Полонский, терялся, огрызался не всегда удачно и всегда с большим волнением.
Не думаю, что Маяковский заботился о «паблисити», о рекламе. Искреннее волнение было на его лице, в его жестах. «Публика» первых рядов не была его судьей. В первых рядах рассаживались обычно или литературные враги, или «чающие скандала». Маяковский протягивал руки к галерке, к последним рядам.
Взаимная амнистия «друзей», захваливание друг друга было тогда бытом не только лефовцев, но и любой другой литературной группы.
Я искал стихи Маяковского, Асеева, Хлебникова в ранних изданиях, в первых изданиях. С волнением брал в руки зеленый альманах «Взял», рогожную обложку «Пощечины общественному вкусу». Мне хотелось понять, как выглядели эти стихи в тот день, когда журнал, книга вышли из печати.
В Ленинской библиотеке в то время можно было держать за собой выписанные книги сколько угодно. Гора футуристических альманахов все росла – до дня, когда в библиотеке со мной заговорили две девушки. Узнав, что я интересуюсь футуризмом и ЛЕФом! – девушки эти пригласили меня в литературный кружок, которым руководил Осип Максимович Брик[103]. В ближайший четверг я пришел в Гендриков переулок и остановился у двери, на которой были прикреплены одна над другой две одинаковые медные дощечки, верхняя: «Брик», нижняя: «Маяковский».
«Занятия» кружка меня поразили. Все вымученно острили, больше всего насчет конструктивистов. Брик поддакивал каждому. Наконец, шум несколько утих, и Брик, развалясь на диване, неторопливо начал:
– Сегодня мы собирались поговорить о станковой картине. – Он задумался, поблескивая очками. – Впрочем… моя жена недавно приехала из Парижа и привезла замечательную пластинку «Прилет Линдберга на аэродром Бурже после перелета через Атлантический океан». Чудесная пластинка. – Завели патефон. – Слышите? Как море! Это шум толпы. Ато мотор зарокотал. Слышите выкрики? А это голос Линдберга.
Пластинка, безусловно, заслуживала внимания.
В таком роде были и другие занятия «Молодого ЛЕФа».
В тридцать пятом году написал я воспоминания о Маяковском, предложил в «Прожектор»[104]. Потребовалась виза. Визировали тогда материал такого рода или Л. Ю. Брик, или О. М. Брик. В Гендриковом был музей Маяковского. Я нашел новый адрес Брика в Спасопесковском. Записал новый его телефон, позвонил… О. М. меня узнал, поблагодарил за написанное, обещал посмотреть и завизировать. В тот же час я отправился на Арбат, в Спасопесковский. Жил Брик в новом каменном доме. На дверях его новой квартиры снова были две одинаковые медные дощечки. Сердце мое застучало. Я подошел ближе. Да, дощечка Брика была той же самой, а другая была новая, по формату дощечки Маяковского из Гендрикова. Но на ней была вырезана тем же шрифтом другая фамилия – «Примаков»[105].
Лиля Юрьевна и Осип Максимович жили на квартире Примакова. Мне это не понравилось. Почему-то было больно, неприятно. Я больше в этой квартире не бывал.
Но это все было позже, а пока я искал, где живет поэзия. Где настоящее?
Мне кажется, Маяковский был жертвой своих собственных литературных теорий, честно, но узко понятой задачи служения современности, неправильно понятой задачи искусства. Необычайная сердечность поэмы «Про это» подсказывала ему более правильные творческие пути, чем стихотворение «Лучший стих» и сомнительные остроты по поводу «Резинотреста».
Бессмысленная, бесцельная «борьба» с Пушкиным, с Блоком, наивное и упрямое упование на так называемое «мастерство», при ясном понимании роли поэта, его места в обществе, его значения – вот подтекст трагедии 14 апреля. Большая жизнь, разменянная на пустяки.
Мариенгоф[106] в «Романе без вранья» пишет, что Есенин догнал славу на другой день после смерти. Маяковский догнал славу через пять лет после смерти, после известных усилий Сталина. При жизни же слава Маяковского была не столько поэтической, сколько славой шума, скандала: «обругал», «обозвал», «обхамил». На литературных площадках его теснили конструктивисты.
Большая часть литературных споров, в которых участвовали «лефы», уходили на выяснение, кто у кого украл метафору, интонацию, образ. Чей, например, приоритет, в слове «земшар». Кто первый придумал это изящное слово? Безыменский или Маяковский? Кто у кого украл?
Маяковский кончил поэму на смерть Есенина строками: «В этой жизни помереть не трудно. Сделать жизнь значительно трудней». Это написано в 1926 году.
А в 1924 Безыменский написал стихотворение на смерть поэта Николая Кузнецова[107], где были такие строки: «Умереть? Да это, брат, пустое. Жить смоги! А это тяжелей».
Таких предметов спора в двадцатые годы было великое множество.
Крайне неприятной была какая-то звериная ненависть к Блоку, пренебрежительный, издевательский тон по отношению к нему, усвоенный всеми лефовцами.
Изобретательство вымученных острот, пустые разговоры, которыми занимались в лефовском окружении Маяковского, Брика, пугали меня. Поэзия, по моему глубокому внутреннему чутью, там жить не могла.
«Возможно, – думал я много после, вспоминая это время, – что Маяковский и Брик на эти занятия и вечера выносили лишь позу, наигрыш, что наедине с самим собой Маяковский был другим – с болью, с тяжестью на сердце, с душевной тревогой. А балаганил только на людях? Возможно, что это и так. Но такое поведение неправильно – ведь они занимались с молодежью, которой нужно было открыть не секреты рифм, а секреты души.
Именно личное общение с Бриком и его тогдашними учениками, общение с Маяковским на вечерах, докладах – я посещал все его выступления в тогдашней Москве – привели меня к мысли о ненужности искусства вообще, ненужности стихов.
В большом волнении написал я письмо Сергею Михайловичу Третьякову. Третьяков мне ответил, и мы несколько раз встречались на Малой Бронной, где он жил тогда.
Третьякова я знал по статьям, по выступлениям, по пьесам, по журналистике. Роль его в лефовских делах двадцатых годов была велика. Он возглавлял группу, враждебную Маяковскому, и вытеснил, в конце концов, Маяковского из «Нового ЛЕФа», заменив его на посту редактора журнала.
Высокого роста, широкоплечий, с наголо выбритой маленькой головой, с птичьим профилем, тонкогубый, очень организованный, Сергей Михайлович Третьяков был пуристом и фанатиком. Принципиальный очеркист, «фактовик», разносторонне и широко образованный, Третьяков был рыцарем-пропагандистом документа, факта, газетной информации. Его влияние в «ЛЕФе» было очень велико. Все то, за что Маяковский агитировал стихами – современность, газетность, – шло от Третьякова. Именно Третьяков, а не Маяковский, был душою «ЛЕФа». Во всяком случае «Нового ЛЕФа».
Поэма «Про это» была напечатана в «ЛЕФе». В «ЛЕФе» была напечатана и поэма Третьякова «Рычи, Китай», переделанная позднее в пьесу и поставленная Мейерхольдом, имевшая очень большой успех. Известность этой пьесы такова, что литературовед С. Машинский упрекнул редакцию первого тома «Истории советской литературы», что там «пьеса Третьякова называется поэмой». Хотя С. Машинскому журнал «ЛЕФ» полагалось бы читать.
«Рычи, Китай» написана Третьяковым на китайском материале. Третьяков был профессором русской литературы в Китае в самом начале двадцатых годов. А еще немного раньше Третьяков был министром народного просвещения в правительстве Дальневосточной Республики.
У теоретика и вождя литературы факта был большой круг единомышленников, все расширявшийся: Дзига Вертов[108] – в кинематографе, Родченко[109] – в фотографии.
«Математика, – говаривал А. Н. Крылов[110], – это мельница. Она мелет все, что под нее подкладывают». А фотография? Снять можно ручей так, что на снимке он будет выглядеть, как Миссисипи. По фотографии угла дома нельзя понять – что это, пирамида Хеопса или дачный сарай.
Человеческое лицо имеет тысячу выражений. Фотография ловит одно из них. Знаменитый фотограф Бруссар[111], снимавший лет шесть назад Москву, в Третьяковской галерее хотел снять военного с ребенком на руках, остановившегося близ картины. Но военный отошел, и Бруссар вслух пожалел о том, что пропал такой важный сюжет.
– Мы вернем военного. Попросим его еще раз встать.
– Да разве это можно? – сказал Бруссар. – Этого нельзя.
Документальное кино – хороший памятник времени, но разве оно может передать «душу времени».
Живопись точнее фотографии. Разве портреты Серова[112] не ответили на этот вопрос самым исчерпывающим образом?
Родченко был художник, оставивший живопись ради фотоаппарата, ради литературы факта. Тот же путь проделал Л. Ф. Волков-Ланнит[113], также оставивший живопись ради журналистики «лефовского образца».
Журналистика «лефовского образца» предполагала крайнюю профессионализацию литератора, мастера, «умеющего написать» все, что закажут.
Слов нет, мастерство – дело хорошее. Но нет специалистов слова, мастеров слова.
В Америке, говорят, в одном из газетных конкурсов первую и вторую премию получил один и тот же журналист, написавший каждую из статей с противоположных идейных позиций.
Такому ли мастерству надо учиться?
Третьяков учил журналистике, очерковой работе неустанно, живо и интересно. Всякая беседа была занятием, полезным профессионалам.
– Надо сделать вот что, – говорил Третьяков, сидя за письменным столом, аккуратно покрытым толстым стеклом, – надо взять дом. Старый московский дом. Тот, что стоит на углу Мясницкой. И описать все его квартиры: людей, которые там живут, стены, мебель. Снять «фотографию» дома. Мы обязательно сделаем эту работу.
Все было интересно, полезно, но… главного не было и здесь. Здесь был догматизм, узость, еще большая, чем в «ЛЕФе», который разрывался от противоречий. Маяковский хотел писать стихи и был изгнан из «Нового ЛЕФа». Писание стихов казалось Третьякову пустяками.
Сергей Михайлович с восторгом бы включился в дискуссию о «физиках» и «лириках». Сбывались самые его затаенные мечты. Победы науки, популяризация их – особенно большое поле деятельности открылось бы сейчас для Третьякова.
Третьяков одобрял Арсеньева[114], писал о нем много. Горького считал выдающимся мемуаристом. Но опыт «биоинтервью» его книги «Дэн Шихуа» не был удачен. Это была квалифицированная «литзапись» – не больше.
Я учился у Третьякова газетному делу, журналистике. Но решение вопросов «общего» порядка не казалось мне убедительным. Меня беспокоило – как собрались вместе столь разные люди, как Третьяков, Асеев, Шкловский. Мне казалось, я легко подскажу выход.
Третьяков слушал меня чрезвычайно неодобрительно.
– Да-да… Нет, нет… Да, конечно. Вы просто всего не знаете… – И перевел разговор на другое. – Вы ведь работаете в «Радиогазете»?
– Да. В «Рабочем полдне» МГСПС.
– Вот и напишите для «Нового ЛЕФа» статью: «Язык радиорепортера». Я слышал, что на радио надо меньше употреблять шипящих, особым образом строить фразу – глагол выносить вперед. Фразы должны быть короткими. Словом, исследуйте этот вопрос.
– Я хотел бы написать кое-что по общим вопросам…
Третьяков посмотрел на меня недружелюбно. Тонкие губы его скривила усмешка:
– По общим вопросам мы сами пишем.
Больше я не был у Третьякова. Много лет спустя попалась мне в руки передовая «Литературной газеты»: «Расстрелянный японский шпион Сергей Третьяков…»
В 1956 году он был реабилитирован.
Асеев был непременным участником всех лефовских и нелефовских литературных вечеров, участником всех диспутов, споров. Асееву принадлежит знаменитый термин того времени «социальный заказ». Над этим термином много иронизировали, но суть его была: слушать, понимать, выполнять требования времени («Слушать музыку революции», – говорил Блок).
В ритмике «Черного принца» Асеева были скрыты все будущие «находки» «тактовика» Сельвинского.
«Черный принц» читался всюду. Это было ритменное открытие, новость.
НЭП внес немало смущения в души людей.
Асеев написал «Автобиографию Москвы»:
Под оскорбленьями,
под револьверами,
По переулкам
мы
пройдем впотьмах…
«Электриаду» и лучшую свою вещь – поэму «Лирическое отступление»:
Как я стану твоим поэтом,
коммунизма племя,
Если крашено —
рыжим цветом,
А не красным – время?!
Эти строчки твердили на каждом углу Москвы.
Маяковский написал в это время «Про это».
«Синие гусары» написаны в 1926 году – к столетию декабристов. К этому же времени относится великолепное стихотворение «Чернышевский» (1929).
И мы говорили: вот, если запретить писать стихи? Не то, что запретить официально и можно будет как-нибудь писать для себя, втайне от всех, а нельзя никак – просто стихи будут исключены из жизни общества. Что будут делать поэты? Безыменский, например, бесспорно, будет на партийной работе, Жаров[115] и Уткин[116] – на комсомольской, Сельвинский будет работать бухгалтером в «Пушторге». А Асеев? Асеев перестанет жить. Мы думали, что и Асеев считает, что поэзия – судьба, а не ремесло. Маяковский показал это 14 апреля 1930 года – после того, как десять лет страстно уверял в обратном.
Так думали мы про Асеева в начале двадцатых годов. Но это продолжалось недолго.
Нас смущала искусственность его поэзии, холодок «мастерства», который, уничтожая поэта, делал его «специалистом», выполняющим «социальный заказ». Этот асеевский термин в большом ходу был в те годы. Сам Асеев толковал его уже более лично, чем тогдашние критики. Но термин был подхвачен, распространен. Позднее я увидел, что мастерство – далеко не главное в поэзии. Больше того. Мастерство может только оттолкнуть. Я понял, что поэт должен сказать свое, не обращая внимания на форму, пытаясь донести до читателя новое и важное, что поэт в жизни увидел. И это новое и важное не может быть словесной побрякушкой. Чеховские слова насчет однозначности новизны и талантливости – верны. Их потом повторил Пастернак:
Талант – единственная новость,
Которая всегда нова.
<«А. П. Зуевой»>
Уже в «Лирическом отступлении» было много мертвых строк. Самое лучшее – начало:
Читатель – стой!
Здесь часового будка.
Здесь штык, и крик.
И лозунг, и пароль.
А прежде —
здесь синела незабудка,
веселою мальчишеской порой…
и т. д.
<«Новая Буденная». 1930>
Поэма «Буденный» <1923> была очень хороша, но она никого не волновала.
Поэма «Семен Проскаков» – о судьбе расстрелянного Колчаком дальневосточного партизана – была явной неудачей. Принимали ее вежливо-холодно.
Деятельность Асеева в качестве судейского репортера – на процессе атамана Анненкова[117] – вызывала недоумение:
Вот он сидит – «потомок» декабриста…
и т. д.
Напряженная работа над «газетным» стихом, во славу лефовских теорий и вопреки неожиданно вырвавшемуся признанию:
Я лирик
по складу своей души,
По самой
строчечной сути —
<«Свердловская буря». 1925>
удивляла.
Внезапно Асеев получил письмо. Герой поэмы Семен Проскаков оказался живым и присылал «приветы товарищам по редакции». Поэма была уже мертва, а герой – жив. Было тут какое-то противоречие искусства и жизни, неестественность такого рода поэзии.
В конце двадцатых годов и позднее в течение ряда лет Асеев поставлял в газеты т. н. «праздничные стихи» – «К 1 мая», «К 7 ноября». Кирсанов делал то же самое.
Стихотворный «отклик на злобу дня» стал главным жанром Асеева. Поэма «Маяковский начинается» мало что изменила.
Но в начале двадцатых годов это был популярный, любимый Москвой поэт, от которого ждали стихов больше даже, чем от Маяковского. От Маяковского ждали шума, скандала, хорошей остроты, веселого спора-зрелища. Асеев казался нам больше поэтом, чем Маяковский, и, уж конечно, мы не считали поэтом Третьякова. Впрочем, вскоре он и сам себя перестал считать поэтом.
В одном из номеров журнала «Новый ЛЕФ» просил своих друзей присылать в редакцию «новые рифмы», «необыкновенные рифмы».
Маяковский и его друзья ставили дело «заготовки рифм» на широкие рельсы.
Сейчас я вспоминаю эту просьбу с улыбкой, но тогда я откликнулся на нее серьезно, наскоро заготовил несколько десятков рифм, вроде «ангела – Англией», добавил несколько своих стихотворений и отправил, вовсе не ожидая ответа.
Через некоторое время я получил письмо Николая Асеева. Это было первое полученное мною в жизни письмо от известного литератора, да и стихов своих, хоть я писал их с детства, я никому не показывал.
Асеев благодарил за рифмы, написал, что у меня «чуткое на рифмы ухо», что касается стихотворений, то «если это первые мои стихи», то они заслуживают внимания, но главное – это «лица необщее выраженье» и т. д.
Много позже я понял, что никаких «первых стихов» не бывает, что поэт пишет всю жизнь и не писать не может, что так называемые «заготовки» – суета сует и только мешают пробиться истинному поэтическому потоку, что стихи – это не рифмы, а судьба, что цитата из Баратынского о «лица необщем выраженье» – банальность. Что «заготовки» не более нужны поэту, чем абрамовский словарь русских синонимов.
Кстати об Абрамове[118]. Абрамов был автором многих популярных брошюр: «Как сделаться оратором», «Как написать доклад», «Как научиться писать стихи». Это были весьма толковые книжки – на уровне знаний начала века. Эти брошюры давали полезные сведения общекультурного характера – вроде нынешних брошюр Общества популяризации научных знаний. Поэтов всегда было много. В аннотации на книжку Абрамова «Искусство писать стихи», напечатанной в 1912 году, сказано:
«Полное и всестороннее ознакомление с трудностями поэтического творчества, несомненно, отобьет у непризванных охоту заниматься несоответствующим их таланту делом».
«Научиться писать стихи нельзя» – вот формула Абрамова. Книжка его – очень грамотно составленная небольшая антология современной тогдашней русской поэзии. Его толковая книжка и написана для того, чтобы защититься от потока стихотворений, заливающих издательства. Но поток не перестал быть мощным.
Вернемся к Асееву.
Больше, чем содержанием письма, я был поражен его внешним видом. Письмо было написано мельчайшим четким прямым женским почерком на светло-сиреневой бумаге с темно-лиловыми каемочками и уложено в крошечный конвертик, тоже сиреневый и тоже с каемочками. Писем на такой бумаге и в таких конвертах я в жизни не получал.
Конечно, каждое стихотворение большого поэта ставит и какую-либо чисто техническую задачу. Но эта задача не должна отвлекать от главного.
Кроме того, поэт ничего не ищет. Творческий процесс – это, скорее, процесс отбрасывания, отбора тех молниеносных, проходящих в мозгу сравнений, мыслей, образов и слов, вызванных рифмой, аллитерацией.
Лефовцы говорили: мы обладаем «мастерством». Мы – «специалисты» слова. Это мастерство мы ставим на пользу советской власти, готовы рифмовать ее лозунги и газетные статьи, писать фельетоны в стихах и вообще сочинять полезное.
Оказалось, что для настоящих стихов мастерства мало. Нужна собственная кровь, и пока эта кровь не выступила на строчках – поэта, в настоящем смысле слова, нет, а есть только версификатор. Поэзия – судьба, а не ремесло.
Евтушенко написал стихотворение «Карьера» – многословное, не очень верное с фактической стороны. На эту же самую тему исчерпывающим образом высказался Блок, прозой. Он сказал: «У поэта нет карьеры. У поэта есть судьба». Вот уровни суждений двух поэтов по одному и тому же вопросу.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Я стал ходить во Дворец труда, в кружок при журнале «Красное студенчество», которым руководил Илья Сельвинский.
Здесь была уже сущая абракадабра. Мне хотелось больших разговоров об искусстве – меня угощали самодеятельными ямбами Митрейкина[119]. Эти ямбы обсуждались подробно. Каждый слушатель должен был выступать. Заключительное слово произносил сам «мэтр» – Сельвинский, откинувшись на стуле, он изрекал после чтения первого ученика:
– Во второй строфе слышатся ритмы Гете, в третьей – дыхание Байрона.
Первый ученик Митрейкин, давно потерявший способность краснеть, самодовольно улыбался. Это было еще хуже ЛЕФа. Дважды послушав «тактовые» откровения Сельвинского и приватные беседы поэтов друг с другом во время «перекусов», я перестал ходить в «Красное студенчество».
Конструктивисты выпустили три сборника с претенциозными названиями: «Мена всех», «Госплан литературы», «Бизнес».
Услуги теоретика при конструктивистах выполнял Корнелий Зелинский[120].
Борис Агапов, в будущем неплохой очеркист, журналист, участвовал в «Госплане литературы» как поэт.
Попытка записать стихотворение так, как оно говорится, приводила к следующим «достижениям»:
Нночь-чи? Сон…ы! Прох?ладыда!
Здесь в аллейеях загалохше? го сад…ы
И доносится толико стон…ы гит-таоры
Таратинна! Таратинна! тэн!
(Сельвинский. «Цыганский вальс на гитаре»)
Девушки снегур(ы)ки галаз(ы)ками колются
Заайчики моолютца, плаачиит снег.
(Б. Агапов[121]. «Лыжный пробег»)
Все это знал еще Тургенев.
Понимая, что наблюдение такого рода можно «обыграть» только иронически, Тургенев вложил стихотворную тираду в уста комического персонажа. Тургенев чувствовал русский язык много лучше, чем его потомки.
В «Конторе» («Записки охотника») есть такие «конструктивистские» находки:
«Сидел дюжий парень с гитарой и не без удали напевал известный романс:
Э-я фа пасатыню удаляюсь
Ата прекарасаных седешенеха мест»
и проч.
По образцу лефовцев конструктивисты готовили «смену». Молодые ученики Сельвинского назывались «констромольцами». Сколько-нибудь значительных поэтов из них не вышло.
Зато объявили себя конструктивистами Антокольский[122], Багрицкий[123] и Луговский[124].
Прозаик Николай Панов[125] здесь назывался поэт Дир Туманный, сочинивший поэму «Человек в зеленом шарфе». Поэма была издана «Кругом».
Чувство языка подвело Сельвинского и тогда, когда конструктивисты сделали публичное заявление, что они не «попутчики». Они оскорблены этим бытующим термином. Они «сопролетарские писатели». Трудно найти столь неудачный, в его звуковом качестве, термин.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Мы хотели знать, как пишутся стихи, кто их имеет право писать и кто не имеет. Мы хотели знать, стоят ли поэты своих собственных стихов, хотели понять тот удивительный феномен, когда плохой человек пишет стихи, пронизанные высоким благородством. И чтобы нам объяснили – для чего нужны стихи в жизни. И будут ли в завтрашнем дне?
А вместо этого нас угощали ритмами Митрейкина, восходящими к интонациям Гете. Или литературными сплетнями, где все единомышленники были гениями, а все литературные враги – бездарностями, ничтожеством и завистниками.
Всю жизнь я мечтал, что встречу человека, которому буду подражать во всем, на которого буду молиться, как на Бога. Такого человека я не встретил.
Я поздно понял, что в глазах современников оценка поэта, писателя неизбежна другая, чем у «потомков». Помимо таланта, литературных достоинств, живой поэт должен быть большой нравственной величиной. С его моральным обликом современники не могут не считаться. Наиболее известные примеры – Гейне и Некрасов. Нравственный авторитет собирается по капле всю жизнь. Стоит только оступиться, сделать неверный шаг, как хрупкий стеклянный сосуд с живой кровью разбивается вдребезги. На этом пути не прощают ошибок.
Тогда я еще не понимал, что поэзия – этой личный опыт, личная боль и в то же время боль и опыт поколения.
Я не понимал еще тогда, что писатель, поэт не открывают никаких путей.
По тем дорогам, по которым прошел большой поэт – уже нельзя ходить. Что стихи рождаются от жизни, а не от стихов. Я понял, что дело в видении мира. Если бы я видел так, как Пушкин, – я и писал бы как Пушкин. Я понял также, что нет стихов квалифицированных и неквалифицированных. Что есть стихи и не стихи. Что поэзия – это душевный опыт, и что лицейский Пушкин еще не поэт. Что Пушкин – это поэт для взрослых и более того: когда человек поймет, что Пушкин – великий из великих, он, этот человек, и становится взрослым. В юности мы этого не понимаем, часто отдаем предпочтение Лермонтову. Но годы идут, и оценки наши меняются.
И еще: Пушкин не тот поэт, с которого надо начинать приобщение к русской поэзии. Он слишком сложен, не всегда понятен, он адресуется к людям, которые уже кое-что смыслят в стихах и многое смыслят в жизни. Начинать надо с Некрасова, Алексея Константиновича Толстого. А Пушкин – это вторая ступень. А дальше – Лермонтов, Тютчев, Баратынский – все это поэты, требующие не то что подготовки, а уже воспитанной любви к поэзии. Я делал сотни опытов в своей жизни: какое стихотворение человек запоминает первым в жизни. В дореволюционном школьном репертуаре было много различных «птичек Божих», но девяносто девять процентов опрошенных запомнили некрасовское: «Как звать тебя? Власом».
. . . . . . . . . . . . . . . .
Вот характеристика двадцатых годов, сделанная Пастернаком в 1952 году [из письма к Шаламову 9 июля]:
«Наступили двадцатые годы с их фальшью для многих и перерождением живых душевных самобытностей в механические навыки и схемы, период, для Маяковского еще более губительный и обезличивающий, чем для меня, неблагополучный и для Есенина, период, в течение которого, например, Андрею Белому могло казаться, что он остается художником и спасет свое искусство, если будет писать противное тому, что думает, сохранив особенности своей техники, а Леонов считал, что можно быть последователем Достоевского, ограничиваясь внешней цветистостью якобы от него пошедшего слога. Именно в те годы сложилась чудовищная «советская» поэзия, эклектически украшательская, отчасти пошедшая от конструктивизма, по сравнению с которой пришедшие ей на смену Твардовский, Исаковский и Сурков, настоящие все же поэты, кажутся мне богами».
И далее в том же письме:
«Из своего я признаю только лучшее из раннего («Февраль, достать чернил и плакать», «Был утренник, сводило челюсти») и самое позднее, начиная со стихотворения «На ранних поездах». Мне кажется, моей настоящей стихией были именно такие характеристики действительности или природы, гармонически развитые из какой-нибудь счастливо наблюденной и точно названной частности, каквпоэзии Иннокентия Анненского и у Льва Толстого, иочень горько, что очень рано, при столкновении с литературным нигилизмом Маяковского… я стал стыдиться этой прирожденной своей тяги к мягкости и благозвучию и исковеркал столько хорошего, что, может быть, могло бы вылиться гораздо значительнее и лучше».
Вряд ли можно с такой оценкой двадцатых годов согласиться. Но несомненно одно: литературная манера лефовского круга, ее внутренняя фальшь – ощущалась Пастернаком с великой болью всю его творческую жизнь. Он считал, что поздно вышел на правильную дорогу. И все же, самое лучшее, самое главное – в осужденных им сборниках стихов. Ибо емкости строки, свежести наблюдения, чистоты голоса «Сестры моей жизни» и некоторых стихов более позднего времени Пастернак не достиг более. В стихотворениях из романа в прозе много замечательного, но это все же не откровения «Сестры моей жизни». Пастернак говорил: «Я хочу сказать многое для немногих». Ему удалось сказать многое для многих.
Главные литературные группы – «Перевал» и РАПП – непрерывно росли на «местах». В городах рождались эти группы «парно».
Лефовцы и конструктивисты, конечно, о провинциальных отделениях своих и не мечтали, не говоря уже о разных «прочих шведах», вроде оригиналистов-фразарей и ничевоков. Впрочем, героические действия Кирсанова в Одессе в этом направлении были, кажется, успешны. Во всяком случае, были сочинены стихи:
Одесса – город мам и пап
Лежит, в волне замлев,
Туда вступить не смеет РАПП,
Там правит ЮГОЛЕФ[126].
От «Перевала» в дискуссиях принимали обычно участие Александр Лежнев, Дмитрий Горбов[127], позднее Давид Тальников[128]. В ответственных случаях выступал сам Воронский.
Воронский был не только редактором «Красной нови» и журнала «Прожектор». Он был капитальным по тому времени теоретиком искусства и литературы – автором книги «Искусство видеть мир». Он написал десятки критических статей, писательских портретов, полемических статей по вопросам литературы.
Написал роман «Глаз Урагана», биографию Желябова, автобиографическую повесть «Бурса» и воспоминания «За живой и мертвой водой».
Был организатором и вождем большого литературного объединения «Перевал».
Профессиональный революционер, Воронский был личным другом Ленина, посещавшим его в Горках в дни болезни, до самой смерти. Был консультантом Ленина по вопросам эмигрантской литературы в начале двадцатых годов.
В диспутах с Маяковским Воронский, помнится, вовсе не выступал.
Знаменитый четырехтомник Есенина (с березкой) выпущен с его очень теплой вступительной статьей.
Есенинская поэма «Анна Снегина» посвящена Воронскому.
Воронский стоял во главе большого издательства «Круг»[129].
Словом, роль его в двадцатые годы была весьма приметной. Он был одним из главных строителей молодой советской литературы, воспитал и оказывал помощь многим писателям.
Года два назад критик Машбиц-Веров[130], живущий ныне в Саратове, в статье в «Литературную газету» звал Леонова и Федина рассказать о роли Воронского в становлении их как писателей.
Издательство «Круг» и редакция «Красная нива» были в Кривоколенном переулке.
Я пришел на одно из редакционных собраний.
Была зима, но не топили, и все сидели в шубах, в шапках. Электричество почему-то не горело. Стол, за которым сидел Воронский, стоял у окна, и было видно, как падают черные снежинки. На плечи Воронского была накинута шуба, меховая шапка надвинута на самые брови. На столе горела керосиновая лампа «десятилинейка», освещая сбоку силуэт лица Воронского, блеск его пенсне – огромная тень головы передвигались по потолку, пока Воронский говорил. О чем шла речь? О достоинствах чьей-то повести, предназначенной для очередного альманаха. На диване напротив тесно сидели люди, кто-то курил, и холодный голубой дым медленно поднимался к потолку.
Рядом с диваном на стульях, а то и прямо на полу сидели люди. Перед тем, как начать говорить, вставали, двигались чуть вперед, и луч керосиновой лампы ловил их лица, и тогда я узнавал: Дмитрий Горбов, Борис Пильняк, Артем Веселый[131].
В начале революции Воронский работал в Иванове редактором областной газеты «Рабочий край». Потом перебрался в Москву, изложил Ленину план создания первого «толстого» литературно-художественного журнала. Организационное собрание журнала «Красная новь» состоялось на квартире Ленина, в Кремле. Присутствовали: Н. К. Крупская, В. И. Ленин, А. М. Горький, А. К. Воронский. Доклад о журнале был сделан Воронским, и было решено, что художественной частью будет заведовать Горький, а редактором журнала станет Воронский. Для первого номера Ленин дал статью о продналоге, а писатель Всеволод Иванов – свою первую повесть «Партизаны».
Горький связал Воронского с ленинградскими писателями – с бывшими «Серапионами».
Ленин угадал в Воронском талант литературного критика, так же как в Вацлаве Воровском[132] угадал дипломата, а в Цюрупе[133] – крупного государственного деятеля. Встречаясь когда-то в ссылке со многими людьми, Ленин оценивал их будущие возможности в качестве строителей государства, искусства. И. К. Гудзь[134], работник Наркомпроса, один из авторов известного закона о ликвидации неграмотности, вспоминал, как Ленин ходил по коридору Наркомпроса (он каждый день заезжал за Н. К. Крупской) и говорил: «У нас никто не знает, как строить государство. Знаю я, Свердлов, Цюрупа. Остальные – не знают».
В тридцатых годах я был на чистке Воронского. Его спросили: «Почему вы, видный литературный критик, не написали в последние годы ни одной критической статьи, а пишете романы, биографии?»
Воронский помолчал, вытер носовым платком стекла пенсне: «По возвращении из ссылки я сломал свое перо журналиста».
Вслед за «Красной новью» стали выходить и другие толстые журналы: «Молодая гвардия», «Печать и революция» – редактором был Н. Л. Мещеряков[135], «Новый мир» с редактором Луначарским, «ЛЕФ» редактировал Маяковский, «Октябрь» – Панферов.
У тонкого журнала «Красная нива» редактором был А. В. Луначарский.
НЭП вызвал к жизни «Смену вех»[136]. И. Лежнев[137] редактировал журнал сменовеховцев «Россия». И потом, когда «Россия» из-за Устряловской[138] статьи была закрыта, выходила – под редакцией того же Лежнева – «Новая Россия», где печатался роман Михаила Булгакова «Белая гвардия».
Роман этот вызвал большой интерес. Было сразу видно, что в русскую литературу пришел новый большой талант.
Булгаков, альбинос со светло-голубыми глазами, с маловыразительным лицом, был живым опровержением всяких «френологических» теорий. В детстве моем бытовало мнение, что объем головы, высота лба – верные внешние признаки мудрости. Мозг Тургенева весил необыкновенно много. Но время подрезало эти теории: мозг Анатоля Франса весил ничтожно мало. Что же касается моих многих наблюдений, то самым умным и самым достойным человеком, встреченным мной в жизни, был некто Демидов[139], харьковский физик. Узкие в щелочку глаза, невысокий лоб с множеством складок, скошенный подбородок…
Михаил Булгаков – киевлянин. Валентин Катаев – одессит. Они впервые приехали в Москву с юга страны, первыми завоевали писательское место.
Одесса и вообще юг сыграли заметную роль в «географии» молодой советской литературы. Бабель, Петров, Олеша, Багрицкий, Паустовский, Ильф, Кирсанов – все они с юга.
Виктор Шкловский когда-то писал о «юго-западной школе» нашей литературы, а первый сборник стихов Багрицкого так и называется «Юго-Запад».
Потом, в конце тридцатых годов, многих литераторов переместили на северо-восток нашей страны. Это обстоятельство иронически обыграно в названии сборника стихов В. Португалова[140], вышедшего в 1960 году. Португалов, чья биография, вынесенная в аннотацию, сама звучит как стихи, посвятил свой сборник Багрицкому и назвал книжку – «Северо-Восток».
. . . . . . . . . . . . . . . .
Булгаков не знал неизвестности, непризнания. Талант его был сразу оценен, замечен.
«Белую гвардию» напечатали за границей.
Но к русскому читателю Булгаков не добрался. Журнал «Россия», где печатался его первый роман, был закрыт.
Булгаков выступает с фантастической повестью «Роковые яйца», со сборником рассказов «Дьяволиада».
Рассказы и особенно повесть встречают резкую критику газет.
Булгаков работает в «Гудке», пишет очерки для «30 дней», рассказы для «Медицинского работника». Он переделал в пьесу свой роман «Белая гвардия».
«Дни Турбиных» – это не просто инсценировка романа. Некоторые действующие лица отброшены, одни характеры усилены, другие – смягчены.
По роману Алексей Турбин – военный врач. В пьесе он – полковник. В романе есть полковник Малышев – в пьесе его нет вовсе. В пьесе есть сцены, которых нет в романе.
Постановка «Дней Турбиных» была разрешена только лишь Художественному театру. С Хмелевым и Добронравовым в роли Алексея Турбина и Тарасовой и Еланской в роли Лены – пьеса имела огромный, ни с чем не сравнимый успех.
Первая редакция (ближе стоящая к тональности романа) особенно вызывала много шума, крика, вплоть до скандалов и свиста в театре. Пьесу сняли как прославляющую белогвардейцев.
Вскоре «Дни Турбиных» были восстановлены в новой редакции. Эта новая редакция была чисто театральной. Текст был тот же самый, но знаменитое «Боже, царя храни», которое пели офицеры на елке – торжественно, во второй редакции пели пьяным нестройным хором.
Словом, в игре актеров было усилено критическое «отношение к образу». Помните Вахтангова: «Актер должен играть не образ, а свое отношение к образу».
Конечно, навечно запомнится нам и Хмелев – Алексей Турбин и Яншин – Лариосик. Именно этой ролью Яншин и начал свой славный театральный путь.
На премьере первой редакции «Дней Турбиных» был скандал. Какой-то военный и комсомолец громко свистели, и их вывели из зала.
Луначарский в большой статье, помещенной в «Известиях», опубликованной ко времени возобновления пьесы, разъяснял мотивы Реперткома, вновь разрешающего «Дни Турбиных» к постановке. Пьеса талантлива. Главная мысль ее в том, что, если белые идеи и были гнилыми идеями, обреченными на гибель, то люди, которые их защищали, были – сплошь и рядом – вовсе не плохими людьми.
Что же касается шиканья в зале, то Луначарский разъяснял, что шиканье, наряду с аплодисментами, – вполне правомерный способ публичного выражения своих симпатий и антипатий в театре, своего отношения к спектаклю, и поэтому администрации Художественного театра на сей предмет сделано строгое внушение.
«Дни Турбиных» в Художественном театре, несомненно, самая яркая пьеса двадцатых годов.
Выдающийся драматург, Булгаков ставил одну пьесу за другой: «Зойкина квартира» у Вахтангова, «Багровый остров» в Камерном театре, «Мольер» – в Художественном. Готовился во МХАТе «Бег». Для Художественного театра, чьим автором Булгаков работает ряд лет при горячей поддержке Станиславского, он пишет пьесу «Мертвые души» по Гоголю, «Жизнь господина де Мольера».
Проза Булгакова – его первый роман и повести – испытывала сильное влияние гоголевской прозы. Если Пильняк получил гоголевское наследство из рук Андрея Белого, то Булгаков на всю жизнь был представителем непосредственно гоголевских традиций. Это сказывалось не только в его словаре, но и в совершенном знании сцены, театра и в пристрастии к фантастическим сюжетам, в любви к драматургической форме.
Пьеса «Мертвые души» написана очень тонко. Там есть «досочиненный» вполне в гоголевском плане пролог, есть действующие лица, «о которых и не слышно было никогда».
Конечно, лучше Булгакова никто бы не инсценировал Гоголя.
Вслед за Булгаковым на страницы журнала «Россия» вступил и Валентин Катаев[141].
Катаев начинал стихами, реминисценциями Кузмина, Волошина.
Стихи на страницах «России» были вполне в духе журнала:
И гром погромов, перьев тень
В дуэли бронепоездов,
Полжизни за Московский Кремль,
Полцарства за Ростов,
И только вьюги белый дым,
И только смерть в глазах любой,
Полцарства за стакан воды,
Полжизни – за любовь.
(В. П. Катаев. «Современник»)
Катаев работал над «Растратчиками», повестью, которая сразу принесла ему известность. Напечатаны «Растратчики» были в «Красной нови».
За границей была поднята большая шумиха по поводу первой книги «Тихого Дона»[142]. Жена какого-то белогвардейского офицера, убитого во время Гражданской войны, выступила с письмом, обвиняя Шолохова в плагиате. Рукопись романа будто бы принадлежит ее мужу. Была проверка этих обвинений.
Зерно правды было ничтожным. Шолохов сообщил, что действительно, в архивах Донецкого совпрофа он нашел дневник убитого офицера, рукопись, которую он использовал в своем романе. Использование такого рода материалов – право всякого писателя. Притом дневник этого офицера был использован лишь в части этой первой книги. Словом, обвинения вдовы офицера были отвергнуты, отметены.
Выход последующих книг «Тихого Дона» показал всю беспочвенность этой клеветы.
В «Поднятой целине», вскоре вышедшей, не использованы никакие чужие рукописи.
В эти же годы литературным организациям пришлось рассматривать еще одно дело о плагиате.
Плотников, учитель русской литературы в Якутии, проработавший среди якутов двадцать пять лет, всю жизнь собирал якутский эпос. Все сказы и легенды якутского народа были Плотниковым собраны, переведены на русский язык классическим размером «Гайаваты» Лонгфелло в переводе Бунина. Толстый сборник якутского фольклора под названием «Янгал-Маа», что значит «тундра», был Плотниковым упакован и направлен посылкой в журнал «Новый мир». Редакции журнала рукописи Плотникова показались «самотеком», литературным сырьем, которое должно было получить обработку прежде, чем попасть в печать. Материал же был очень интересен, своеобразен, уникален. Ничего не сообщая Плотникову, редакция журнала передала рукопись поэту Сергею Клычкову[143], автору «Чертухинского балакиря», и Сергей Клычков, отложив все дела, в довольно короткое время привел рукопись в христианский вид. Исключив всякие повторения эпизодов, выправив сюжетное начало, переделав «Янгал-Маа» от строки до строки, Клычков сдал в «Новый мир» перевод с якутского, названный им «Мадур-Ваза Победитель» по имени главного героя якутского эпоса. Поэма – так назвал свое произведение Клычков – включала ни много ни мало как тридцать шесть тысяч стихотворных строк.
Журнал с поэмой Клычкова вышел в свет и дошел до Якутска. Потрясенный Плотников бросился в Москву, требуя расследования, обвиняя Клычкова в плагиате, требуя выплаты денег ему, Плотникову, за двадцатипятилетний его труд. Оказалось, что деньги Клычков получил уже давно. Оказалось, что издательство «Академия» заключило с Клычковым договор на издание «Мадур-Вазы» и тоже заплатило ему деньги сполна.
Было расследование. Работа Клычкова над рукописью Плотникова была признана имеющей самостоятельное художественное значение, и все претензии к Клычкову разом отпали. Редакции журнала был объявлен выговор. А издательству «Академии» было предложено заключить договор с Плотниковым и издать его рукопись вместе с произведением Клычкова.
Так вышла в свет удивительная книга, где напечатаны два одинаковых, по существу, текста – без всяких объяснений. Книгу Плотникова и Клычкова и сейчас можно видеть в Ленинской библиотеке.
Плагиатные дела не были новостью для двадцатых годов.
Начало было положено печально знаменитым С. Бройде[144]. Нэповский делец, Бройде отсидел некоторое время в домзаке, вышел и решил описать советский исправдом. Получилась интересная книга, названная «Фабрика человеков», изданная Московским товариществом писателей. Книга имела читательский успех. Бройде стал членом ревизионной комиссии Товарищества писателей, выступал по различным писательским вопросам – больше бытового характера – активно. Вскоре был напечатан еще один роман Бройде – «Кусты и зайцы».
Внезапно против Бройде было возбуждено уголовное дело. Оказалось, что Бройде разыскал бедствовавшего старичка, безвестного писателя царского времени Лугина[145], поселил его на даче, кормил, выдавая «по полтиннику в день», как говорилось на суде.
Лугин написал для Бройде «Фабрику человеков», Бройде разбогател, но участь Лугина не улучшилась. Бройде усадил Лугина за второй роман, запретил ему появляться в Москве, сократил его «ежедневный гонорар».
Обозленный Лугин подал в суд. Фельетон Евгения Вермонта[146] из «Вечерней Москвы» по делу Бройде так и назывался «Назад, на скамью подсудимых».
В 1924 году в Москве собрался конгресс натуралистов. Циолковский делал на нем два доклада о космических ракетах.
Говорили об этом много: «Аэлита», «Гиперболоид» были отражением этих разговоров.
Тогда же в редакциях научных журналов, в коридорах научных институтов появлялась маленькая фигурка старичка в сером пиджаке с небольшой бородкой, с неизменной палкой в руках. За его спиной обычно возникал шепот удивления. Старичок был автором многих работ по электротехнике, редактором технической энциклопедии по вопросам электротехники, создателем еще нового у нас тогда дела – первых «пластмасс».
Говорили, что темы многих диссертаций родились из случайных бесед со старичком – бесед, в которых он никому не отказывал.
Гонорара за свои статьи старичок не брал. Жил одиноко. Его звали Павел Флоренский[147]. В дореволюционное время он был священником-профессором Духовной академии, виднейшим теоретиком православия, автором фундаментального на сей счет труда.
В науке это была фигура мирового значения. Впоследствии в Лондоне вышел его двадцатитомный труд «Человек и природа».
Не знаю о его судьбе в тридцатые годы, но редакция журнала «Сорена» еще печатала его статьи.
Флоренский был не единственным духовным лицом в тогдашнем научном мире. Автор капитального учебника по гнойной хирургии Войно-Ясенецкий[148] был епископом. «Епископ Лука» – такая подпись стояла на его популярнейших тогда книгах.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Эренбург[149] приезжал из-за границы редко. Я слушал его лекцию «С высот Монмартрского холма», собравшую множество народу. Ничего сейчас не вспоминаю, кроме того, что туфли Эренбурга были завязаны какой-то сложной системой шнурков. Шнурки эти все время развязывались, и Эренбург, не прекращая говорить, ставил ногу на стул, завязывал шнурки. Немного погодя шнурки снова развязывались, и все начиналось сначала.
Читательская популярность автора «Хулио Хуренито» была очень большая. Романы «Жизнь и гибель Николая Курбова», «Любовь Жанны Ней» можно было увидеть в руках встречных людей каждый день.
«Трест ДЕ», «Рвач», «В Проточном переулке» – все эти книги читались нарасхват. Но самой популярной был сборник «Тринадцать трубок». Строчки из «Первой трубки» (о Париже) мы твердили наизусть.
В Кунцево образовалось нечто вроде предмостного укрепления одесситов перед Москвой. Там жили Кирсанов, Багрицкий, Бродский[150], Олендер[151], Колычев[152].
Кирсанов – крошечный, крикливый – выступал на каждом литературном вечере, даже если его и не приглашали. Публике нравилась его неисчерпаемая энергия, а главное – великолепное чтение. Читать Кирсанов готов был без конца. Читал он настолько здорово, что чуть не всякое прочтенное им стихотворение казалось замечательным – до тех пор, пока не удавалось прочесть его, взять в руки. Тогда впечатление менялось. Кирсанов недаром был крайним сторонником «звучащей поэзии» – большим, чем его старшие товарищи Маяковский и Асеев. С широковещательными речами Кирсанов по молодости лет еще не выступал. Чтение стихов – и ничего больше. Но на всех сценах и авансценах протискивалась его энергичная фигурка, слышался звонкий голос, что его обижают, что ему Уткин и Жаров не дают читать стихи, что у него стихи – хорошие, пусть только разрешат ему прочесть, и он себя покажет. Обычно прочесть ему разрешали – для слушателей это было неожиданным и приятным сюрпризом. Читал он «Плач Быка», «Германию», все те стихи, которые вошли в его сборник «Опыты».
Было там одно стихотворение, начинавшееся:
Грифельные доски,
парты в ряд…
<«Моя автобиография»>
Кирсанов говорил: «Сейчас я прочту вам стихотворение, которое называется «Моя автобиография». В журнале, где эти стихи напечатаны, сохранилась та же ошибка, и лишь в «Опытах», в книжке, стихотворение названо грамотно: <«Краткая автобиография»>
Эстрадную популярность в Москве Кирсанов завоевал себе быстро.
Когда Полонский на одном из диспутов сказал: «Какой-то Кирсанов», Виктор Шкловский заметил, что «если Полонский не знает Кирсанова, то это факт биографии Полонского, а не Кирсанова».
Остроты, полемику – пусть даже самую грубую – в двадцатые годы очень любили.
Самым остроумным оратором литературных диспутов того времени я считал Виктора Шкловского.
Несравненный полемист, эрудит, Шкловский привлекал к себе всеобщее внимание. Книги его читались нарасхват. Каждая строчка там была умна, остроумна, нова. Его лысый череп приветствовали все.
Свой своеобразный литературный стиль Шкловский заимствовал у Василия Розанова, автора «Опавших листьев» и других интересных книг. Но кто в двадцатые годы знал и помнил, и почитал Розанова?
Слог Шкловского казался всем открытием.
Пародист Александр Архангельский[153] написал очень удачную пародию на Шкловского и назвал ее «Сухой монтаж». В первом издании (в той же Библиотечке «Огонька») название это было сохранено. Но в дальнейшем Архангельский изменил его на «Сентиментальный монтаж».
Библиотечка «Огонька», которой занимался Ефим Зозуля[154], занимала много места в литературной жизни тогдашней. Дело это было построено совсем на других началах, чем теперь.
Сейчас это кормушка для писателей разного возраста, железнодорожное чтиво для читателей разного возраста, а тогда это был по-газетному оперативный издательский отклик на злобу дня, на новинки художественной литературы. Библиотека «Огонек» знакомила с новыми именами в прозе и поэзии вслед за журналами и много раньше отдельных изданий. Библиотечка была на переднем краю литературы. Успех писателя, поэта – новое или старое имя, это все равно – сейчас же находил отражение в Библиотечке «Огонька». Для многих Библиотечка была подтверждением успеха в дороге к большому читателю. Михаил Кольцов[155] с Зозулей обдумывали это издание.
Александр Архангельский участвовал в известном сборнике «Парнас дыбом» – очень веселом, очень популярном в свое время. Это были пародии на тексты «Веверлея», песни «У попа была собака», а объектами сатиры, пародии были Северянин[156], Бальмонт[157], Сологуб[158]. «Парнас дыбом» был веселым началом блестящей карьеры сатирика и пародиста Архангельского. Вскоре он превратил пародию в критическую статью большого плана. Архангельский вывел этот жанр на видное место в литературе. Были его собственные вечера, вечера пародий.
Его пародия на Маяковского настолько точно передает всю особенность манеры, стиля и души поэта, что почти сливается с ним, и в то же время зла и критична.
Александр Сергеич, арап московский,
Сколько зим, сколько лет!
Не узнаете? Ведь это я – Маяковский.
Индивидуальный поэт…
. . . . . . . . . . . . . . . .
Вы чудак. Насочиняли ямбы,
Только вот печатали не впрок.
Были б живы, показал я вам бы,
Как из строчки сделать десять строк.
Например:
мой
дядя
самых
честных
правил,
он,
когда
не в шутку
занемог,
Уважать,
подлец,
себя заставил,
Словно
лучше
выдумать
не мог…
Ну, пора:
рассвет
лучища выкатил.
Как бы
милиционер
разыскивать не стал.
На Тверском бульваре
очень к вам привыкли.
Ну, давайте,
подсажу
на пьедестал.
Последняя строфа – не пародия. Я вставил подлинный текст Маяковского, чтобы сразу было видно, насколько полно слита пародия с текстом автора, в то же время это – тонкая, резкая и злая критика, где Маяковский кажется пародией на самого себя. Это – пародия, ставшая классической.
Кукрыниксы[159] удачно иллюстрировали Архангельского.
У Архангельского был туберкулез. Стрептомицина тогда еще не было, и он, с год побыв в подмосковных санаториях, умер тридцати с чем-то лет.
Сегодняшняя молодежь вовсе не знает имени Якова Рыкачева[160]. А ведь он еще жив. Рыкачев был умным и тонким писателем, автором романа «Возвышение и падение Андрея Полозова» и очень интересного очерка «Похороны».
Был Гарри, Алексей Николаевич Гарри[161], известный очеркист, бывший адъютант Котовского во время Гражданской войны. Гарри знал чуть ли не полмира, говорил на десяти языках. В двадцатые годы писал очерки в газетах, написал вместе с журналистом Павловым[162] брошюру «Как писать в газету».
Виктор Шкловский тоже выпустил брошюру подобного рода, очень толковую: «Техника писательского ремесла».
В тридцатых годах Гарри вел литературный кружок на Электрозаводе, был в тридцать восьмом арестован, отбыл десять лет на севере, вернулся в Москву, печатался, выпустил книжку о Котовском, повесть «Последний караван». Года два назад Гарри умер.
В середине двадцатых годов выдвинулся молодой писатель Н. Смирнов[163]. Он выпустил увлекательную книгу, роман «Дневник шпиона» (1929). Знание дела, обнаруженное Смирновым, привело его неожиданно на Лубянку, где он в течение двух месяцев показывал – каким материалами он пользовался для своего «Дневника шпиона»; Смирнов владел английским языком, достал несколько мемуарных английских книг (в том числе воспоминания Сиднея Рейли, известного в Москве по заговору Локкарта), читал английские газеты. Когда все разъяснилось, Смирнова освободили.
«Дневник шпиона» пользовался шумным успехом, но больших художественных достоинств не имел. Впрочем, Смирнов был безусловно талантливее писателя Николая Шпанова[164].
Поэт северянинского толка Лев Никулин[165] выпустил толстую книжку «Адъютанты господа бога». Это был роман на ту же «модную» тему о «последних днях самодержавия». Я не остановил бы внимания на этой книжке, если бы не особые обстоятельства. Через много лет мне пришлось познакомиться с неким Осипенко[166] – бывшим секретарем митрополита Питирима, покровителя Распутина. Петербургский митрополит Питирим и ввел Распутина в царское окружение. Молодой Осипенко играл там не последнюю роль, во всяком случае, видел очень много. На все мои просьбы хоть что-нибудь рассказать о Распутине, Осипенко отвечал категорическим нервным отказом. В разговоре я случайно упомянул о книге Никулина:
– Вот с этой проклятой книги все и началось, – с чувством произнес Осипенко.
Выяснилось, что Осипенко самым хладнокровным образом работал в Ленинградской милиции делопроизводителем, твердо надеясь на «перемены». Так прошло несколько лет. Вышли «Адъютанты господа бога», где Осипенко был одним из главных героев. Его разоблачили, судили и сослали на пять лет. Это был самый первый случай активного вторжения писателя в жизнь, какой я наблюдал. Никулин и до сих пор не знает об этой истории. Он работал по архивам, по чужим воспоминаниям.
Вышла «Неделя» Либединского[167] – первая советская повесть – и заняла прочное место в читательском сердце. К сожалению, дальнейшие повести Либединского: «Комиссары», «Рождение героя», «Завтра» были слабее «Недели».
Жаров выступал с Безыменским и Уткиным, со Светловым[168], Голодным[169] и Ясным[170]. Эта была, так сказать, рапповская прослойка в поэзии.
Лучшим из них был Безыменский. Его «О Шапке» знали все. В поэмах «Шапка» была тем же, чем «Неделя» Либединского в прозе.
Высокий голос Безыменского гремел со всех трибун.
Пользовался популярностью и Уткин, несмотря на промахи с «Перекопом», о котором писал Маяковский, и ряд погрешностей идейного плана в стихах о солдате:
Пришел и сказал: – Как видишь, я цел.
«Поэму о рыжем Мотэле» читал Уткин везде. Это была популярнейшая тогда поэма.
Сатирик Арго написал эпиграмму:
Он был простой ешиботник,
Но вот загремел ураган,
И он уже ответственный работник
С портфель и с наган.
И Мотэле живет в Грандотеле
С окнами на закат,
И если за что-нибудь борется Мотэле,
Так это за русского языка.
Язык-то Уткин знал отлично.
Горький двадцатых годов – это Горький Сорренто, ведущий большую переписку с советскими писателями и вообще с советскими людьми. В Нижнем Новгороде, в Сормове был инженер Алексеев, с которым велась особенно оживленная переписка. Время от времени в газетах того периода публиковались письма – работниц и рабочих – Горькому и ответы Горького на них, где он объяснял, почему он живет за границей: лечится, пишет…
Начинающие писатели паковали рукописи и посылали их в Сорренто Горькому. Горький все читал и на все отвечал самым сочувственным образом, только в случаях крайнего графоманства отвечал осудительно.
Его толкование таланта как труда – недостаточно четкое и неверное – родило множество претенциозных бездарностей. Бездарные люди ссылались на горьковский авторитет и заваливали редакции журналов рукописями и угрожающими оскорбительными письмами.
«Горький – отец самотека», – говорили в одной из редакций.
Мне кажется, что Горький действовал из самых лучших побуждений – желая разбудить «дремлющие силы», открыть дорогу всем, кто может писать.
Что касается таланта и труда, то мне больше нравится известная формула Шолом-Алейхема[171]: «Талант – это такая штука, что если уж он есть, то есть, а если уж его нет – то нет».
Суть дела, мне кажется, в том, что труд есть потребность таланта.
Всякий талант – не только качество, а (и обязательно!) количество. Талант работает очень много.
Горькому очень верили. Его советы задержали на много лет развитие такого крупнейшего самобытного таланта, как Андрей Платонов[172].
Платонов почти все написанное посылал Горькому. Горький отсоветовал ему печатать два романа, десятки рассказов…
Горький двадцатых годов – это автор книг «Детство», «Мои университеты», «В людях», романа «Дело Артамоновых», воспоминаний о Ленине, о Толстом. Все это издавалось, читалось, но никто не знал, вернется ли Горький в Советский Союз.
Оценка его творчества в целом была иной, чем в тридцатые годы, иной, чем сейчас.
Вацлав Боровский, крупный литературовед-марксист, в своих дореволюционных статьях о Горьком не считал его писателем рабочего класса (он считал его живописцем люмпен-пролетариата и купечества, в некоторой степени бытописателем интеллигенции, а «Мать» считал художественно слабым произведением).
С такими же, примерно, оценками выступал и Луначарский в первой половине двадцатых годов. Каясь в своих собственных «богостроительских» грехах, Луначарский не упускал возможности заметить, что в этих грехах повинен и Горький.
Зимой 1926/27 года в Коммунистической аудитории Университета при баснословном стечении народа – студенчества и пришедших «с улицы» – Воронский сражался с Авербахом. После доклада Авербаха, довольно мучительного (у него был какой-то дефект речи, хотя голос был звонкий, отличный), выступил Воронский.
Снял зимнее пальто, положил его на кафедру. Стал излагать свою позицию.
– Вы подумайте, что они пишут, эти молодые товарищи. – Читает: «Пролетарская литература уже сейчас насчитывает многие имена – Гладкова, Березовского, Горького» – извините, извините, Горького вы сюда не причисляйте…
В журнале «Большевик» была напечатана статья Теодоровича[173] «Классовые корни творчества Горького», где говорилось то же самое, что и у Луначарского, Воровского и Воронского.
Статья Теодоровича была напечатана в 1928 году. Вскоре точка зрения была изменена. В двадцатых годах за Горького, как представителя пролетарской литературы без всяких оговорок, выступали только рапповцы.
Горький приехал. Толпа у Белорусского вокзала. Плачущий высокий человек с черной шляпой в руках – вот все, что я видел тогда.
В лефовских кругах приезд Горького был встречен недовольным ворчаньем – как-никак «Письмо» после приезда Горького перестало быть козырем.
Шкловский написал фельетон (напечатанный в «Новом ЛЕФе»), где, признавая достоинства Горького как талантливого мемуариста – «Детство», «В людях», «Мои университеты», видел в художественных произведениях многочисленные недостатки. Так, Шкловский, обвиняя Горького в бедности изобразительных средств, подсчитал – сколько раз на протяжении романа «Дело Артамоновых» Петр Артамонов берется за ухо.
В те времена в «Известиях» подвалами печатались главы из нового романа Горького «Жизнь Клима Самгина». Шкловский писал: вот в газетах целую неделю из подвала в подвал ловят сома и никак поймать не могут. А за это время произошли важные события, жизнь идет, а в «Известиях» ловят сома из номера в номер.
Это было время сближения Шкловского с Третьяковым, апологетом «литературы факта».
Приезд Горького оживил литературную жизнь. Сам он поехал по Союзу знакомиться с новой жизнью.
Тогда все ждали прихода Пушкина. Считалось, что освобожденная духовная энергия народа немедленно родит Пушкина или Рафаэля. Сжигать Рафаэля и сбрасывать Пушкина с парохода современности в двадцатых годах уже не собирались, а жадно и всерьез ждали прихода гения, с надеждой вглядываясь в каждую новую фигуру на литературном горизонте. Пушкин не появлялся. Этому находили объяснения: дескать, «время трудновато для пера», и современные Пушкины работают в экономике, в политике, что Белинский нашего времени не писал бы критических статей о литературе, а, подобно Воровскому, был бы дипломатом.
Наш Гоголь
наш Гейне,
наш Гете,
наш Пушкин, —
сидят,
изучая
политику
цен…
<Н. Асеев. «Москвичи»>
Считалось, что Пушкин сидит еще на школьной скамье (осваивая Дальтон-план[174]).
Но время шло, а Пушкина все не было.
Стали понимать, что у искусства особые законы, что вопрос о Пушкине вовсе не так прост. Стали понимать, что нравственный облик человека меняется крайне медленно, медленнее, чем климат земли. В этом обстоятельстве – главный ответ на вопрос, почему Шекспир до сих пор волнует людей. Время показало, что так называемая цивилизация – очень хрупкая штука, что человек в своем нравственном развитии вряд ли прогрессирует в наше время. Культ личности внес такое растление в души людей, породил такое количество подлецов, предателей и трусов, что говорить об улучшении человеческой породы – легкомысленно. А ведь улучшение человеческой породы – главная задача искусства, философии, политических учений.
Но в двадцатые годы на вопрос: где же Пушкин? – все отвечали: «Наш Пушкин – на школьной скамье!»
Лишь несколько лет назад вспыхнули «Двенадцать» Блока. Поэму везде читали. С рисунками Анненкова[175] она расходилась по стране вслед за «Коммунистической Марсельезой» Демьяна Бедного[176].
Но в 1921 году Блок умер. Дневники его последнего года жизни: нетвердые, тонкие буквы, нарисованные слабой, дрожащей рукой.
Блок много писал в последний год жизни – новые главы «Возмездия» и другие стихи – и не понимал, что он уже перестал быть поэтом. Стихи были беспомощны.
Еще выступали поэты «Кузницы», и Гладков[177] не казался еще стариком.
Михаил Герасимов[178], высокий, черный, угловатый, в красноармейской шинели с яркими петлицами фасона Гражданской войны, в зеленой поношенной гимнастерке, в старых военных штанах, листал громадными пальцами новенькую, пахнущую типографской краской, только что вышедшую книжечку собственных стихов, с волнением или трудом отыскивая желаемое, отставив черную ладонь, в которой еле умещалась книжечка, – читал. Невыразительно.
Его приятель, облысевший Владимир Кириллов[179], читал нараспев своих «Матросов». Букву «с» Кириллов выговаривал, как «ф».
Герои, фкитальцы морей альбатрофы…
Дефекты речи нас не смущали. Лишь бы поэты были живыми существами. Хотя Герасимов и Кириллов и тогда не казались нам поэтами.
Вышла книжка Крученых[180] «500 новых острот и каламбуров Пушкина» – продолжение его знаменитой «Сдвигологии».
Вышла книжка-мистификация «Персидские мотивы» Сергея Есенина. Есенин никогда в Персии не был и написал ее в Баку, что по тем временам выглядело почти заграницей.
Встречено это было одобрительно, читалось хорошо. Вспоминали Мериме[181] с «Песнями Западных славян».
Но слава «Москвы кабацкой» перекрывала все.
Ранний московский вечер, зимний, теплый. Крупные редкие хлопья снега падают отвесно, медленно. Газетчики голосят на Триумфальной: «Газета «Вечерняя Москва»! Новая квартирная плата! Самоубийца поэт Есенин!»
Так и не пришлось мне услышать, увидеть Есенина – красочную фигуру первой половины двадцатых годов.
Но все, что было после, помню: коричневый гроб, приехавший из Ленинграда. Толпа людей на Страстной площади. Коричневый гроб трижды обносят вокруг памятника Пушкину, и похоронная процессия плывет на Ваганьково.
Самоубийство поэта наполнило новым смыслом, живой кровью многие, многие строки его стихов. То, что казалось позой, на поверку оказалось трагедией. Плохая «отделка» многих стихов отступала в сторону перед живой правдой, живой кровью.
Есенин был имажинистом. Вождем этой группы был Вадим Шершеневич[182], сын знаменитого профессора права Г. Шершеневича.
Вадим Шершеневич, хорошо понимая и зная значение всякого рода «манифестов», высосал, можно сказать, из пальца свой «имажинизм». Есенин был в его группе. Есенин – любимый ученик и воспитанник Николая Клюева[183], который, казалось бы, меньше всего склонен к декларациям такого рода. Застольная дружба привела его в объятия Шершеневича. Впрочем, Шершеневич войдет в историю литературы не только благодаря Есенину.
Его сборник стихов «Лошадь как лошадь» попал в ветеринарный отдел книжного магазина. Ленин смеялся над этим случаем.
Случаи такие – не редкость. Подобную судьбу испытывали и «Гидроцентраль» – Шагинян[184], и «Как закалялась сталь» – Островского[185]. Некоторые стихи Шершеневича из этого сборника твердила тогда вся литературная и не литературная Москва.
А мне бы только любви немножечко
И десятка два папирос…
Любители т. н. «корневой» рифмы могли бы у Шершеневича почерпнуть многое для себя. Он опробовал и более смелое:
Полночь молчать. Хрипеть минуты.
Вдрызг пьяная тоска визжать…
– во всем стихотворении были только неопределенные формы глаголов.
Вскоре Шершеневич выпустил книжку с давно ожидаемым названием «Итак, итог» и укрепился как автор текстов к опереттам.
А. Мариенгоф написал неплохую книгу о Есенине «Роман без вранья». Во всяком случае, она принималась лучше, надежнее, с большим доверием, чем фейерверк брошюр, напечатанных в издательстве автора на грязной оберточной бумаге, сочинений явно халтурного характера, принадлежащих перу Алексея Крученых: «Гибель Есенина», «Лики Есенина: от херувима до хулигана».
Была еще и третья, название которой я забыл. Продавалась она с рук на улицах, как сейчас кустари продают вязаные «авоськи» или деревянные «плечики» для пиджаков. При приближении милиции продавец прятал в карманы брошюрки («Черная тайна Есенина»).
Недавно мне в руки попали стихотворения молодого «новатора» Г. Сапгира[186]. Это были странички, заполненные точками, и среди точек попадали два-три слова, составляющие, по мнению автора, сокровенный смысл стихов:
…Взрыв… жив
и т. п.
Увы, эти использования точек довел до совершенства в двадцатых годах Алексей Николаевич Чичерин[187], грамотный и хитрый ничевок, выступавший на концертах, безмолвно скрещивая руки и делая трагическое лицо. «Опус» назывался «Поэма конца». Все эти ничевоки, фразари выступали на эстрадах и даже не без успеха у публики.
Известным писателем в двадцатые годы был Пантелеймон Романов[188]. Его рассказ «Без черемухи» вызвал шумную дискуссию. «Без черемухи» стало нарицательным словом. Романов обличал уродство быта молодежи – «афинские ночи», любовь «без черемухи».
В это же время Сергей Малашкин[189] написал рассказ «Луна с правой стороны» на ту же тему.
«Собачий переулок» Льва Гумилевского[190], «В Проточном переулке» Ильи Эренбурга, «Отступник» Владимира Лидина[191], «Коммуна Map-Мила» Сергея Григорьева[192] – все трактовали ту же, примерно, тему.
Позднее «Дневник Кости Рябцева» Н. Огнева[193] дал более правильное решение тех же самых вопросов. «Дневник» имел шумный читательский успех, успех у критики.
В дискуссиях Романов не выступал, а Сергей Малашкин был очень плохим оратором, терялся на эстраде. Поэтому, разгромленный в пух и прах тем же самым Вячеславом Полонским, Малашкин, я помню, кричал что-то бессвязное, махал руками.
Романов пытался зарисовать, «отразить» действительность, но не пытался понять жизнь. Он дал много беглых картинок быта времени Гражданской войны и НЭПа, всякий раз лаконично, и нельзя сказать, чтобы неверно и неталантливо. Он не претендовал на обобщение, на типизацию. А понимал далеко не все. Его роман «Русь» – плохой, скучный роман.
При НЭПе росли как грибы и частные издательства: «Время»[194], «Прометей»[195]. В большинстве это были коммерческие предприятия. Издавали они переводные романы – Пьера Бенуа, Поля Морана, У. Локка, Честертона, Марселя Арлена, Виктора Маргерита[196]. Сначала без предисловий, а потом стали давать коротенькие статейки, разъясняющие творческие позиции автора.
К этому времени с большим шумом вышел рекомендованный из-за границы Горьким трехтомный роман Каллиникова[197] «Мощи». Обилие сугубо натуралистических сцен сделало роману успех. Это тот самый роман, о котором писал Маяковский в «Письме к Горькому»:
Кстати – это вы открыли «Мощи»
Этого… Каллиникова…
Выступал на диспутах и доктор Орлов-Скоморовский[198], выпускавший одну за другой автобиографические повести. «Голгофа ребенка» – называлась повесть о детстве. В последующих книгах в весьма натуралистическом плане сообщалось, как автор заразился сифилисом и как это не только не сломило его дух, но подвинуло на литературные занятия.
С уважением произносилось имя Николая Клюева – одаренного поэта, волевого человека, оставившего след в истории русской поэзии двадцатого века. Пропитанная религиозными молитвами, церковным словарем, поэзия Клюева была очень эмоциональная. Есенин начинал как эпигон Клюева. Да и не один Есенин. Даже сейчас клюевские интонации встречаются в стихах, например, Виктора Бокова[199]. Революцию Клюев встретил оригинальным сборником «Медный кит», выпустил двухтомник своих стихов «Песнослов» в начале двадцатых годов.
Клюев играл заметную роль в литературных кругах. Человек умный, цепкий, он ввел в литературу немало больших поэтических имен: Есенина, Клычкова, Прокофьева[200], Павла Васильева[201]. Талант Клюева был крупный, своеобразный. Во второй половине двадцатых годов он уже был где-то в ссылке, ходил в крестьянском армяке, с иконой на груди.
Своеобразной фигурой тех лет был Борис Зубакин[202], поэт-импровизатор. Это – настоящий живой импровизатор, выступавший изредка в тогдашнем Доме Печати. Хотя его стихи нельзя было назвать настоящими стихами – все же способности импровизатора у него были. Впоследствии, в те же двадцатые годы Зубакин куда-то исчез. Оказалось, что он пробовал воскресить ни много ни мало как масонский орден розенкрейцеров (случись дело через десять лет – в 37 году, – я бы объяснил эти рассказы по-другому). Члены ордена были какие-то художники, радиотехники и сестра Марины Ивановны Цветаевой Анастасия – та самая, которой посвятил Пастернак свою «Высокую болезнь».
Зубакин занимался гипнотизмом, передачей мыслей на расстоянии и, находясь в тюрьме, привел, говорят, в трепет всех «блатных» своими опытами.
Больше я о нем не слыхал ничего.
Тарас Костров[203], редактор «Комсомольской правды», был живым героем, как бы сошедшим со страниц революционного романа. Он не только вырос в революционной семье – он даже родился в тюрьме. Изобретательный газетчик, талантливый публицист, хорошо образованный человек – он внес в «Комсомольскую правду» задор, горячность, любовь к делу. Сотрудникам «КП» в то время клали на стол пять газет ежедневно – из них две «провинциальные» из наиболее крупных, три – московские и ленинградские. На чтение этих газет отводился час. Каждый работник, действуя красным и синим карандашом, должен был оценить материал текущего номера простым подчеркиванием, всякими «нотабене». Внимание должно было касаться и оформления газеты. Потом Костров собирал эти газеты и просматривал. Так он учил газетному вниманию, а для себя – видел рост сотрудника. Бывали дни, когда Костров садился за стол секретаря, заведующего любым отделом, литправщика и работал целый день на этой «должности» – показывая, как надо работать. Семен Нариньяни[204] да и Юрий Жуков[205] могут и подробней об этом рассказать.
Имя свое Костров выбрал еще в юности: Тарасом Костровым зовут одного из героев «Андрея Кожухова» – известного романа знаменитого народовольца Степняка-Кравчинского[206].
Костров умер от скарлатины тридцати лет.
Костров охотно печатал Маяковского. В «Правде» Маяковский печатался редко, считал такую удачу «нечаянной радостью» для себя. И вовсе был туда не вхож. Что и немудрено, ибо Мария Ильинична, конечно, знала об отношении Ленина к Маяковскому.
Но в «Комсомольской правде» Маяковский был свой человек. Костров печатал там Асеева, Кирсанова, Уткина, Жарова. Напечатал впервые поэта, чьи стихи прозвучали тогда очень свежо и молодо, – Николая Ушакова[207].
Николай Николаевич Ушаков и сам, наверное, не знает, как многочисленны его поклонники. Ушаков обещал очень много в первых своих стихах. И удивительна его судьба. Лефовцы числили его своим, усиленно печатали в «Новом ЛЕФе», пока там хозяйничал Маяковский, и знаменитые «Зеленые» напечатаны именно там.
Сельвинский произвел Ушакова в основатели тактового стиха. И Бухарин в докладе на I Съезде писателей поставил Ушакова вместе с Пастернаком.
Человек скромный, Ушаков был несколько растерян, был больше смущен, чем рад. Себя он знал. Второй его сборник «30 стихотворений» остался лучшей его книгой.
В 1926 году неожиданно умер Дмитрий Фурманов[208] – писатель, на которого возлагались очень большие надежды. Начало его литературной деятельности – «Чапаев» и «Мятеж».
Фурманов был бывший анархист, видная фигура первых дней революции. Анархические идеи он оставил, вступил в партию большевиков, был комиссаром у Чапаева. Анархистов в те годы в Москве было не так много. На Тверской, напротив кино «Арс» (теперь Театр им. Станиславского), был клуб анархистов, дом, над которым еще в 1921 году развевалось черное знамя. Сам Кропоткин жил и умер в Дмитрове (в 1921 году). Музей имени Кропоткина – в том доме, где он родился и вырос, – существовал до 30-х годов.
В середине двадцатых годов клуб анархистов был закрыт, и многие его деятели перекочевали в столовую с необыкновенным названием-вывеской, выполненной на кубистский манер: «Все-изобретальня всечеловечества».
Членами этого кооператива (их кормили в столовой со скидкой) могли быть только изобретатели. Писатели, политические вожди приравнивались к изобретателям. Заводским «Бризом» здесь и не пахло. Члены кооператива были заняты высокими материями: «Как осчастливить человечество», «Проект тоннеля через Ла-Манш» и в этом роде.
Случилось так, что один наш знакомый, некто Ривин, был членом этого клуба. Он изобрел метод «сочетательный диалог» – экономный и универсальный способ изучения наук. Способ этот заключался в том, что чуть грамотного человека заставляли зазубрить бином Ньютона и рассказать товарищу. А тот рассказывал в ответ квадратные уравнения. Так в своеобразной «кадрили» пары кружились до тех пор, пока не проходили всей программы. Потом бегло все приводилось в порядок, и курс был закончен. Таким же способом Ривин поступал и с литературой, и с историей, и с физикой. Никаких преподавателей не было, были только карточки, заполненные Ривиным собственной рукой.
В газетах того времени часто встречались объявления Ривина: «Высшее образование – за год! Каждый сам себе университет».
Летом 1926 года я готовился в университет, бросил работу и в занятиях Ривина видел способ все хорошо повторить. Но там дело шло вовсе не о повторении, и видя, что я знаком со школьной программой, Ривин во мне разочаровался, но мы сохранили хорошие отношения.
Вот он-то и водил меня в столовую «Всеизобретальня всечеловечества». Особой дешевизны в блюдах не было, впрочем. На стенах «всеизобретальни» висели кубистские картины (сегодня бы их назвали абстрактивистскими). Вдоль потолка были растянуты плакаты необыкновенного содержания, вроде – «Человек – онанирующее животное» и т. п.
Ривин, член партии, вел свой «сочетательный диалог» в кружке при ЦК партии.
Чудак он был большой, низкорослый, лобастый, с большой лысиной, черноволосый, в вельветовой потертой куртке, с блестящими черными глазами.
В читальне МК на Большой Дмитровке, где вход был свободный, а в библиотеке давали все эмигрантские газеты – и «Социалистический вестник», и «Руль», – приятель, вместе со мной готовившийся в вуз, встретил Ривина. Ривин оказался его соседом. Приятель мой спросил Ривина без всякого подвоха, желая воспользоваться им как словарем:
– Скажите, что такое «валовая продукция»?
– Вот приходите на сочетательный диалог в Козицкий, я там вам и скажу.
Анархистом был и Иуда Гроссман-Рощин[209]. Огромного роста, страстный спорщик, вечный дискутант всех литературных собраний того времени, Иуда был литературный критик. Чуть не в каждом номере «На литпосту» появлялись его статьи на литературные темы.
Иуда Гроссман-Рощин был видным рапповским оратором. В годы Гражданской войны Иуда вместе с другими вождями русского анархизма – Бароном[210], Аршиновым[211] – был в штабе Махно[212], давая батьке советы по строительству анархистского общества.
Иуде было далеко за пятьдесят. Седой, рыжеволосый, в железных очках, которые он иногда снимал и протирал, и большие близорукие голубые глаза Иуды мог видеть каждый.
Литературоведению Иуда Гроссман-Рощин оставил термин «организованная путаница». Смысл в этом термине был.
Вышла «Конармия» Бабеля[213]. Встречена она была восторженно. Буденный резко выступил в печати о тени, которую, якобы, набросил Бабель на конармейцев, но буденновский демарш не имел успеха. Было ясно, что художественное произведение есть прежде всего художественное произведение.
Еще ранее «Одесские рассказы» были напечатаны в журнале «Летопись», как и некоторые рассказы из «Конармии», «Библиотечка «Огонек», та самая, что существует и сейчас и работавшая тогда куда более оперативно, выпустила «Одесские рассказы».
Слова: «Об чем думает такой папаша? Он думает об выпить с кем-нибудь стопку водки, об своих конях и ничего больше», – были у всех на устах. МХАТ II-й поставил чудесную пьесу Бабеля «Закат» – о семье одесского биндюжника Менделя Крика, о современном короле Лире – пьесу трагедийного звучания. Вахтанговский театр готовил еще одну пьесу Бабеля «Мария». Героини этой пьесы Марии не было среди действующих лиц, но вся пьеса рассказывала о ней, создавала ее образ. Похожий опыт проделал когда-то Гауптман[214] в пьесе «Флориан Гейер», но там Гейер показывался хоть на одну минуту. В «Марии» этот принцип был выдержан полностью.
Для кино Бабель написал сценарий «Еврейское счастье» о Биробиджане. Был поставлен одноименный фильм, где главную роль играл Михоэлс[215] – актер Еврейского театра одна из самых привлекательных фигур мира искусства двадцатых годов. Грановский[216] был художественным руководителем этого театра, игравшего на Малой Бронной. «Гадибук» смотрели, наверное, все москвичи, знающие и не знающие еврейский язык.
Сам Бабель выступал на литературных вечерах с чтением своих рассказов редко.
В двадцатые годы еще читали свои произведения с эстрады. Эти выступления отжили свой век. Сейчас невозможно представить себе какую-нибудь «Среду» Телешева[217], где автор читал вслух длиннейший роман или пьесу, а все слушали бы его внимательно. А ведь было такое время.
Радио, патефонные пластинки, телевизор заменили личное общение прозаиков с читательским миром. Но в двадцатые годы рассказы еще читались. Разумеется, не повести, а рассказы. Зощенко[218], Пантелеймон Романов – словом, все, у кого рассказы были покороче.
Художественную прозу большого плана: Мопассана, Чехова – читал в те годы замечательный чтец Александр Закушняк[219]. Соревнуясь с ним, выступал Эммануил Каминка[220].
Вместе с Бабелем в московских писательских компаниях появлялся часто военный – командир кавалерийского корпуса Дмитрий Шмидт[221]. Он тоже был фигурой яркой, и жаль, если память о нем исчезнет. Дмитрий Шмидт был необыкновенно одаренный рассказчик. Рассказ Бабеля «Жизнеописание Павлюченки» посвящен Д. А. Шмидту. Говорили, что «Письмо» и «Соль» из «Конармии» рассказаны именно Шмидтом. Позднее Шмидт было хорошо знаком с Алексеем Каплером[222], нынешним кинодраматургом, и даже подписал вместе с Каплером напечатанный в журнале сценарий «Станция Хролин». Впрочем, в следующем номере журнала было опубликовано письмо Шмидта, письмо-заявление, что он, Шмидт, никогда не писал никаких сценариев, никаких рассказов и вся авторская ответственность и авторское право на «Станцию Хролин» принадлежат Алексею Каплеру.
Дмитрий Шмидт был расстрелян в 1937 году, а в 1956 – реабилитирован.
Каплер мог бы рассказать о Шмидте многое.
Короткие фразы Бабеля, его неожиданные сравнения – «пожар, как воскресенье», «девушки, похожие на ботфорты» – имели большой читательский успех, вызвали много подражаний.
<О Дмитрии Шмидте рассказал Бармину[223] Виктор Серж>.
Дос-Пассос[224] запомнился мне тем, что он отказался от посещения Большого театра, Эрмитажа и ездил только в рабочие клубы (в Клуб им. Кухмистерова и другие), и в Ленинграде – по памятным ленинским местам.
Смело ездил в московских трамваях, а езда в московских трамваях того времени требовала крепкого здоровья, хладнокровия и вестибулярного аппарата повышенного сопротивления. Запомнилось мне, что у Дос-Пассоса были рваные носки, но это ему даже шло. В Камерном театре поставили его пьесу «Вершины счастья».
Конечно, короткая фраза была своего рода реакцией на засилье интонаций, заполнивших тогдашнюю прозу, интонаций, которые и сейчас живут в моей памяти как «модная» проза двадцатых годов.
Об этой прозе оставили нам запись Ильф и Петров в «Двенадцати стульях»:
«Понюхал старик Ромуальдыч свои портянки» и т. д.
Отведением глагола в начало фразы пользовался и Гладков[225]. Гладков был писателем дореволюционным. Вместе с Березовским[226], с Бахметьевым[227] был он в «Кузнице», организации, которая вошла в РАПП с самого начала.
Вышел «Цемент». Успех книги был очень велик.
Протестующие голоса Маяковского с приятелями:
Продают «Цемент»
со всех лотков,
Вы такую книгу, что ли, цените?
Нет нигде цемента,
а Гладков
Написал благодарственный молебен о цементе…
– потонули в гуле одобрений.
РАПП набирал силу. Вышел «Разгром» Фадеева[228] – также встреченный очень хорошо. Все журналы, кроме «Нового ЛЕФа», где О. Брик написал легковесную, но остроумную статью «Разгром Фадеева», поддержали новое произведение.
Вышли «Бруски» Панферова[229], и Панферов стал редактором «Октября».
«Бруски» успешно соперничали с «Поднятой целиной» Шолохова.
Еще раньше «Поднятой целины» Шолохов написал «Тихий Дон». Вышла первая книга. Это была чудесная проза. Я очень хотел бы еще раз испытать те же чувства, которые я испытывал при чтении «Тихого Дона». Прочесть «Тихий Дон» впервые – большая радость.
Всем было ясно, что пришел писатель очень большой.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Прошло вовсе не замеченным первое выступление Пастернака в прозе – повесть «Детство Люверс» и несколько рассказов.
Рассказы были не очень интересными, а повесть замечательна: по емкости каждой фразы, по наполненности, по великой точности наблюдения, по эмоциональности.
Вера Михайловна Инбер[230] появилась на московских литературных эстрадах не в качестве адепта конструктивизма. Отнюдь. Маленькая, рыженькая, кокетливая, она всем нравилась. Все знали, что она из Франции, где Блок хвалил ее первую книгу «Печальное вино», вышедшую в Париже в 1914 году.
Стихи ее всем нравились, но это были странные стихи.
Кто виновен, те ли, та ли, или было суждено,
Но мальчишку доконали карты, женщины, вино.
Над Парижем косо пляшет сеть осеннего дождя.
В Черной кошке пять апашей пьют здоровье вождя.
В том же роде, но гораздо лучше блестящий «Рассказ в рубашке». Место под солнцем Вера Михайловна искала в сюжетных стихах.
Помнится, она сочинила слова известного тогда в Москве фокстрота:
У маленького Джонни
В улыбке, жесте, тоне
Есть много тайных чар,
И чтоб ни говорили
О баре Пикадилли,
Но то был славный бар.
Легкость, изящество – с какими В. М. излагала поэтические сюжеты – сделали ее известной по тому времени либреттисткой.
Тогда была мода осовременивать классику на оперной сцене. Старая музыка, новые слова. Вера Михайловна сочинила песенки к «Травиате», где роман Виолетты был подвергнут анализу с новых общественных позиций. «Травиата» как-то не прижилась с новым текстом, но вот «Корневильские колокола», где песенки тоже переписала Инбер – шли не один сезон.
Работала Вера Михайловна много и энергично. «Сороконожки», написанные ею вместе с Виктором Типотом[231], сделали ее имя широко известным, «Сеттер Джек» и особенно поэма «Васька Свист в переплете» закрепили успех. Этой поэмой Вера Михайловна ответила на всеобщее тогдашнее увлечение уголовной романтикой.
Писала она и великолепную прозу. «Тосик, Мура и ответственный коммунист» помнят все. Рассказы эти читались с эстрады. Выступала Вера Михайловна часто, охотно и быстро заняла «место под московским солнцем».
Несколько неожиданно оказалось, что Вера Инбер – член литературной группы конструктивистов. В ней не было ничего фанатичного, ограниченного. Для того чтобы поверить в откровения «паузника», Вера Михайловна была слишком нормальным человеком, слишком любила настоящую поэзию и понимала, что стихи не рождаются от стихов. В. М. была – велик ли ее поэтический талант или мал – все равно – носительницей культуры, культуры общей, а не только культуры стиха.
Позже еще более удивительным было участие Багрицкого в этой группе.
Впрочем, Вера Михайловна неустанно подчеркивала свою приверженность к «ямбу»: «Я – за ямб».
Бывали литературные вечера, где Вера Михайловна читала одна, Инберовские вечера. Я был на одном таком ее вечере в клубе I МГУ. Кажется, «Америка в Париже» – такова была тема этого вечера – отчета о заграничных впечатлениях.
В этой лекции Вера Михайловна много говорила о Диккенсе. Видно было ее горячее желание спасти для молодежи настоящее, подлинное искусство Запада.
«Когда я волнуюсь, я беру «Домби и сын», сажусь на диван, и дома у меня говорят:
«Тише, тише… Мама читает Диккенса».
Кто из конструктивистов был поэтом по большому счету? Кто знал это тонкое что-то, составляющее душу поэзии? Один Багрицкий, и то в двух-трех своих стихотворениях. Может быть, Вера Инбер – в более раннем и в более позднем – в «Пулковском меридиане»? Может быть.
Остальные же: Сельвинский, Агапов, Адуев, Луговской, Панов – казались нам не поэтами, а виршеписцами. Живой крови не было в их строчках. Не было судьбы.
Багрицкий в болотных сапогах, в синей толстовке читал «Думу про Опанаса» весьма горячо. Багрицкого все любили. Я стоял как-то недалеко от него во время его беседы с поклонниками.
– Что мы? Пушкин – вот кто был поэт. Все мы его покорные, робкие ученики.
Чтец Багрицкий был превосходный. «Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым» нравился всем. Читал его Багрицкий всюду. Коля Дементьев[232], в ту пору студент литературного отделения Этнологического отделения I МГУ, краснея, бледнея, волновался всячески, приглаживая белокурые, густые волосы. Дементьев напечатал «Ответ Эдуарду».
Романтику мы не ссылали в Нарым,
Ее не пускали в расход…
Еще раньше Дементьев напечатал у Воронского в «Красной нови» «Оркестр» и стихотворение «Инженер». Знаменитая «Мать» была написана позже.
Дементьев был одаренным поэтом, чрезвычайно располагающим к себе человеком, излишне нервным, импульсивным. У него оказалась душевная болезнь, и он покончил с собой в психиатрической лечебнице – выбросился в пролет лестницы.
Переехал в Москву Юрий Карлович Олеша[233]. Первая его книга «Зависть» имела шумный читательский успех. Театр Вахтангова поставил «Заговор чувств». Мейерхольд видел в Олеше «своего» автора. Для Мейерхольда Олеша написал «Список благодеяний» – пьесу вполне добротную. Была напечатана сказка «Три толстяка». Но потом что-то застопорилось в писательском механизме Олеши. Олеша считал себя неудачником. Многие считают его нераскрывшимся крупным писателем. Другие называют его автором оригинальных книг, написанных рукой писателя-экспериментатора. Мне лично все творчество Олеши кажется простым переводом из Жана Жироду[234]. Романов Жана Жироду у нас в те годы переводилось очень много. Жироду оставил лозунг «Сравнивай любое с любым». Вот это «раскрепощенное» сравнение и есть суть литературной манеры Олеши.
Повесился и подававший большие надежды поэт Кузнецов. Его смерти посвящено стихотворение Светлова:
У меня печаль,
У меня товарищ в петле.
Светлов, вместе с Ясным и Михаилом Голодным, окончивший ЛИТО[235], писал стихи день ото дня удачнее. Рапповская критика объявила его «русским Гейне».
Была написана знаменитая позже «Гренада». «Гренада» была стихотворением, чрезвычайно отвечавшим тогдашним настроениям молодежи. Идеи интернационализма были в эти годы очень сильны, небывало сильны, и «Гренада» отражала их в полной мере. Успех «Гренады» того же порядка, что и успех стихотворения Симонова «Жди меня».
…Алексей Гастев[236] (Дозоров) был ярким, заметным поэтом. Подражал Верхарну.
Мы растем из железа…
– читали на всех литературных вечерах.
Я хочу тебя услышать, Гастев,
Больше, чем кого из остальных,
– писал Асеев.
Но поэт Гастев занят был в эти годы вовсе другим делом. Он создал и возглавил «Центральный институт труда», где разрабатывал вопросы подготовки массовых профессий. Имя его, как некоего советского Тэйлора, было весьма значительным. Ни в литературе, ни в поэзии Гастев до конца жизни не участвовал.
Каждую весну приезжал из Крыма Грин[237], привозил новую книгу, заключал договор, получал аванс и уезжал, стараясь не встречаться с писателями.
На дачу Грина в Феодосии приехал поэт Александр Миних[238]. Грин велел сказать, что встретится с Минихом при одном условии – если тот не будет разговаривать о литературе.
Когда-то был такой случай в шахматном мире. Морфи[239], победив всех своих современников и сделав вызов всем шахматистам с предложением форы – пешки и хода вперед, – внезапно бросил шахматы, отказался от шахмат. Шахматная жизнь шла, чемпионом мира стал молодой Вильгельм Стейниц[240]. Однажды Стейниц был в Париже и узнал, что в Париж приехал из Америки Морфи. Стейниц отправился в гостиницу, где остановился Морфи, написал и послал тому записку с просьбой принять. Морфи прислал ответ на словах: если господин Стейниц согласен не говорить о шахматах, он, Морфи, готов его принять. Стейниц ушел.
Миних тоже не добился желанной встречи с Грином.
Нина Николаевна[241], жена Грина, была еще молодой девушкой. Ей было восемнадцать лет, когда она вышла за сорокалетнего Грина. Говорили, что Грин держал ее взаперти – даже на рынок Нину Николаевну провожала какая-то тетка, вроде дуэньи. Но после смерти Грина Нина Николаевна сказала, что каждый день жизни с Грином был счастьем, радостью.
Грин и в Феодосии, и позже в Старом Крыму (где было поглуше, поменьше людей) вел образ жизни размеренный по временам года. Весной приезжал из Москвы с деньгами, расплачивался, нанимал дачу, бродил около моря (в Феодосии) и в лесу; осенью переезжал в город, играл на бильярде в приморских ресторанчиках, играл в карты. Зимой садился писать. Деньги уже были истрачены, Грин жил в долг и к весне кончал новую книгу. Весной ехал в Москву, продавал рукопись, возвращался с деньгами, расплачивался, нанимал дачу и так далее с равномерностью времен года.
Все это рассказывал мне Александр Миних, поэт. Он считал Грина гением.
Приехал из-за границы Алексей Толстой[242], писатель западного склада, хороший рассказчик. Повести, рассказы и пьесы сыпались одна за другой – на сцены театров, на страницы журналов, на экран кинематографа. «Аэлита» с Церетели – Лосем[243], Солнцевой – Аэлитой[244], Баталовым – Гусевым[245] была встречена шумно.
Рекламировалась «Аэлита» тем же самым способом, каким позднее в 1938 году Орсон Уэллс[246] вызвал панику по всей Америке своей реалистической постановкой «Борьбы миров» Уэллса.
В газете «Известия» на первой странице публиковались сигналы, якобы, пойманные в мировом эфире радиостанциями Земли.
Анта… одэли… ута…
Ученые на третий день расшифровали непонятные сигналы: составилось слово «Аэлита».
Если бы такую рекламу дать этому фильму сейчас, в век космических кораблей – то-то порадовался бы Казанцев[247], сторонник «марсианской» теории происхождения Тунгусского метеорита.
На поиски этого метеорита, упавшего в Восточной Сибири в 1907 году, была отправлена экспедиция академика Кулика[248]. Это тоже знаменательное событие двадцатых годов.
«Терменвокс» – новая музыка – игра на инструменте без прикосновения пальцев – изобретение ленинградского инженера Термена[249] – с великим успехом показывалось в Политехническом музее.
Алексей Толстой жадно искал встречи с новой жизнью, ездил по стране с корреспондентским билетом «Известий», выступал мало. Обязанности газетчика выполнял хорошо – он ведь был военным корреспондентом многих журналов и газет всю войну 1914–1918 годов, дело свое знал, да и общительный характер помогал ему.
Был написан и поставлен «Заговор императрицы» – пьеса, сочиненная Толстым вместе с П. Щеголевым[250]. Пьеса имела успех большой, хотя особыми достоинствами и не отличалась. Новизна темы, материала, изображение живых «венценосцев» – вот что привлекало зрителей.
Пьесу возили даже заграницу, в Париж, где ее смотрел «Митька» Рубинштейн[251], знаменитый петроградский банкир вонных лет России, человек, близкий к Распутину, к царю. Говорят, Митьке пьеса понравилась.
Вскорости Толстым была изготовлена по тому ж рецепту пьеса «Азеф» об известном предателе эсеровской партии[252]. «Азеф» был поставлен актерами Малого театра, где Н. М. Радин[253] играл Азефа, а эпизодическую роль шпика Девяткина – сам автор, граф Алексей Толстой.
Достать билеты на представление, где актерствовал Толстой, не было, конечно, возможности.
В журналах печатались: «Союз пяти», «Гиперболоид инженера Гарина», «Ибикус» – все в высшей степени читабельные вещи, написанные талантливым пером.
Но все, напечатанное до «Гадюки», встречалось как писания эмигранта, как квалифицированные рассказы в сущности ни о чем.
«Гадюка» сделала Толстого уже советским писателем, вступающим на путь проблемной литературы на материале современности.
Алексей Толстой не вступал ни в РАПП, ни в «Перевал».
Особое место в литературной жизни тех лет занимало издательство «Каторга и ссылка»[254] – при Обществе политкартожан и ссыльнопоселенцев. Герои легендарной «Народной воли» были еще живы. Вера Николаевна Фигнер[255] – напечатала свой многотомный «Запечатленный труд», Николай Морозов[256] – так же, как и Фигнер, просидевший в Шлиссельбурге всю жизнь, выступал с докладами, воспоминаниями, с книгами.
Мы видели людей, чья жизнь давно стала легендой. Эта живая связь с революционным прошлым России и ныне не утрачена. В прошлом году я был на вечере в здании Университета на Ленинских горах – на юбилее знаменитых Бестужевских курсов[257]. Мария Ильинична Ульянова, Н. Крупская были бестужевками.
Еще живы были деятели высшего женского образования в России – синие скромные платья, белые кружева, седые волосы, простые пластмассовые гребни. Необычайное волнение ощущал я на этом вечере – то же самое чувство, что и на «мемуарных» вечерах когда-то в клубе б. политкаторжан.
Двадцатые годы были временем выхода всевозможных книг о революционной деятельности. Исторические журналы открывались один за другим.
Это народовольцы,
Перовская,
1-е марта
Нигилисты в поддевках,
Застенки,
студенты в пенсне.
Повесть наших отцов, —
точно повесть
Из века Стюартов,
Отдаленней, чем Пушкин,
И видится
точно во сне.
(Пастернак. «Девятьсот пятый год»)
Очень важно видеть этих людей живыми, наяву.
Я помню приезд в Москву Постава Инара[258] – участника Парижской коммуны, седого крепкого старика.
Связь времен, преемственность поколений ощущалась как-то необычайно ярко.
Писательская жизнь шла в литературных объединениях. Никакого организованного общения с деятелями науки или других искусств писатели не имели.
Уже позднее, с начала тридцатых годов, получил я приглашение из Дома писателей на встречу работников науки и искусства. Я пошел. Председательствовал Семашко[259]. Вересаев оживленно наводил на выступавших свой слуховой рожок. Из ученых были братья Завадовские[260], Лискун[261], еще молодой тогда математик Гельфонд[262]. Все деятели науки были выше писателей на целую голову в общекультурном смысле. Они все читали, все знали из тех предметов, которые полагается знать писателю. Писатели же выглядели убого. Вересаев[263] пробормотал несколько слов о пользе переводов Гесиода и Вергилия и сел.
Мой сосед, писатель Даниил Крептюков[264] (был такой), отметив важность союза науки и художественного слова, стал почему-то рассказывать о своей дореволюционной, даже довоенной службе в лейб-гвардии, о том, как он стоял на карауле в саду, а великие князья развратничали, утешаясь с балеринами.
Это – самая первая, как мне кажется, организованная встреча с учеными на «писательской», так сказать, почве, «физиков» и «лириков» тогдашних времен.
Из одного объединения в другое переходили крайне редко. Наиболее эффективно перешел Луговской[265] от конструктивистов в ВАПП. И Луговской, и его новые друзья решили обставить этот переход как можно более торжественно и поучительно. Луговским была сочинена огромная речь, произнесенная на заседании правления ВАПП. Под названием «Мой путь в пролетарскую литературу», где подробнейшим образом перечислялись качества новой организации, которой только теперь оказался достоин он, Луговской. Речь была напечатана в «Известиях», заняла полторы полосы газеты. А на следующий день все газеты напечатали постановление ЦК партии о роспуске ВАППа.
Единственный случай подобного рода. Вряд ли Луговской в течение всей его жизни оправился от этого удара.
Я хорошо помню процесс Савинкова[266]. Закрытое заседание Военной Коллегии Верховного Суда. Есть прокурор, есть судьи, есть обвиняемый. Нет ни свидетелей, ни защитников. Идет исповедь, трехдневный рассказ о своей жизни ведет человек, литературный портрет которого Черчилль включил в свою книгу «Великие современники». Террорист Борис Савинков. Организатор контрреволюционных восстаний. Философ, член Русского религиозно-философского общества. Генерал-губернатор Петрограда в 1917 году. Эмигрант. Русский писатель Борис Савинков. Его романы «Конь бледный», «То, чего не было» были хорошо известны.
Вскоре после процесса вышла его книга «Конь вороной». Ропшин – его литературное имя.
Каждая из семи статей, ему предъявленных, угрожала расстрелом. Его и приговорили к расстрелу, но, «учитывая чистосердечное его раскаяние», расстрел был заменен десятью годами тюрьмы.
Савинков в заключении писал мемуары, рассказы, ездил даже иногда по Москве в автомобиле с провожатым – смотрел новую жизнь.
Он был оскорблен приговором. Он ждал освобождения. Писал заявления неоднократно. Ему отвечали отказом, и он покончил с собой, выпрыгнув из окна пятого этажа тюрьмы.
Луначарский в предисловии к сборнику рассказов Савинкова, вышедшему уже после его смерти в «Библиотеке «Огонька», пишет, что правительство не могло принять иного решения. Его раскаяние могло быть вовсе не долговечным, а оставлять на свободе столь высокого мастера динамитных дел было опасно.
Москва, да и не одна Москва, была взволнована его процессом, его смертью.
А выстрел Штерна[267]? На углу Леонтьевского и Большой Никитской молодой студент по фамилии Штерн выстрелил в машину немецкого посла, шедшую из посольства. Штерн стрелял почти в упор, разрядил всю обойму браунинга. Три пули попали в человека, который сидел в машине. Его увезли в больницу, оперировали. Это был советник посольства, фон Твардовский, а не посол. Посол остался в посольстве. Выстрелом Штерн хотел вызвать войну между Германией и Россией, повторив выстрел Блюмкина. У Штерна был друг, подлинный организатор покушения, московский бухгалтер Васильев. Обоих судили, дали по десять лет.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Много говорили в Москве о раскрытом тайном публичном доме балерин и артистов оперетты, где нэпачи заказывали «дам» по фотографиям. Лев Шейнин[268] рассказал о нем в своем очерке «Генеральша Апостолова». Шейнин не назвал ни одной фамилии. Не буду называть и я.
А общество «Долой стыд»? Ведь это не какой-нибудь рок-н-ролл или твист – члены этого общества гуляли по Москве нагишом, иногда только с лентой «долой стыд» через плечо…
Мальчишки, зеваки шли толпами за адептами этого голого ордена. Потом московская милиция получила указания – и нагие фигуры женщин и мужчин исчезли с московских улиц. Года три тому назад я держал в руках выгоревший листок газеты «Известия» со статьей самого Семашко по этому поводу. Народный комиссар здравоохранения осуждал от имени правительства попытки бродить голыми «по московским изогнутым улицам». Никаких громов и молний Семашко не метал. Главный аргумент против поведения членов общества «Долой стыд», по мнению Семашко, был «неподходящий климат, слишком низкая температура Москвы, грозящая здоровью населения – если оно увлечется идеями общества «Долой стыд». О хулиганстве тут и речи не было.
А «дело трех поэтов»? Процесс этот шел в Московском городском суде – толпы людей во всех переулках, дворах… В Колонном зале Дома Союзов в это время шел шахтинский процесс. Крыленко[269] читал обвинительную речь при полупустом зале, хотя важность, значимость того и другого процессов для судеб страны несоизмеримы. Обывательский интерес победил – в тысячный раз.
Но все же «дело трех поэтов» – небольшой, но яркий штрих времени. Он отражает время – это был двадцать восьмой год. В процессе этом есть черты очень характерные. Покончила самоубийством студентка Высших литературных курсов, что существовали вместо Брюсовского института, Исламова, красивая молодая жена одного из секретарей Компартии Закавказья. Покончила она после ночи, проведенной в гостинице «Гренада» на Тверской улице. Это та самая гостиница «Гренада», которая вдохновила Михаила Светлова на известные стихи.
В номере «Гренады» была вечеринка, куда Исламова пришла вместе с подругой в гости к трем студентам тех же Литературных курсов, где училась Исламова. По случайности фамилии всех начинались на букву «А» – Анохин, Аврущенко и Альтшуллер. Собственно говоря, Альтшуллер – главный герой процесса – не был поэтом. Он был прозаик, но процесс был окрещен «делом трех поэтов».
Из гостиницы подруга Исламовой вскоре ушла, а Исламова осталась, ее напоили и изнасиловали – сначала Альтшуллер, потом Аврущенко, потом Анохин. Такова была версия обвинения.
Наутро Аврущенко позвонил Исламовой на квартиру и спросил – как она себя чувствует? Она повесила трубку, взяла револьвер мужа и застрелилась.
Защищал Алтшуллера Рубинштейн, известный московский защитник. Он строил защиту на том, что тут не было никакого изнасилования, что если тут кто и изнасилован – то это Альтшуллер.
Аврущено и Анохин отрицали и во время предварительного следствия, и на суде свою вину. «Я только пить подавал», – говорил Анохин.
Альтшуллер же предъявил суду более десятка записок Исламовой, адресованных ему, Альтпгуллеру любовных записок, в подлинности которых сомнений не было. Альтшуллер был приговорен к восьми годам, Аврущенко – к четырем и Анохин – к двум. Защитник Рубинштейн перенес дело выше и проиграл его.
Рубинштейн выступал в печати – писал, что произошла судебная ошибка.
Один из этих трех «поэтов», Владимир Аврущенко был в одном со мной литературном кружке – при журнале «Красное студенчество»[270]. Кружок, где старостой был Василий Цвелев, а руководителем Илья Сельвинский.
На очередное собрание кружка Цвелев явился хмурый. «Придется клеймить». И мы «заклеймили» Аврущенко.
Аврущенко печатался. В войну он был убит – фамилия его есть на мраморной доске в Доме литераторов.
Какую-то «литзапись» или очерк Альтшуллера я встречал в печати.
Об Анохине не слыхал больше ни слова.
Цензура в те времена действовала не очень строго – о том, чтобы приглушить, спугнуть молодой талант, никто не мог и подумать.
Я знаю всего два случая конфискации журналов, уже вышедших, с перепечаткой изданного.
Оба раза журнал был разослан подписчикам, продавался в киосках.
В Ленинграде один очеркист заключил пари на ведро пива, что напечатает матерщину – вещь, немыслимая в России. Именно поэтому мы никогда не читали полного Рабле. Вышедший в 1961 году новый перевод Н. Любимова также подвергся «целомудренным» купюрам.
Матерщину, всю, как есть, можно было найти только в словаре Даля да в докладах-отчетах Пушкинского Дома Российской академии наук.
Однако речь шла не о классиках, не о научном тексте, а об обыкновенном хулиганстве. И само пари – ящик пива! – характерно.
Журнал «Смена», где был напечатан сей криминальный очерк, вышел в свет.
Через несколько дней номер журнала продавался до 20 рублей золотой валюты – червонца с рук. Журналист выиграл пари. Как он это сделал?
Был напечатан большой очерк о фабрично-заводском быте. В текст очерка была вставлена восьмистрочная частушка-акростих, заглавные буквы составили матерное слово.
Журналиста судили и дали ему год тюрьмы за хулиганство в печати. Редакция получила выговор. К суду привлекался и корректор издательства, но тот виновником себя не признал, заявив, что он, корректор, «обязан читать строки слева направо, а не сверху вниз. Он – не китаец, не японец». Объяснения были признаны заслуживающими внимания, и корректор был оправдан.
Второй случай касается «Повести непогашенной луны» Бориса Пильняка. У моих знакомых долго хранились присланные издательством два пятых номера «Нового мира» за 1926 год. В одном есть повесть Пильняка, в другом – нет. Я сам читал эту повесть в библиотеке, в читальном зале, но, когда захотел перечесть – не нашел.
Этот небольшой рассказ – 5–6 страниц журнального текста – назван «Повесть непогашенной луны». Посвящение «А. К. Воронскому, дружески. Б. Пильняк». Небольшая «подсечка» петитом: «Если читатели предполагают, что в рассказе речь идет об обстоятельствах смерти тов. Фрунзе, то автор заявляет, что это – не так».
Говорили, что Пильняк отнес рукопись в «Красную новь», редактором которой был Воронский. Воронский отказался печатать такой рассказ. Тогда Пильняк передал рукопись в «Новый мир», Вячеславу Полонскому и посвятил «Воронскому, дружески». Полонский напечатал «Повесть непогашенной луны».
Нашим любимым театром был Театр Революции. Нашей любимой артисткой – Мария Ивановна Бабанова[271].
Я слышу и сейчас ее удивительный голос – будто серебряные колокольчики звенят. Нам все нравилось в ней: и то, что она плакала в Театре Мейерхольда, отказываясь от роли проститутки, и то, как играла мальчика-боя в пьесе Третьякова «Рычи, Китай», Стеллу в «Рогоносце», Полину в «Доходном месте».
Мы любили ее за то, что она ушла от Мейерхольда, и с восторгом твердили сочиненные кем-то плохонькие вирши:
Вы знаете, от Вас ушла Бабанова,
И «Рогоносец» переделан заново,
Но «Рогоносец» был великодушен,
А режиссер как будто не совсем.
Мальчик Гога в «Человеке с портфелем» – одна из любимых ее ролей, Жоржетта Бьенэмэ – в «Озере Люль», наконец, Джульетта, Джульетта, Джульетта.
Я помню, как Дикий рассказывал о первой работе Бабановой в Театре Революции, где был главным режиссером.
Бабанова читала с тетрадкой. Сказала фразу и спросила:
– Здесь переход. Куда мне идти – налево или направо?
– А куда хотите, туда и идите, – безжалостно сказал Дикий.
С Бабановой сделался истерический припадок, слезы. Репетиция была прервана.
Ведь у Мейерхольда, где Бабанова играла раньше, было все размерено по ниточке, все мизансцены рассчитаны точно и переходы актера намечены мелом.
Дикий рассказывал, что он сделал это нарочно, чтобы сразу выбить все «мейерхольдовское».
Двадцатые годы – расцвет русского театра. Большие артистки заявляли о себе одна за другой: Алиса Коонен[272], Тарасова[273], Еланская[274], Гоголева[275], Пашенная[276], Бакланова[277], Попова[278], Глизер[279] – им нет счета.
На Большой Дмитровке в том здании, где сейчас Оперно-музыкальный театр им. Немировича-Данченко и Станиславского, размещался один из интереснейших экспериментальных театров Москвы того времени, времени больших исканий.
Это был «Семперантэ» – театр импровизации под руководством актера А. Быкова[280].
Спектакли здесь игрались без текста, был лишь сценарий, сюжетный каркас, а диалоги актеры должны были импровизировать. Внутренняя работа актера над ролью обнажалась, актер работал, что называется, на глазах зрителя.
Быков и его жена артистка Левшина[281] сумели увлечь своими идеями многих актеров. Этот театр существовал несколько лет, да и тогда, когда его закрыли, Быков и Левшина продолжали выступать с «Гримасами» – лучшим своим спектаклем еще несколько лет на случайных сценах. В «Семперантэ» были поставлены «Приключения мистера Веста в стране большевиков» Н. Асеева.
Но все же умение и талант Быкова не нашли дороги в большое искусство.
Театр этот оказался как-то без будущего.
Любовь зрителей, интерес и внимание возвратились к Художественному, Малому, Вахтанговскому театрам, студиям МХАТа, Театру имени Мейерхольда.
Московский зритель двадцатых годов помнит, конечно, успех Михаила Чехова[282]. Михаил Чехов, племянник Антона Павловича, был актером мирового значения. Каждый новый спектакль, в котором он участвовал, был театральным событием – от Хлестакова до Эрика XIV в пьесе Стриндберга. Чехов был директором II МХАТа, который помещался в театре бывш. Незлобина около Большого театра. Здесь Чехов и ряд актеров театра вместе с ним увлекались антропософией. С учением Штейнера[283] их познакомил автор «Петербурга» – в этой инсценировке Чехов играл главную роль сенатора Аблеухова – Андрей Белый. Чехов и его друзья перестроили репертуар театра, введя туда эсхиловскую «Орестею», наметив еще ряд пьес.
Против намерений Чехова протестовала группа актеров (Образцов[284], будущий кукольник, Ключарев[285], режиссер А. Дикий[286]).
Актеры ушли из театра, а Чехов уехал в Германию, играл там у Рейнхардта[287], потом переехал в Америку.
В двадцатые годы у нас был поставлен кинофильм с его участием «Человек из ресторана» по повести Ивана Шмелева[288]. Фильм хорошо известен.
В Художественном театре дороги Станиславского и Немировича-Данченко все более расходились. Они и друг с другом не разговаривали. Немирович считал себя несколько оттертым в сторону «системой». Никто в мире не говорил «Система Немировича». Как-то так выходило, что Немирович – обыкновенный режиссер около гения Станиславского. Приветствия из-за рубежа, телеграммы-вызовы – все это шло как-то само собой в адрес Станиславского, а не Немировича.
Станиславский, в свою очередь, как-то охладел к Художественному театру, возился со своей новой студией. Выпускаемые спектакли показывали Станиславскому на дому.
Была сделана попытка примирения двух состарившихся врагов-друзей. В конце концов, удалось уломать обоих. Встретиться они должны были в Художественном театре, в уборной Станиславского, где тот уже много лет не был. А Немирович должен был отворить дверь и войти, как бы случайно, без стука.
Все мизансцены были согласованы и намечены.
Станиславский приехал в театр, сел в свое кресло, Немирович с толпой друзей отворил дверь уборной Станиславского… И тут случился пустяк: Немирович, входя слишком торопливо, запнулся за порог и упал ничком. Станиславский мгновенно вскочил, поднял с полу Немировича и не мог удержаться от остроты. Он сказал, улыбаясь:
– Владимир Иванович, ну зачем же в ноги…
Больше в жизни они не встречались.
Славин[289] написал великолепную пьесу «Интервенция» и поставил ее в Театре Вахтангова. Спектакль был замечательный, солнечный. Я был на одном из первых спектаклей и помнил несколько лет «Интервенцию» наизусть. Мы повторяли в общежитии сцены из этой пьесы. Журавлев[290] – Жув, Толчанов[291] – Филипп, Горюнов[292] – Сестен, Мансурова[293] – Жанна Барбье – запомнились мне на всю жизнь. И пусть я знал, что настоящей Жанне Барбье было 45 лет, когда Ленин послал ее в Одессу, а Мансурова играла знаменитую французскую подпольщицу-большевичку юной девушкой – чепуха. Почему у нас не напишут книгу о Жанне Барбье? О Джоне Риде[294] написано очень много, а Жанна – не менее красочная фигура. Расскажут о жизни, сгоревшей в огне революции, о героической смерти французской революционерки.
На примере спектакля «Интервенция» я узнал, что такое «заигранная» пьеса и хорошо понял и почувствовал Мейерхольда, который каждый вечер, буквально каждый вечер сидел в зрительном зале своего театра, следя, чтобы пьесу не «заиграли».
Через несколько лет я смотрел «Интервенцию» с тем же почти составом актеров. Но, боже мой, что это была за пьеса?! Все актеры бормотали свои реплики едва разборчиво, пропускали слова, целые фразы. Я-то ведь знал пьесу наизусть.
Глубоко огорченный, ушел я из Вахтанговского театра.
Славин был тоже из «Юго-Западной школы». Первая его повесть «Наследник» написана была блестяще, задумана и решена очень интересно. Его герой – наследник чеховского «Иванова». Как сын Иванова поступил бы во время революции? На чьей стороне были бы его симпатии? Кому служили его дела? Фамилии героев «Наследника» – чеховские: князь Шабельский, купчиха Бабакина.
Некоторая книжность, литературность «Наследника» не мешала видеть в Славине большого писателя, вступающего в литературу. Но после «Наследника» Славин ушел в кино, работал долго как кинодраматург, стал квалифицированным кинодраматургом.
Был напечатан неплохой его рассказ «Женщина» – построенный на тех же принципах, что и «Наследник», – там действуют Чарли Чаплин, Эгон Эрвин Киш[295].
Театры один за другим брали новые рубежи. Первым был театр МГСПС, руководимый Любимовым-Ланским[296]. Он поставил «Шторм» Билль-Белоцерковского[297]. Это был первый спектакль о современности на сцене «настоящего» театра. Спектакль был принят горячо и бурно – жизнь заговорила со сценических подмостков громким, полнозвучным голосом. Спектакль много лет оставался в репертуаре театра. Пьеса обошла провинцию с триумфом. Реализм Председателя Укома, братишки, профессора был бесспорен. Такими эти герои и были в жизни.
Прошло много лет. В 1960 году Билль-Белоцерковского пригласили написать сценарий для фильма. Драматург написал, повторив характеры пьесы без изменений. Фильм провалился. Рецензенты твердили в один голос, что такого безграмотного председателя Укома быть не могло, что братишка не реален, профессор надуман. Вкусы и точка зрения изменились. А Билль-Белоцерковский старался честно повторить старый спектакль, для своего времени в высшей степени правдивый в каждой фразе, в каждой ситуации.
Рубежом Художественного театра был «Бронепоезд 14–69» Всеволода Иванова. Потом был «Хлеб» Киршона[298], афиногеновский «Страх»[299]. Это были пьесы посредственные.
Первой пьесой, поставленной Малым театром, была «Любовь Яровая» Тренева. Драматург очень много работал с театром. Успех постановки был большой.
Остужев[300] ставил «Уриэля Акосту». Удивительна судьба Остужева. Глухой, он не только заставил себя заняться любимой профессией, но стал в ней величиной нешуточной. В двадцатые годы он еще не был народным артистом Советского Союза, но имя его было уже хорошо известно.
Другой пример того, что страсть все преодолевает, – актерская судьба Абдулова[301]. Абдулов – без ноги. Вместо одной ноги – протез. Актер без ноги. Нонсенс. Абдулов не только стал видным актером Театра Завадского[302], он снимался в кино во многих фильмах, с успехом сыграл самые разнообразные роли. Мы хорошо помним генерала Бургойла из «Ученика дьявола» Б. Шоу. Впрочем, тогдашний чемпион мира по авиационным перелетам американский летчик Вилли Пост был одноглазым, потерял глаз еще до того, как сел за руль самолета.
Помню похороны Ермоловой, толпу у памятника Островскому близ Малого театра, старика Южина без шапки, в расстегнутой шубе – вспышки белого пара около его рта, – я стоял далеко, слов нельзя было разобрать.
Смирнов-Сокольский[303], молодой, с белым бантом на вельветовой толстовке, читал в саду Эрмитаж свои фельетоны. Останется ли в искусстве Смирнов-Сокольский? Как книжник-любитель? Не знаю. Наверняка останется как человек, купивший дневник Бунина.
. . . . . . . . . . . . . . . .
В студенческом общежитии, в нашей комнате освободилась койка, которую занимал студент консерватории по классу виолончели. Виолончель в комнате звучала как автомобильная сирена низких тонов. Нам виолончелист мешал заниматься, и мы были рады, когда он получил место в консерваторском общежитии.
Новый сосед был татарин, маленький, стройный, гибкий, плохо владевший русским языком. По вечерам, когда все пять жителей комнаты брались за книги и конспекты и громко говорить было запрещено, новый жилец раскладывал на койке тетрадки и, размахивая руками, что-то шептал. Это был Муса Залилов, будущий Джалиль[304]. К нему скоро все привыкли, часто просили читать стихи, русские, конечно. Залилов охотно читал Пушкина, только ошибался в ударениях, в произношении:
Сижу за решэткой, в темнице сирой…
– Пушкин! Хорошо! А вот, слушайте! – Залилов прочел стихотворение, глаза его заблестели.
– Это твое, Муса?
– Да.
Какие кому суждены испытания, в двадцатые годы сказать было нельзя.
Вместе со своим другом прошагал я не одну ночь «по московским изогнутым улицам», пытаясь понять время и найти свое место в нем. Нам хотелось не только читать стихи. Нам хотелось действовать, жить.
Москва, ноябрь 1962.
21
Ермилов Владимир Владимирович (1904–1965) – критик, литературовед, поборник «социалистического реализма».
22
Войтоловский Лев Наумович (1876–1941) – прозаик, критик, автор «Очерков по истории русской литературы XIX и XX вв.», ч. 1–2. М. – Л., 1927–1928.
23
Машинский Семен Иосифович (1914–1978) – литературовед. С 1960 – профессор Литературного института им. М. Горького. Основные труды посвящены русской литературе XIX в.
24
Третьяков Сергей Михайлович (1892–1939) – писатель, один из теоретиков Левого фронта искусств (ЛЕФа), «Рычи, Китай», 1926 г., поэма, позже переделанная в пьесу. Необоснованно репрессирован.
25
Фриче Владимир Максимович (1870–1929) – литературовед и искусствовед, 1904–1910 преподавал в МГУ, с 1929 – академик АН СССР. Фриче обосновывал в своих работах новую методологию, опираясь на взгляды Г. В. Плеханова; стремился установить «социальную доминанту» историко-литературного процесса.
26
Коган Петр Семенович (1872–1932) – историк литературы, критик, профессор I и II МГУ, с 1921 – президент Государственной Академии художественных наук (ГАХН). Популярный лектор по истории современной литературы.
27
РАПП – Российская ассоциация пролетарских писателей (1925–1932), ей предшествовала Всероссийская ассоциация российских писателей (с 1920), возглавляемая группой «Кузница». В 1923 руководство перешло к группе «Октябрь», связанной с журналом «На посту». Тогда же организовалась Московская организация пролетарских писателей (МАПП), в которую вошли группы «Октябрь», «Молодая гвардия», «Рабочая весна». В 1925 оформился РАПП как ведущий отряд ВАПП. ВКП(б) поддержала создание РАПП, осудив, однако, крайности напостовцев и указав на необходимость «бережного отношения к попутчикам» (Резолюция ЦК ВПК(б) от 18 июля 1925 г).
28
ЛЕФ (Левый фронт искусств), 1922–1928 – литературная группа, выдвигавшая теорию «социального заказа», «непосредственной пользы, утилитарности искусства». Членами ЛЕФа были В. В. Маяковский, С. М. Третьяков, О. М. Брик, Н. Н. Асеев, А. М. Родченко, Дзига Вертов и др. Издавались журналы «ЛЕФ» (1923–1925), «Новый ЛЕФ» (1927–1928).
29
Лежнев Александр (наст. имя Абрам Зеликович ) (1893–1938) – критик, литературовед, теоретик группы «Перевал». Выступал за «органическое искусство», против теории «социального заказа», пропагандируемого «ЛЕФом». Необоснованно репрессирован.
30
Ольшевец Максим Осипович – журналист, зав. редакцией «Известий ЦИК СССР и ВЦИК».
31
В поисках поэтических путей Шаламов отдал дань увлечения «ЛЕФу», а потом, правда, очень мимолетно – конструктивизму, явно привлеченный сборниками «Мена всех» (1924), «Госплан литературы» (1925), «Бизнес» (1929).
В сборнике «Мена всех» была опубликована «Знаем (Клятвенная конструкция конструктивистов-поэтов)», где провозглашались эстетические требования группы: «конструктивизм есть центростремительное иерархическое распределение материала, акцентированного (сведенного в фокус) в предустановленном месте конструкции», т. е. провозглашался не интуитивный поиск художественных средств, а конструирование поэтического материала.
ЛЦК (литературный центр конструктивистов) самораспустился в 1930 г.
32
Шкловский Виктор Борисович (1893–1984) – прозаик, литературовед, член ОПОЯЗа (Общества изучения поэтического языка), предлагавшего «формальные методы» в литературоведении, членами ОПОЯЗа были также Ю. Н. Тынянов, Б. М. Эйхенбаум, Р. О. Якобсон и др.
33
Тынянов Юрий Николаевич (1894–1943) – прозаик, литературовед, исследователь поэтики литературы и кино, автор романов «Кюхля» (1925), «Смерть Вазир-Мухтара» (1927–1928), «Пушкин» (не окончен, 1935–1943).
34
Томашевский Борис Викторович (1890–1957) – литературовед, текстолог, стиховед, исследователь жизни и творчества А. С. Пушкина.
35
Эйхенбаум Борис Михайлович (1886–1959) – литературовед, исследователь поэтики М. Ю Лермонтова, Н. В. Гоголя и др.
36
Якобсон Роман Осипович (1896–1982) – русский и американский литературовед. С 1921 за границей, один из основателей структурализма в языкознании и литературоведении.
Основные труды посвящены русской поэтике.
Член ОПОЯЗа.
37
Имажинизм – литературная группировка, утверждавшая примат самоцельного образа и формотворчества над идеей. В нее входили С. А. Есенин, А. Б. Мариенгоф, В. Т. Шершеневич, Н. Р. Эрдман и др.
38
Футуристические группы не имели единого центра, имя им, действительно, было легион; эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы, комфуты, «Гилея» (В. Хлебников, В. Маяковский, В. Каменский, А. Крученых), «Центрифуга» (Н.Асеев, С. Бобров, Б. Пастернак), «заумники», «ничевоки» и др. «Русский футуризм был пророком и предтечей тех страшных карикатур и неясностей, которые явила нам эпоха войны и революции» (А. Блок. Собр. соч., т. 6. М., 1962, с. 181.)
39
«Кузница» – литературная группа, основана в 1920, в 1931 влилась в РАПП. Для ее членов характерна пролетарская романтическая лирика в поэзии, а в прозе – романы о рабочем классе и о революции. Журнал «Кузница» издавался в 1920–1922 гг.
40
«Перевал» – литературная группа (1923–1932), возникла при журнале «Красная новь», возглавляемом А. К. Воронским (1921–1927). В группу входили многие «попутчики» (Д. Горбов, А. Лежнев и др.). Группа декларировала реализм, интуицию и самовыражение художника. В «Красной нови» печатались Вс. Иванов, М. Горький, Л. Леонов, И. Бабель, М. Зощенко и др.
«… Некоторые марксисты-литераторы усвоили себе архизаезжательские приемы в отношении к футуристам, серапионам, имажинистам и вообще попутчикам. Особенно входит почему-то в моду травля Пильняка… Выкиньте мысленно из нашего обихода Пильняка и Всеволода Иванова – и мы окажемся на некоторую дробь беднее… Организаторы похода против попутчиков – похода без достаточной заботы о перспективах и пропорциях – избрали одной из мишеней и… тов. Воронского, редактора «Красной нови», и руководителя издательством «Круг» в качестве попутчика и почти соучастника…
Но если мы выкинем Пильняка с его «Голым годом», серапионов с Всеволодом Ивановым, Тихоновым и Полонским Маяковского, Есенина, так что же собственно останется, кроме неоплаченных векселей над будущую пролетарскую литературу?
(Л. Троцкий. «Литература и революция». М., 1991, с. 168–170).
41
Полонский (наст. фам. Гусев) Вячеслав Павлович (1886–1932) – критик, историк, гл. редактор журнала «Новый мир» (1926–1931), активно выступал против «ЛЕФа».
42
Воронский Александр Константинович (1884–1937) – критик, писатель. Автор «Литературных портретов» тт. I, II (1928–1929), автобиографической повести «За живой и мертвой водой» (1927), «Бурса» (1933). Необоснованно репрессирован.
43
Авербах Леопольд Леопольдович (1903–1939) – критик, публицист, общественный деятель, в 1926–1932 редактор журнала «На литературном посту» и генеральный секретарь РАПП. Шурин Г. Г. Ягоды. Необоснованно репрессирован.
44
Асеев Николай Николаевич (1889–1963) – поэт, автор поэм «Лирическое отступление», «Электриада» (1924), «Синие гусары» (1926), «Буденный», «Двадцать шесть», «Семен Проскаков» (1928), «Чернышевский» (1929).
45
Диспут «ЛЕФ или блеф» состоялся в марте 1927 г. после появления в «Известиях» статей В. П. Полонского, направленных против «Нового ЛЕФа». Тезисы диспута (по афише) были таковы: «Что такое ЛЕФ? Что необходимо, чтобы называть лефистом? Где теория ЛЕФа? Где практика ЛЕФа? С кем вы? «Блеф» – его пригорки и ручейки, можно ли разводить людей для плача? Лев Толстой и ЛЕФ. Лев Толстой и блеф. Александр Пушкин как редактор. Будущее по Эдгару По. Куда идет нелефовская литература и что в нее заворачивают? ЛЕФ и кино. Формальный метод и марксизм. Значение тематики сейчас».
«Лефистом мы называем каждого человека, который с ненавистью относится к старому искусству. Что значит «с ненавистью?» Сжечь, долой все старое? Нет. Лучше использовать старую культуру как учебное пособие для сегодняшнего дня, постольку поскольку она не давит современную живую культуру. Это одно. И второе, что для передачи всего грандиозного содержания, которое дает революция, необходимо формальное революционизирование литературы».
46
Левидов Михаил Юльевич (1891–1942) сотрудничал в журн. «Летопись» и газ. «Новая жизнь», издаваемых М. Горьким. После революции работал в области драматургии и журналистики. Был незаконно репрессирован.
47
Сосновский Лев Семенович (1888–1937) – публицист, в 1918–1924 редактор газеты «Беднота», в 1921 зав. агитпропом ЦК РКП(б), затем на государственной и журналистской работе. Необоснованно репрессирован.
48
Рыклин Григорий Ефимович (1894–1975) – журналист, сатирик, автор мемуаров о М. Горьком, В. Качалове, М. Кольцове и др.
49
Рейснер Михаил Александрович (1869–1928) – чл.-корр. ГАХН, профессор права, общественный деятель.
50
Рейснер Лариса Михайловна (1895–1926) – участница Гражданской войны, писательница, жена Ф. Ф. Раскольникова, государственного и военного деятеля, дипломата, автора письма И. В. Сталину, обличающего последнего в необоснованных репрессиях (1938).
51
Рембо Артюр (1854–1991) – французский поэт, написавший полные революционного пафоса стихи, посвященные Парижской Коммуне (1871).
52
Верден Поль (1844–1896) – французский поэт, символист.
53
Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1937) – советский государственный деятель, писатель, критик. С 1917 – нарком просвещения РСФСР и СССР, с 1929 – председатель Ученого комитета при ЦИК СССР.
54
Бриан Аристид (1862–1932) – неоднократно премьер-министр и министр иностранных дел Франции (1909–1931). Лауреат Нобелевской премии мира (1926).
55
Каприйская школа – партийная школа на о. Капри в авг. – дек. 1909, созданная отколовшимися от большевиков фракционными группами – отзовистами и ультиматистами, требовавшими отзыва социал-демократической фракции из Госдумы. В 1909 объединились в группу «Вперед» (А. Богданов, А. Луначарский, М. Покровский, Л. Красин и др).
56
Богданов (наст. фам. Малиновский) Александр Александрович (1873–1928) – чл. РСДРП, в 1896–1909 руководитель группы «Вперед», автор утопических романов «Красная звезда», «Инженер Мэнни». Идеолог Пролеткульта.
57
Пролеткульт – культурно-просветительная и литературно-художественная организация (1917–1932), пропагандировала пролетарскую самодеятельность и нигилистическое отношение к культурному наследию.
58
Розенель-Луначарская Наталья Александровна (1902–1962) – актриса Малого театра, жена А. В. Луначарского.
59
Записка В. И. Ленина к А. Луначарскому, а также его записка к М. Покровскому о В. Маяковском опубликована в журн. «Коммунист», 1957, № 18, атакже в 65-м томе «Литературного наследства». М., 1958. с. 205–216.
Записки касались издания поэмы В. Маяковского «150.000.000» тиражом 5000 экз. В. И. Ленин считал возможным издание футуристических произведений тиражом не более 1500 экз. Вряд ли имело место утаивание этой записки. Весьма скептическое отношение Ленина к футуризму было известно по воспоминаниям Клары Цеткин, А. Луначарского, М. Горького и др.
60
Введенский Александр Иванович (1888–1945) – митрополит русской обновленческой церкви.
61
«Красная нива» – журнал, издавался 1923–1931.
62
Уэллс Герберт Джордж (1866–1946) – английский писатель. Классик научно-фантастической литературы.
63
Красин Леонид Борисович (1870–1926) – советский партийный и государственный деятель, с 1920 – нарком внешней торговли, одновременно полпред и торгпред в Великобритании, с 1924 – во Франции.
64
Ярославский Емельян Михайлович (Губельман Миней Израилевич) (1878–1943) – советский партийный и государственный деятель, академик АН СССР (1939).
65
«Синяя блуза» – возникла в 1923 как жанр агитационных театрально-эстрадных представлений, «живая газета». Теоретиком и руководителем ее был Борис Семенович Южанин. С 1924 «С. Б.» перешла в ведение МГСПС, вскоре группы синеблузников давали представления по всему СССР, в Германии, Польше, Скандинавии. «С. Б.» оказала большое влияние на эстраду. В ее коллективе работали В. Маяковский, О. Брик, А. Арго, В. Ардов, В. Лебедев-Кумач, С. Юткевич и др.
В нач. 1930-х гг. «С. Б.» распалась. В антиромане В. Шаламова «Вишера» описана встреча его с Б. Южаниным в лагере.
66
Арго (Абрам Маркович Гольденберг) (1897–1968) – поэт, сатирик.
67
Кирсанов Семен Исакович (1906–1972) – поэт, входил в объединение ЛЕФ, автор публицистических, социально-философских и лирических стихотворений и поэм «Моя именинная» (1928), «Товарищ Маркс» (1933) и др.
68
Юткевич Сергей Иосифович (1904–1985) – режиссер, теоретик кино, фильмы «Встречный», «Человек с ружьем» и др.
69
Тенин Борис Михайлович (1905–1990) – актер, в 1924 работал в «Синей блузе», в 1925 – в Театре им. Вс. Мейерхольда, затем вернулся в «Синюю блузу», работал в других ленинградских и московских театрах.
70
Коренева Клавдия Петровна (1902–1972) – актриса, в 1924–1926 работала в «Синей блузе», с 1926 – актриса Московского театра для детей, затем – в ЦТСА и Московском театре драмы.
71
Листов Константин Яковлевич (1900–1983) – композитор, автор музыки к операм и опереттам, песням («Песня о тачанке», «В землянке» и др.).
72
Кинотеатр «Центральный» снесен. На его месте построено здание издательства «Известия».
73
Брехт Бертольд (1898–1956) – немецкий писатель, режиссер, основатель театра «Берлинер ансамбль», разработал теорию «эпического театра», дал новаторскую трактовку жанра антибуржуазной сатиры.
74
«Бронепоезд 14–69», пьеса Иванова Всеволода Вячеславовича, поставлена МХАТ в 1927.
75
«Любовь Яровая» – пьеса (1926) Тренева Константина Андреевича (1876–1945), поставлена Малым театром в 1926, в МХАТ – в 1936 г.
76
Берзин Эдуард Петрович (1894–1938) – участвовал в раскрытии заговора главы английской миссии при советском правительстве Р. Локкарта (1918) по заданию Ф. Дзержинского, в 1930–1931 возглавлял строительство Березниковского химкомбината. В ноябре 1931 направлен на Колыму, с 3 декабря 1931 – директор Дальстроя. 19 дек. 1937 арестован в Александрове, направляясь по вызову в Москву, 1 авг. 1938 г. расстрелян.
77
«Земля и фабрика» (ЗИФ) – советское государственное акционерное издательство (1922–1930), Москва – Ленинград. Специализировалось на массовых изданиях произведений классики и советских писателей. Издавало журналы «30 дней», «Всемирный следопыт». Влилось в государственное издательство художественной литературы (ГИХЛ), книгоиздательство «Недра» (1924–1932).
78
«Гудок» – центральная газета железнодорожников. Выходила в свет с декабря 1917 г.
79
Нарбут Владимир Иванович (1887–1938) – поэт, в 1912 примкнул к группе «Цех поэтов». Сборник «Аллилуйя» (1912). Занимался издательской деятельностью в Воронеже, Киеве, Полтаве и др. в 1919–1922 вышли в свет 8 его поэтических книг.
В 1919 попал в плен к деникинцам и под страхом смерти написал отказ от большевистской деятельности. Был освобожден из тюрьмы конницей Б. М. Думенко. С 1922 г. был директором ЗИФ. В 1936 г. арестован и этапирован в Магадан. 7 апр. 1938 г. осужден к расстрелу тройкой УНКВД по Дальстрою.
80
Регинин Василий Александрович (1883–1952) – журналист. Участвовал в создании журналов «30 дней», «Смехач», «Чудак», работал в «Литературной газете», «Огоньке», «Молодой гвардии», писал либретто оперетт.
81
Зенкевич Михаил Александрович (1891–1973) – поэт, переводчик, участник группы «Цех поэтов».
82
Сверчков Дмитрий Федорович (1882–1938?) – поэт, печатался с 1903 г.
83
Пильняк (наст. фам. Вогау) Борис Андреевич (1894–1938) – прозаик: романы «Голый год» (1921), «Повесть непогашенной луны» (1926), «Красное дерево» (1929). Необоснованно репрессирован.
84
«Серапионовы братья» (1921–1929) – название группы было дано по названию кружка друзей в одноименном романе Э. Т. А. Гофмана. Группа собиралась в «Доме искусств» на Невском, в Петрограде. Писатели ставили своей задачей совершенствование профессионального мастерства. Душой группы был рано умерший талантливый писатель Л. Н. Лунц (1901–1924). В группу входили Вс. Иванов, М. Зощенко, В. Каверин, К. Федин, Н. Тихонов, М. Слонимский и др.
85
Павленко Петр Андреевич (1899–1951) – прозаик.
86
Санников Григорий Александрович (1899–1969) – поэт.
87
Киш Эгон Эрвин (1885–1948) – чешско-австрийский писатель, журналист.
88
Иванов Всеволод Вячеславович (см. пр. 54) (1893–1963) – автор повести «Партизаны» (1921), «Цветные ветра» (1922), сб. рассказов «Тайное тайных» (1927) и др.
89
Соболь Андрей (наст. имя Юлий Михайлович) (1880–1926) – прозаик, в юности вел социалистическую пропаганду, в 20-е годы воспринимал действительность как трагический поток событий.
90
Радек (наст. фам. Собельсон) Карл Бернгардович (1885–1939) – деятель международного социал-демократического движения, публицист. Сотрудник газ. «Правда» и «Известия». Необоснованно репрессирован.
91
Раскольников (наст. фам. Ильин) Федор Федорович (см. пр. 30) (1892–1939) – советский государственный и военный деятель, дипломат, литератор. 1920–1921 – командовал Балтийским флотом, 1921–1923, 1930–1938 – на дипломатической работе. Остался за рубежом, обвинив И. В. Сталина в необоснованных репрессиях.
92
Трубецкой Сергей Петрович (1790–1860) – князь, декабрист, полковник. Приговорен к вечной каторге. 1839–1856 – на поселении в Иркутской губернии.
93
Каховский Петр Григорьевич (1799–1826) – декабрист, поручик в отставке. Казнен.
94
Рылеев Кондратий Федорович (1795–1826) – поэт, декабрист, создатель альманаха «Полярная звезда». Казнен.
95
Безыменский Александр Ильич (1898–1973) – поэт, его поэмы: «Комсомолия» (1924), «Трагедийная ночь» (1930), пьеса в стихах «Выстрел» (1929) и др.
96
Сельвинский Илья (Карл) Львович (1899–1968) – поэт, возглавлял группу конструктивистов; поэмы: «Улялаевщина» (1927), «Командарм-2» (1928), «Пушторг» (1928).
97
Моргунов Борис Григорьевич (1920–1997) – артист эстрады.
98
Альвэк Иосиф Соломонович, автор книги «Нахлебники Хлебникова». М., 1927.
99
Хлебников Велимир (Виктор Владимирович) (1885–1922) – поэт-футурист, в зрелых произведениях – стремление к созданию «новой мифологии» и языка будущего свободного человечества.
100
Якобсон Роман Осипович (см. пр. 16). Рукописи Хлебникова были переданы Р. Якобсону в Берлине.
101
Митурич Петр Васильевич (1887–1956) – художник-график, член объединения «Мир искусств».
102
Хлебникова Вера Владимировна (1891–1941) – художник-живописец, поэт, сестра В. Хлебникова.
103
Брик Осип Максимович (1888–1945) – драматург, теоретик ЛЕФа, один из организаторов ОПОЯЗа, значительное исследование «Звуковые повторы» (1917), автор киносценариев «Потомок Чингизхана» (1928) и др.
104
Воспоминания В. Т. Шаламова о Маяковском опубл. в журн. «Огонек», 1936, № 10.
105
Примаков Виталий Маркович (1897–1937) – советский военачальник, комкор (1935). В 1925–1926 – военный советник в Китае, военный атташе в Афганистане и Японии. С 1935 – зам. командующего войсками Ленинградского военного округа. Необоснованно репрессирован.
106
Мариенгоф Анатолий Борисович (1897–1962) – поэт, драматург, входил в группу имажинистов. Автор книги воспоминаний «Роман без вранья» (1927).
107
Кузнецов Николай Андрианович (1904–1924) – прозаик, поэт, член группы «Молодая гвардия». В 1924 г. перешел в группу «Перевал». Покончил с собой.
108
Вертов Дзига (наст. имя Кауфман Денис Аркадьевич) (1895/96–1954) – один из зачинателей и теоретиков советского и мирового документального кино.
109
Родченко Александр Михайлович (1891–1956) – дизайнер, график, мастер фотоискусства, художник театра и кино, оформитель книг, один из зачинателей фотомонтажа, рекламы.
110
Крылов Алексей Николаевич (1863–1945) – кораблестроитель, механик и математик, академик Петербургской АН с 1916, академик АН СССР.
111
Бруссар Анри – исследователь фотоискусства, фотохудожник. Не исключено, что имеется в виду Картье – Брессон Анри, выставка фотографий которого проходила в Москве в 1966 г.
112
Серов Валентин Александрович (1865–1911) – живописец и график. Его портретам М. Н. Ермоловой, М. О. Гиршман и др. присуща выразительность и лаконизм, острота характеристик.
113
Волков-Ланнит Леонид Филиппович (1903–1985) – историк фотоискусства. Шаламов познакомился с ним в кружке «Молодой ЛЕФ», руководимом О. М. Бриком.
114
Арсеньев Владимир Клавдиевич (1872–1930) – исследователь Дальнего Востока, географ и писатель, один из создателей краеведческого направления в научно-художественной литературе.
115
Жаров Александр Алексеевич (1904–1984) – поэт, автор стихов комсомольской тематики текстов популярных песен.
116
Уткин Иосиф Павлович (1903–1944) – поэт, автор поэмы «Повесть о рыжем Мотэле» (1925) и др. сборников стихов, в которых революционный пафос сочетался с бытовыми чертами провинциального еврейства.
117
Анненков Борис Владимирович (1889–1927) – белогвардейский атаман, бывш. казачий офицер, в 1918–1919 жестоко расправлялся со сторонниками советской власти в Казахстане, в 1920 бежал в Китай, в 1926 вернулся в СССР, был расстрелян по приговору суда.
118
Абрамов К. – автор книги «Дар слова» в четырех выпусках: 1 – «Искусство излагать свои мысли». СПб., 1901; 2 – «Искусство разговаривать и спорить». СПб., 1902; 3 – «Искусство писать сочинения». СПб., 1901; 4 – «Искусство произносить речи». СПб., 1902. Второе издание книги – СПб., 1912. «Словарь синонимов». СПб., 1908.
119
Митрейкин Константин Николаевич (1905–1934) – поэт, автор сборников «Бронза» (1928), «Я разбиваю себя» (1931), «Штурм неба» (1934) и др.
120
Зелинский Корнелий Люционович (1896–1970) – литературовед, критик, один из организаторов группы конструктивистов.
121
Агапов Борис Николаевич (1899–1973) – поэт, был членом группы конструктивистов. В сборнике «Госплан литературы» были опубликованы «Основные положения конструктивизма», стихи И. Сельвинского, В. Инбер и Дира Туманного (Н. Панова), при этом особые знаки указывали на определенное произнесение текста.
122
Антокольский Павел Григорьевич (1896–1978) – поэт, автор поэмы «Коммуна 71 года» и др. стихотворений, отличающихся стремлением к историко-культурным обобщениям.
123
Багрицкий (наст. фам. Дзюбин) Эдуард Георгиевич (1895–1934) – поэт, автор стихотворений, проникнутых героикой Гражданской войны.
124
Луговский Владимир Александрович (1901–1957) – поэт, автор стихотворений, воспевавших романтику Гражданской войны и социалистического строительства.
125
Панов Николай Николаевич (пс. Дир Туманный) (1903–1973) – поэт, прозаик, в 1920–1922 был организатором группы презантистов, затем входил в ЛЦК, в сб. «Госплан литературы» (1924) опубликована его поэма «Человек в зеленом шарфе».
126
Маяковский В. В. в 1924 приехал в Одессу и встретился там с С. Кирсановым. В 1925 в Одессе был создан Юго-ЛЕФ, в комитет которого вошел Кирсанов, издавался журнал «Юго-ЛЕФ».
127
Горбов Дмитрий Александрович (1894–1967) – литературовед, переводчик, теоретик группы «Перевал».
128
Тальников (наст. фам. Шпитальный) Давид Лазаревич (1882–1961) – театральный и литературный критик.
129
«Круг» – издательство, руководимое А. А. Воронским (1922–1929), вошло в изд. «Федерация».
130
Машбиц-Веров Иосиф Маркович (1900 – ?) – критик, литературовед, с 1929 преподает в вузах Саратова, Москвы, Самары. В 1931 опубликовал сб. статей «Писатели и современность». Необоснованно репрессирован.
131
Веселый Артем (наст. имя Кочкуров Николай Иванович) (1899–1938) – писатель, в романе «Россия, кровью умытая» (1929, полностью опубл. 1932), главном его произведении, изображена кровавая стихия революции. Необоснованно репрессирован.
132
Воровский Вацлав Вацлавович (1871–1923) – советский партийный и государственный деятель, сотрудник газет «Искра», «Вперед», «Правда». На дипломатической работе с 1917 г. – в странах Скандинавии, с 1921 – в Италии. Убит белогвардейцем в Лозанне.
133
Цюрупа Александр Дмитриевич (1870–1928) – советский партийный и государственный деятель, с 1918 – нарком продовольствия РСФСР, с 1921 – зам. пред. СНК и СТО РСФСР (с 1922 г. – СССР), в 1923–1925 – предс. Госплана СССР, в 1925–1926 нарком внутренней и внешней торговли.
134
Гудзь Игнатий Корнильевич – отец первой жены В. Т. Шаламова, сотрудник Наркомпроса РСФСР и СССР.
135
Мещеряков Николай Леонидович (1865–1942) – литератор, профессиональный революционер, был членом редколлегии газ. «Правда», предс. и гл. ред. Госиздата СССР. В 1927–1938 был гл. ред. 1-го и 2-го изданий МСЭ.
136
«Смена вех» – общественно-политическое движение в среде русской интеллигенции, в основном эмигрантской, возглавляемое Н. В. Устряловым, рассматривающее НЭП как эволюцию развития, сменяющую революционные преобразования общества.
137
Лежнев И. (наст. имя Исай Григорьевич) (1891–1955) – литературовед и публицист. В 1922–1926 под его редакцией выходил журн. «Новая Россия». После закрытия журнала был выслан за границу. В 1930 пересмотрел свои взгляды, в 1933 – восстановлен в ВКП(б).
138
Устрялов Николай Васильевич (1890–1938) – политический деятель, кадет (с 1917), публицист, один из идеологов сменовеховства. В 1935 вернулся в СССР.
139
Демидов Георгий Георгиевич (1908–1987) – физик, находился в заключении с 1938, познакомился с Шаламовым в Центральной больнице для заключенных (пос. Дебин), описан в рассказе «Инженер Кипреев».
140
Португалов Валентин Валентинович (1913–1989) – поэт, переводчик, находился в заключении на Колыме, познакомился с Шаламовым в Центральной больнице (пос. Дебин).
141
Катаев Валентин Петрович (1887–1986) – прозаик, автор повести «Растратчики» (1926), романа-хроники «Время, вперед!» (1931–1932).
142
В 20-е годы высказывались предположения о плагиате. Якобы М. Шолохов воспользовался рукописью Ф. Крюкова. Над писателем был организован суд чести. В газ. «Правда» появилось заявление руководителей РАПП в поддержку авторства М. Шолохова.
143
Клычков (наст. фамилия Лешенков?) Сергей Антонович (1889–1937) – поэт, автор гротеско-сказочной прозы «Чертухинский балакирь» (1926). Книга «Мадур Ваза победитель», вольная обработка поэмы М. Плотникова вышла в 1936 г. Необоснованно репрессирован.
144
Бройде Соломон Оскарович (1892 – ?) – автор книг «Фабрика человеков» (1933), «В плену у белополяков» (1933) и др.
145
Лугин Александр Эммануилович (1891–1967) – поэт.
146
Вермонт Евгений Григорьевич (1907–1948) – журналист.
147
Флоренский Павел Александрович (1882–1937) – русский ученый, философ, богослов, его фундаментальный труд «Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи». Необоснованно репрессирован.
148
Войно-Ясенецкий Валентин Феликсович, епископ Лука (1877–1961) – лауреат Государственной премии за книгу «Очерки гнойной хирургии», архиепископ Симферопольский и Крымский, местночтимый святой с 1995 г.
149
Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967) – поэт, прозаик, автор романа «Необычайные приключения Хулио Хуренито и его учеников» (1921), сатиры-утопии «Трест ДЕ» (1923), романа«Рвач» (1925), повести «Проточный переулок» (1927) – о разгуле нэпмановской стихии, о близкой гибели Европы.
150
Бродский Давид Григорьевич (1899–1966) – поэт, переводчик.
151
Олендер Семен Юльевич (1907–1968) – поэт, переводчик, первая книга стихов «Часовщик».
152
Колычев Осип Яковлевич (1904–1973) – поэт. В 1930 вышла первая книга стихов, в 1935 – книга «У Черного моря».
153
Архангельский Александр Григорьевич (1889–1938) – поэт, пародист. Книга «Пародии» вышла в 1927 г.
154
Зозуля Ефим Давидович (1891–1941) – прозаик, сатирик, погиб на фронте.
155
Кольцов (наст. фам. Фридлянд) Михаил Ефимович (1898–1940) – писатель, журналист, участник Гражданской войны, с 1922 – постоянный сотрудник газ. «Правда», в 1932 основал журнал «Огонек», был его редактором, руководил Журнально-газетным объединением («Жургаз»), участвовал в гражданской войне в Испании, наиболее известная его книга «Испанский дневник» (1938). Необоснованно репрессирован.
156
Северянин Игорь (наст. фам. Лотарев Игорь Васильевич) (1887–1941) – поэт, его стихам свойственна эстетизация салонно-городских мотивов, романтический индивидуализм.
157
Бальмонт Константин Дмитриевич (1867–1942) – поэт-символист. В 1920 г. эмигрировал.
158
Сологуб (наст. фам. Тетерников) Федор Кузьмич (1863–1927) – поэт и прозаик. В романе «Мелкий бес» (1905) в форме гротеска изображена русская провинциальная жизнь.
159
Кукрыниксы – творческий коллектив графиков и живописцев: Куприянов Михаил Васильевич (1903–1991), Крылов Порфирий Никитич (1902–1990), Соколов Николай Александрович (1903–2000).
160
Рыкачев Яков Семенович (1893–1976) – прозаик.
161
Гарри Алексей Николаевич (1902–1960) – прозаик, наиболее значителен цикл рассказов «Огонь. Эпопея Котовского» (1934). В 1938 репрессирован, реабилитирован через 16 лет.
162
Павлов Николай Николаевич – журналист.
163
Смирнов Николай Григорьевич (1890–1933) – прозаик, наиболее известен его «Дневник шпиона» (1929).
164
Шпанов Николай Николаевич (1896–1961) – автор очерков, рассказов, повестей приключенческого и детективного жанра.
165
Никулин Лев Вениаминович (1891–1967) – прозаик, автор романов «Никаких случайностей» (1924), «Тайна сейфа» (1925), «Адъютанты господа бога» (1927).
166
Знакомство В. Т. Шаламова с Осипенко описано в антиромане «Вишера» (глава «Осипенко»).
167
Либединский Юрий Николаевич (1898–1959) – прозаик, его повесть «Неделя» (1922) пронизана романтикой революции.
168
Светлов Михаил Аркадьевич (1903–1964) – поэт, драматург. Его стихи воспевали романтику Гражданской войны, комсомольской юности («Гренада», «Рабфаковка», «Песня о Каховке» и др.).
169
Голодный (наст. фам. Энштейн Михаил Семенович) (1903–1949?) – поэт, автор баллад, песен о героике Гражданской войны («Песня о Щорсе», «Партизан Железняк» и др).
170
Ясный А. (наст. фам. Яновский Александр Маркович) (1903–1945) – поэт, учился на литературном отделении МГУ 1928–1931. Сборники стихов «Каменья» (1923), «Шаг», «Ухабы» (1925), «Ветер в лицо» (1931) и др.
171
Шолом-Алейхем (наст. фам. Рабинович Шолом Нахумович) (1859–1916) – еврейский писатель, писал на иврите, идише и русском языке. С 1914 г. жил в США. Выступал за реалистическую народную литературу, художественный анализ социальных проблем современности.
172
Платонов Андрей Платонович (1899–1951) – писатель. В его своеобразной по стилю прозе мир предстает как трагическая целостность человеческого и природного бытия: повесть «Елифанские шлюзы» (1927), «Город Градов» и др.
173
Теодорович Иван Адольфович (1875–1937) – критик, публицист, общественный деятель, в 1905 г. принимал участие в издании газ. «Пролетарий» в Женеве, имеет труды по истории революционного движения. Необоснованно репрессирован.
174
Дальтон-план – бригадная система обучения, разработанная Е. Паркгерот в г. Дальтоне (США).
175
Анненков Юрий Павлович (1889–1974) – график и живописец, автор острохарактерных портретов писателей, художников, политических деятелей. Иллюстрировал «Двенадцать» А. Блока, с 1924 г. – за границей.
176
Бедный Демьян (наст. фам. Придворов Ефим Алексеевич) (1883–1945) – поэт, автор популярных стихотворений, песен, поэм.
177
Гладков Федор Васильевич (1883–1958) – прозаик, автор романа «Цемент» (1925) и др.
178
Герасимов Михаил Прокофьевич (1889–1939) – поэт, автор сб. стихов «Завод весенний», «Железные цветы» (1919), «К соревнованию» (1930) и др. Необоснованно репрессирован.
179
Кириллов Владимир Тимофеевич (1890–1943) – поэт, деятель Пролеткульта и «Кузницы», автор сб. стихов «Железный Мессия» (1921), «Огни Октября» (1930) и др. Необоснованно репрессирован.
180
Крученых Александр (наст. имя Алексей Елисеевич) (1886–1968) – поэт, теоретик футуризма. Автор книг «Сдвигология русского стиха» (1922), «Гибель Есенина», «Черная тайна Есенина», «Лики Есенина: от херувима до хулигана» (1926) и др.
181
Мериме Проспер (1803–1870) – французский писатель, автор литературной мистификации на сюжеты балканского фольклора «Гузла» (1827).
182
Шершеневич Вадим Габриэлевич (1893–1942) – поэт, прозаик, переводчик, литературный критик, написал книгу, подводящую итог деятельности имажинистов «Итак, итог» (1926).
183
Клюев Николай Алексеевич (1887–1937) – поэт крестьянской патриархальности, «избяной Руси», автор сб. стихов «Песен перезвон» (1912), «Медный кит», «Песнослов» (1919), «Изба и поле» (1928) и др. Необоснованно репрессирован.
184
Шагинян Мариэтта Сергеевна (1888–1982) – прозаик, автор повести «Мисс Мэнд» (1923–1925), «Гидроцентраль» (1930–1931).
185
Островский Николай Алексеевич (1904–1936) – прозаик, автор книги «Как закалялась сталь» (1932–1934).
186
Сапгир Генрих Вениаминович (1928–1999) – поэт, сценарист, представитель экспериментального направления в русской поэзии, оформившегося в постмодернизм.
187
Чичерин Алексей Николаевич (1889–1960) – поэт, участник конструктивистского сборника «Мена вех» (1924), член группы «ничевоков».
188
Романов Пантелеймон Сергеевич (1884–1938) – прозаик. Его произведения 20-х годов «Без черемухи», «Яблоневый цвет», «Черные лепешки», «Актриса» исследуют нравы общества, в т. ч. проблемы пола.
189
Малашкин Сергей Иванович (1888–1988) – прозаик, поэт. Повесть «Луна с правой стороны, или Необыкновенная любовь» посвящена проблеме нравственного растления личности.
190
Гумилевский Лев Иванович (1890–1976) – прозаик. Его повесть «Собачий переулок» послужила поводом к дискуссии о проблемах морали.
191
Лидин (наст. фам. Гомберг) Владимир Германович (1894–1979) – прозаик. Его роман «Отступник» – история студента, убившего и ограбившего профессора (в традиции Ф. М. Достоевского).
192
Григорьев (наст. фам. Григорьев-Патрашкин) Сергей Тимофеевич (1875–1953) – автор исторических романов и повестей, рассказов для детей, в т. ч. «Коммуна Мар-Мила» (1926).
193
Огнев Н. (наст. фам. Розанов Михаил Григорьевич) (1888–1938). Большой успех имела его повесть «Дневник Кости Рябцева» (1926–1927).
194
«Время» – издательство 3. И. Гржебина, существовало в 1919–1923, общее руководство осуществлялось М. Горьким, издавались избранные сочинения русских классиков и современная литература.
195
«Прометей» – русское издательство демократического направления, существовало в 1907–1916, издавались книги по философии, русской истории, истории литературы.
196
Бенуа Пьер (1886–1962), Моран Поль (1888–1976), Арлен Марсель (1899–1986), братья Виктор (1866–1942) и Поль Маргерит (1860–1918) – французские писатели; Локк Уильям Джон (1863–1930), Честертон Гилберт Кит (1874–1936) – английские писатели.
197
Калинников Иосиф Федорович (1890–1934) – поэт, прозаик, автор романа «Мощи» (1925–1927).
198
Орлов-Скоморовский Федор Мартынович (1889 – ?), в 1914 окончил медицинский факультет Дерптского университета, участвовал в первой мировой войне, затем занимался частной медицинской практикой. Изданы его книжки «Голгофа ребенка», «Аборт» (1921), «Ложь отцов», «Любовь платоническая» (1922) и др.
199
Боков Виктор Федорович (р. 1914) – поэт, прозаик, широко использует в своих произведениях поэтические возможности русского фольклора.
200
Прокофьев Александр Алексеевич (1900–1971) – поэт природы и людей русского Севера: «Песня о Ладоге» (1927).
201
Васильев Павел Николаевич (1910–1937) – поэт, очеркист. Автор «Песни о гибели казачьего войска» (1928–1932), поэмы «Соляной бунт», пронизанных скорбью о трагической участи казачества. Необоснованно репрессирован.
202
Зубакин Борис Михайлович (1894–1938) – археолог, поэт-импровизатор.
203
Костров Тарас (наст. фам. Мартыновский Александр Сергеевич) (1901–1930) – журналист, организатор «Комсомольской правды», гл. редактор журн. «Молодая гвардия» (1928–1929).
204
Нариньяни Семен Давидович (1908–1974) – журналист, сатирик, работал в «Комсомольской правде» с 1925, с 1952 – чл. редколлегии газ. «Правда».
205
Жуков Юрий Александрович (1908–1991) – журналист, общественный деятель. Работал в газ. «Комсомольская правда», был соб. кор. «Правды» в Париже. С 1957 – председатель комитета по культурным связям с зарубежными странами, с 1967 – политобозреватель «Правды» в США, затем работал в Советском комитете защиты мира (см. Жуков Ю. «Избранные произведения». М. Мысль. 1988. т. I – II).
206
Степняк-Кравчинский (наст. фам. Кравчинский) Сергей Михайлович (1851–1895) – народник, писатель, автор романа «Андрей Кожухов», очерков «Подпольная Россия», «Россия под властью царей».
207
Ушаков Николай Николаевич (1899–1973) – поэт, первый сб. стихов «Весна Республики» (1927), второй – «30 стихотворений» (1931).
208
Фурманов Дмитрий Андреевич (1891–1926) – прозаик, публицист, партийный деятель. Автор романов «Чапаев» (1923), «Мятеж» (1925).
209
Гроссман-Рощин Иуда Соломонович (1883–1934) – критик, член РАПП, анархист, в 1919 находился при штабе Махно.
210
Барон (наст. фам. Боровой Алексей Алексеевич) (1875–1935) – один из лидеров анархистов-индивидуалистов в 1905–1907, впоследствии примкнул к Московской федерации анархистских групп.
211
Аршинов Петр Андреевич (1887–1937?) – член РСДРП(б), в 1906 сблизился с анархистами, участвовал в террористических актах, после 1917 – один из основателей Московской федерации анархистских групп, в 1919–1921 – ближайший сподвижник Нестора Махно. Эмигрировал. Возвратился в СССР в 1935 г. Необоснованно репрессирован.
212
Махно (Михно, Михненко) Нестор Иванович (1888–1934) – с 1906 член кружка молодежи Украинской группы анархистов-коммунистов, участвовал в актах экспроприации и террора, приговорен к смертной казни, замененной вечной каторгой. В 1917 стал диктатором Гуляй-Польского района. В 1918 участвовал в Московской конференции анархистов, потребовавшей борьбы с гетманщиной и австро-немецкими войсками. В 1919 заключил военное соглашение с командованием Красной Армии, в 1920 нарушил его и в 1921 его части были разбиты Красной Армией.
213
Бабель Исаак Эммануилович (1894–1940) – прозаик, драматург, публицист. Большой успех имела книга его рассказов «Конармия» (1923–1925). Необоснованно репрессирован.
214
Гауптман Герхарт (1862–1946) – немецкий писатель. Автор пьес символического и социально-критического плана. Пьеса «Флориан Гейер» (1896).
215
Михоэлс (наст. фам. Вовси) Соломон Михайлович (1890–1948) – актер, режиссер, педагог. С 1929 – художественный руководитель Московского государственного еврейского театра.
Погиб при невыясненных обстоятельствах.
216
В 1918 состоялось открытие театра-студии «Габима», которой некоторое время руководил Евг. Вахтангов, поставивший спектакль «Гадибук» (1922).
В 1919 в Петрограде была организована Грановским Алексеем Михайловичем (1890–1937) еврейская театральная студия, которая впоследствии стала основой Московского еврейского театра (1921).
А. Грановский в 1928 остался за границей во время гастролей.
217
Телешев Николай Дмитриевич (1837–1957) – писатель, в 1899 организовал литературный кружок «Среда», написал мемуары «Записки писателя» (1953).
218
Зощенко Михаил Михайлович (1894–1958) – прозаик, драматург, переводчик.
219
Закушняк Александр Яковлевич (1879–1930) – артист эстрады, чтец и драматический актер. Создатель жанра «вечеров рассказа». Репертуар его был обширен: от Мопассана до Бабеля.
220
Каминка Эммануил Исакович (1902–1972) – артист эстрады, выступал с чтением рассказов, фельетонов, юморесок.
221
Шмидт Дмитрий упоминается в числе «троцкистов-конников» Червонного казачества (В. Шенталинский. «Рабы свободы». М., Парус, 1995, с. 52) Связь с ними инкриминировали И. Бабелю: «Они – дали мне много сюжетов».
Упом. также: Лев Троцкий «Сталин»: «В 1927 г. во время исключения оппозиции красный генерал Шмидт, прибывший в Москву с Украины, при встрече со Сталиным в Кремле наскочил на него с издевательствами и даже сделал вид, что хочет вынуть из ножен свою кривую саблю, чтобы отрезать генеральному секретарю уши – Сталин, который выслушал все, храня хладнокровие, но бледный и со стиснутыми губами, выслушав, как его называют негодяем, вспомнил, несомненно, десять лет спустя об этой «террористической угрозе». Дмитрий Шмидт исчез, обвиненный в терроризме. Бармину рассказал этот факт Виктор Серж». М., 1990, т. 2, с. 275.
222
Каплер Алексей Яковлевич (1904–1979 ) – киносценорист и драматург.
223
Бармин А. Г. – полпред СССР в Греции, отказался вернуться в СССР.
Серж Виктор писатель – сотрудник «Литературного современника» (Мюнхен).
224
Дос-Пассос Джон (1896–1970) – американский писатель, в 20–30-е годы экспериментировал в области прозы, включая в ткань романа новеллы, газетную хронику, лирический дневник. Роман «Манхеттен» (1925, рус. перевод 1927).
225
Гладков Федор Васильевич (1883–1958) – писатель, автор произведения «Цемент» (1925).
226
Березовский Феоктист Алексеевич (1877–1952) – прозаик, член группы «Кузница», его роман «Бабьи тропы» (1928), повесть «Перепутья» (1928) посвящены теме Гражданской войны в Сибири.
227
Бахметьев Владимир Матвеевич (1877–1952) – прозаик, член группы «Кузница», наиболее известен роман «Преступление Мартына» (1928), вызвавший дискуссию о пролетарской морали.
228
Фадеев Александр Александрович (1901–1956) – прозаик, автор романа «Разгром» (1927), участвовал в руководстве РАПП, с 1932 – в руководящих органах Союза писателей СССР, в 1946–1953 был генеральным секретарем и председателем Правления СП СССР.
229
Панферов Федор Иванович (1896–1960) – прозаик, главный его труд – роман «Бруски» (1928–1937). В 1931–1960 гл. редактор рапповского журн. «Октябрь».
230
Инбер Вера Михайловна (1890–1972) – поэтесса, прозаик, журналист. «Америка в Париже» – ее путевые заметки (1928).
231
Типот Виктор Яковлевич (1893–1960) – драматург, театральный деятель. Один из создателей Театра сатиры.
232
Дементьев Николай Иванович (1907–1935) – поэт, до 1928 состоял в группе «Перевал». Первый сб. стихов «Шоссе Энтузиастов» (1930) получил положительные отзывы. По словам М. Светлова, Дементьев «сумел сделать любовь к человеку своим постоянным состоянием».
233
Олеша Юрий Карлович (1899–1960) – прозаик, драматург, сценарист, поэт. Наибольшую известность получил его роман «Зависть» (1927).
234
Жироду Жан (1882–1944) – французский писатель, в его произведениях сатирически изображается буржуазная псевдокультура с позиции одиночки-интеллигента.
235
Высший литературно-художественный институт им. В. Я. Брюсова.
236
Гастев Алексей Капитонович (1882–1939/40) – прозаик, публицист, общественный деятель. Создал Центральный институт труда (1920) и руководил им до 1938. Необоснованно репрессирован.
237
Грин Александр Степанович (1880–1932) – прозаик. С 1924 постоянно жил в Крыму, не участвовал в литературных группировках.
238
Миних-Маслов Александр Викторович (1903–1941?) – погиб на фронте.
239
Морфи Пол Чарлз (1837–1884) – американский шахматист. В 1857–1859 победил всех сильнейших шахматистов мира, затем отошел от шахмат.
240
Стейниц Вильгельм (1836–1900) – первый чемпион мира по шахматам (1886–1894).
241
Грин Нина Николаевна (1894–1970) – вторая жена А. С. Грина (с 1921).
242
Толстой Алексей Николаевич (1883–1945) – прозаик, драматург.
243
Церетелли Николай Михайлович (1890–1940) – актер, в 1926–1928 работал в Камерном театре, снимался в кино, затем, в основном, занимался режиссурой.
244
Солнцева Юлия Ипполитовна (1901–1989) – актриса, режиссер кино, жена А.П. Довженко. Снималась в фильмах «Аэлита», «Папиросница из Моссельпрома» и др.
245
Баталов Николай Петрович (1899–1937) – актер, с 1916 – в МХТ, снимался в фильмах «Аэлита», «Мать» и др.
246
Уэллс Орсон (1915–1985) – американский актер, сценарист и продюсер. Его радиопостановка «Война миров» по Г. Уэллсу (1938) вызвала массовую панику.
247
Казанцев Александр Петрович (р. 1906) – писатель-фантаст.
248
Кулик Леонид Алексеевич (1883–1942) – минералог, специалист по изучению метеоритов. В 1921–1922 был руководителем экспедиции на место падения Тунгусского метеорита 30.06.1908. Погиб в плену.
249
Термен Лев Сергеевич (1896–1993) – физик, в 1920 изобрел терменвокс – электромузыкальный инструмент. В 1928–1937 жил в США, в 1931–1936 был директором акционерного общества в США по производству электромузыкальных инструментов. В 1937 году вернулся в СССР, был арестован, в «шарашке» изобрел бесконтактное подслушивающее устройство. В 1947 получил за это Сталинскую премию. Работал в акустических лабораториях МГУ, Московской консерватории. См. «ЛГ» 30 мая – 5 июня 2001 г.
250
Щеголев Павел Елисеевич (1877–1931) – литературовед, историк революционного движения, автор работ о декабристах, А. С. Пушкине.
251
Рубинштейн Дмитрий Львович (1876–1936) – адвокат, директор-распорядитель Русско-французского банка в Петербурге, в 1916 арестован за финансовые спекуляции. Эмигрант.
252
Азеф Евно Фишелевич (1869–1918) – один из лидеров партии эсеров, руководитель ее боевой организации, провокатор, с 1893 – секретный сотрудник департамента полиции. В 1908 разоблачен В. Л. Бурцевым (1862–1942), издателем журнала «Былое».
253
Радин Николай Мариусович (1872–1935) – актер, на сцене с 1902, с 1932 – в Малом театре.
254
«Каторга и ссылка» – научно-исторический журнал Общества бывших политкаторжан и ссыльно-поселенцев. Вышло 116 номеров журнала за 1921–1935. Общество было ликвидировано по постановлению ЦИК СССР, многие члены Общества незаконно репрессированы.
255
Фигнер Вера Николаевна (1852–1942) – деятель российского революционного движения, член Исполкома «Народной воли», писательница, 20 лет провела в заключении в Шлиссельбургской крепости. Написала воспоминания «Запечатленный труд» (тт. 1–2, 1964).
256
Морозов Николай Александрович (1854–1946) – революционный народник, ученый, член Исполкома «Народной воли». В 1882 приговорен к вечной каторге, до 1905 – находился в заключении в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях. Автор воспоминаний «Повести моей жизни» (тт. 1–2, 1965).
257
Бестужев-Рюмин Константин Николаевич (1829–1897) – организатор и руководитель Высших женских курсов в Петербурге, которые существовали 1878–1882.
Герье Владимир Иванович (1867–1919). Им были созданы Высшие женские курсы в Москве в 1872, преобразованные в 1918 во II МГУ, затем в 1930 – в Педагогический институт им. В. И. Ленина.
Шаламов, видимо, присутствовал на юбилее курсов Герье.
258
Инар Гюстав (1847–1935) – капитан Национальной гвардии во время Парижской коммуны, с 1925 жил в СССР.
259
Семашко Николай Александрович (1874–1949) – государственный и партийный деятель, врач, с 1918 – нарком здравоохранения, с 1930 – на преподавательской и научной работе. Один из организаторов Академии медицинских наук.
260
Завадовские: Михаил Михайлович (1891–1957) – биолог, академик ВАСХНИЛ (1935) и Борис Михайлович (1895–1951) – биолог, организатор Биологического музея им. К. А. Тимирязева.
261
Лискун Ефим Федорович (1873–1958) – зоотехник, академик ВАСХНИЛ (1934).
262
Гельфонд Александр Осипович (1906–1968) – математик, профессор (1931), чл.-кор. АН СССР (1939), чл.-кор. Международной Академии истории науки (1968), работал в МГУ (1930–1968) и Математическом институте АН СССР (1933–1968).
263
Вересаев (наст. фам. Смидович) Виктор Викторович (1867–1945) – писатель. Автор критико-документальных произведений о А. С. Пушкине, Л. Н. Толстом, Ф. М. Достоевском.
264
Крептюков Даниил Александрович (1888–1957) – прозаик, поэт.
265
Луговский Владимир Александрович (1901–1957) – поэт, в стихах – романтизация Гражданской войны и социалистического строительства. В 1926 г. вступил в группу конструктивистов, в 1930 г. примкнул к ВАПП.
266
Савинков Борис Викторович (1879–1925) – политический деятель, один из руководителей боевой организации эсеров (1903–1917), писатель под псевдонимом В. Ропшин.
267
Штерн Иуда Миронович (1904 – ?) – в 1932 г. стрелял в машину советника немецкого посольства фон Твардовского.
268
Шейнин Лев Романович (1906–1967) – прозаик, драматург. В 1923–1950 работал в Прокуратуре СССР. Автор детективно-приключенческих произведений.
269
Крыленко Николай Васильевич (1885–1938) – советский государственный и партийный деятель. С 1918 – в Верховном революционном трибунале при ВЦИК, с 1928 – прокурор РСФСР, с 1931 – нарком юстиции РСФСР, с 1936 – нарком юстиции СССР. Вел Шахтинский процесс по обвинению группы инженеров и техников во вредительстве (1928). Репрессирован.
270
«Красное студенчество» – журнал при ЦК ВЛКСМ (1925–1935), в кружке при этом журнале И. Селовинский воспитывал «констромольцев».
271
Бабанова Мария Ивановна (1900–1983) – актриса. С 1920 – в Театре им. Вс. Мейерхольда, с 1927 – в Театре Революции (ныне Театр им. В. Маяковского).
272
Коонен Алиса Георгиевна (1889–1974) – актриса, жена А. Я. Таирова, с 1905 – в МХТ, в 1914–1949 – в Камерном театре.
273
Тарасова Алла Константиновна (1898–1973) – актриса, с 1916 во 2-й студии МХТ, с 1924 – в труппе МХАТ.
274
Еланская Клавдия Николаевна (1898–1972) – актриса, с 1924 – в МХАТ.
275
Гоголева Елена Николаевна (1900–1993) – актриса, с 1918 – в Малом театре.
276
Пашенная Вера Николаевна (1887–1962) – актриса, с 1907 – в Малом театре.
277
Бакланова Ольга Владимировна (1893–1974) – актриса, 1912–1925 в МХАТ, с 1926 жила за границей, снималась в фильмах «Человек, который смеется», «В доках Нью-Йорка» и др.
278
Попова Вера Николаевна (1889–1982) – актриса, 1923–1933 -в театре б. Корша, с 1933 – в МХАТ. Роли: Глафира («Волки и овцы»), Гильда («Строитель Сольнес»), Катерина («Гроза») и др.
279
Глизер Юдифь Самойловна (1904–1968) – актриса, начала играть в Рабочем театре Пролеткульта, с 1928 – актриса Театра Революции (ныне Театра им. В. Маяковского).
280
Быков Анатолий Васильевич (1892–1943) – драматург, организатор студии и театра импровизаций «Сэмперанте» (1921).
281
Левшина Анастасия Александровна (1870/72? – 1958) – актриса, режиссер, вместе с А.В. Быковым основала студию и театр «Сэмперанте».
282
Чехов Михаил Александрович (1891–1955) – актер, племянник А.П. Чехова. С 1913 – в МХТ, 1-й студии МХТ, позже – МХАТ 2-го ( 1924–1927 – художественный руководитель). С 1928 жил за границей, снимался в фильмах.
283
Штейнер Рудольф (1861–1925) – немецкий философ-мистик, основатель антропософии.
284
Образцов Сергей Владимирович (1901–1992) – актер, режиссер, с 1931 – руководитель Центрального театра кукол.
285
Ключарев Виктор Павлович (1898–1957) – актер 1-й студии МХТ, 1921–1927 – Театра Революции.
286
Дикий Алексей Денисович (1889–1955) – режиссер, актер. С 1910 – в МХТ, МХАТ 2-м, в 1944–1952 – в Малом театре.
287
Рейнхардт Макс (1873–1943) – немецкий режиссер, актер и театральный деятель. В 1894–1904 актер немецкого театра в Берлине. В 1902 основал Малый театр, в 1903–1906 – «Новый театр». В 1906 возглавил Немецкий театр. Ставил А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, М. Горького. В 1933 переселился в Австрию.
288
Шмелев Иван Сергеевич (1873–1950) – прозаик, с 1922 – за границей. Творческий путь начал в традиционной для русского реализма теме маленького человека («Человек из ресторана», 1911), уже в эмиграции обретено им своеобразное, тонкое и лирическое письмо книг: «Богомолье» (1935) и «Лето Господне» (1933–1948).
289
Славин Лев Исаевич (1927–1984) – прозаик, драматург. Его пьеса «Интервенция» (1933) поставлена многими театрами СССР. Она очень нравилась В. Шаламову.
290
Журавлев Дмитрий Никитович (1900–1991) – актер, в 1927–1939 – в Театре им. Евг. Вахтангова, с 1931 г. – на эстраде.
291
Толчанов Иосиф Моисеевич (1891–1981) – актер, с 1918 г. – в Театре им. Евг. Вахтангова.
292
Горюнов (наст. фам. Бендель) Анатолий Иосифович (1902–1951) – актер. С 1920 – в студии Вахтангова, с 1926 в Театре им. Евг. Вахтангова.
293
Мансурова Цецилия Львовна (1896–1976) – актриса, с 1919 – в студии Вахтангова, затем в Театре им. Евг. Вахтангова.
294
Рид Джон (1887–1920) – американский писатель, журналист, участник Октябрьской революции, события которой отражены в его книге «10 дней, которые потрясли мир» (1919).
295
Киш Эгон Эрвин в 1937–1938 сражался в составе Интернациональной бригады в Испании, в 1940–1946 в антифашистской эмиграции. Автор острых политических репортажей. См. пр. 67.
296
Любимов-Ланской Евсей Осипович (1883–1943) – режиссер и актер, с 1923 – в театре МГСПС (впоследствии Театр им. Моссовета). В 1925–1940 художественный руководитель театра.
297
Билль-Белоцерковский (наст. фам. Билль) Владимир Наумович (1884/1885–1970) – драматург. Пьеса «Шторм» (1925) была поставлена в театре МГСПС.
298
Киршон Владимир Михайлович (1902–1938, сконч. в заключении) – драматург, один из руководителей РАПП. Пьеса «Хлеб» (1930) была поставлена во МХАТ
299
Афиногенов Александр Николаевич (1904–1941) – драматург, один из руководителей РАПП. Пьеса «Страх» (1931) подверглась идеологической критике.
300
Остужев (наст. фам. Пожаров) Александр Алексеевич (1874–1953) – актер, с 1898 – в Малом театре. В 1910 оглох, но остался на сцене.
301
Абдулов Осип Наумович (1900–1953) – актер, режиссер. На сцене с 1918 г., с 1943 – в Театре им. Моссовета.
302
Завадский Юрий Александрович (1894–1977) – режиссер, актер. С 1915 – актер студии Евг. Вахтангова, затем МХАТ, с 1940 – режиссер и художественный руководитель Театра им. Моссовета.
303
Смирнов-Сокольский (наст. фам. Смирнов) Николай Павлович (1898–1962) – актер, библиофил, автор эстрадно-сатирических фельетонов.
304
Джалиль Муса Мустафиевич (1906–1944) – татарский поэт, в 1942 был ранен и взят в плен. В тюрьме написал цикл стихов «Моабитская тетрадь», свидетельство его таланта и верности Родине.