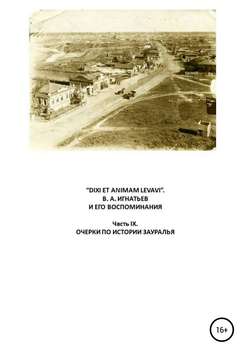Читать книгу «DIXI ET ANIMAM LEVAVI». В. А. Игнатьев и его воспоминания. Часть IX. Очерки по истории Зауралья - Василий Алексеевич Игнатьев - Страница 29
[Быт Течи]
Народные бедствия (рассказы дяди Егора)
Оглавление[1961 г. ]
«Пришла беда – отворяй ворота».
«Одна беда никогда не бывает: пришла одна – жди другую»
(из народных поговорок).
О народной беде лучше Н. А. Некрасова никто не рассказывал и не расскажет, но он рассказывал об этом, так сказать, в общенародном масштабе, а вот как это делалось у нас, в Зауралье, об этом послушаем рассказ дяди Егора.
«Земелька у нас, нечего Бога гневлить, добрая – жирная, чистый чернозём. Много земли объехал я по Расее, такой земли нигде не встречал. Выпадет летом дождичек – поедешь, на колёса так наметает земли, еле лошадь телегу везёт и сама еле ноги из грязи вытаскивает. Весной из одной деревни в другую не пройти, ни проехать, да и в деревне то от избы в избу еле проберёшься: земля как бы месиво: нога вязнет в ней. Одно беда: земелька скоро влагу теряет, сохнет. Хорошо ещё, что между пашнями везде осиновые да берёзовые колки: от горячих ветров – суховеев земельку берегут, а зимой снег не дают с пашни сметать в сугробы: ровненько он лежит на пашне. А всё-таки как с вешны дождички перестанут перепадать недельки три или месяц, земелька сохнет и рост хлебов ослабевает. А как пойдёт на засуху, тут уже всё вид меняет. Речка наша Теча и так водой не богата, а тут, глядишь, там галешник показался, подале другой, а меж ними только ручеёк течёт. Рыба в ямы уходит. Мельники сидят без воды. Мизгирёв едет в Чесноковку: «спусти воды», а что он спустит, когда сам без воды сидит. Вот мельницы и стоят. Колодцы на селе дают воды мало, а то и совсем высыхают. В болотах за селом вода уходит, только в копанцах немного остаётся питья скотине. Кочки все на болоте торчат, как пни: траву с них коровы общипали начисто. На большом болоте вода отступила далеко от берега, а между ним и водой образовалась топь: того и гляди корову или лошадь затянет. На буграх и лужайках трава пожелтела, сохнет. Если где попадётся ягодка-земляничка, то она высохшая, бледная со слабым румянцем. О грибах нечего и говорить – их в помине нет. Коровы, лошади объедают листья у берёз, где пониже. Домой коровушки идут голодные: подходят к дому, на рысях бегут к пойлу. Молочка мало дают. Телята на гумнах мычат, овцы блеют. На поля не глядел бы: сердце падает. Хлебцы сохнут, не растут, а норовят колоситься. По дороге проедет телега: пылица стоит коромыслом. Люди смотрят на небушко, а оно чистое. Появится облачко, а то и тучки – ну, слава Богу: может дождичек падёт. Так нет: обойдёт нас. За что только Бога прогневали. Утром солнце выйдет красное, как марева, палит. Воздух густой: дышать тяжело. Ночи душные. А дождя нет и нет».
Вот как описал нам дед Егор самую главную беду наших хлеборобов в Зауралье. Как же с ней боролись, об этом, расскажем уже сами. Боролись с засухой богомольями. О дне их или с амвона объявляли или посылали нарочного. Бывало, что постановляли и на сходах. В день богомолья открывался звон, как большой праздник. Народ собирался к церкви в праздничных одеждах: надевали на себя самое лучшее. Жарко, а мужички надевали на себя зипуны, понитки, как полагается в праздник. Из церкви выносили хоругви, иконы и собравшиеся отправлялись в поля. Пели «Спаси, Господи», «Заступница усердная» и др. молитвы. В поле где-либо заранее приготовлялись места для постановки икон: вроде шатра из берёзовых прутьев и веток, и начиналось моление – «даждь дождь земле жаждущей» с коленопреклонением. С одного места переходили на другое, где совершали тоже моление. Солнце палит, народ, как в пекле, на моление идёт и идёт. К трём-четырём часам дня возвращались домой. Если дождя не было, говорили: «не замолили грехов», а если дождь случится, что иногда и бывало, значит – Бог услышал молитвы. И как ведь верили в силу богомолья! Бывало, тучка придёт со стороны Беликуля, то и решали: наверно, в Беликуле у о[тца] Константина богомолье. А если, когда и засухи не было, сколько различных бед подстерегало землероба: дождь помешал сено, как следует, убрать, град побил урожай, хлеб был хороший, но полёг и многое другое. И всё это от Бога. Осенью так и определяли: был недород, год был неурожайный. А что это значило? Послушаем, как об этом будет говорить дядя Егор.
«Сеньшины – рассказывает он, – рысака-то продали: нечем кормить. Оставили только пару. А Евсей Степаныч тёлку заколол: нечем кормить. «Рожковы» продали клеть, Фёдор «Тяптин» – амбар. Вот он – неурожай-то что наробил. А Фёдор «Копалкин», слышь, храбриться: ничо, гыт, по хозяйству не продам, лучше пойду с поклоном к Богатырёву, попрошу одолжить хлебца под новый урожай. Богатырёв не откажет, но на каких условиях: расплата зерном, но не по зерну – баш на баш, а по цене. Хлебом он тебе даст по цене рубль за пуд, а осенью он будет по шести гривен: вот и выйдет, что за пуд ему уплатишь больше полуторых пудов. Может он дать и под подёнщины: на сенокос отробить столько подёнщин, на жатве – столько-то. Вот и выйдет, что хлебец ты получил, а силу свою уже вперёд запродал. А почём он рассчитывал за подёнщину: наверно, себя не обидел; вместо тридцати копеек за двадцать» и т. д. так рассуждал дядя Егор о недороде и данные его не опровержимы: взяты из жизни. Ну, а если нынешним недородам, будь то недород в следующем году, а то и ещё и полный неурожай, то вот и голод, как было в девяностых годах прошлого столетия: сколько людей перемерло, погибла скотина. Ладно, что из Казахстана пригнали лошадей и дали их в кредит, а на посев дали тоже в кредит зерно. Государство дало через земство, а то бы ложись и умирай. Конечно, год на год не приходился: бывали и урожайные годы, и народ поднимался на ноги, но засухи всегда были в Зауралье главным врагом землеробов.
Зашла речь о пожарах. «Нашу Течу, – так опять начал свой рассказ дядя Егор, Бог оборонял от больших пожаров, а вот про милый Сугояк говорили, что там однажды полдеревни выгорело. И бывают пожары, – продолжал он, от разных причин: от нашей неосторожности, недогляду, по злобе и навету; бывают поджоги; бывают пожары от «Божьей милости», а про Даниила Севастьянова баяли, что сам запалил свою немудрую избёнку: сначала «заштраховал», а потом, чтобы штраховку получить запалил».
И дальше дядя Егор сел на своего коня – любил грешник рассказывать, и повёл длинный, длинный рассказ. «Как случился на Горушках пожар у Архипка-волчёнок?» Петровки были, жарница. Пришли бабёнки с реки с бельём, которое выполоскали, развесили на заборе. После купанья надумали чайком побаловаться. Раздули сосновыми шишками в сенцах самовар, а трубу поставили чуть не до крыши, а она была из соломы, покрытой дерном. Ушли в избу расставлять чашки, чайник и др. Выглянули, а крыша уже пластает. Выбежали на улицу, подняли крик, вой, а народ в это время все в поле – хлеба пропалывают. Поднялась суматоха. Ударили в колокола. Привезли пожарную машину, на себе приволокли телегу с баграми. Первыми прибежали поповские ребята, схватили багры, сдёрнули крышу. Тут ещё кое-кто подбежал. Выбили окна, до половины раздёрнули брёвна. Вдруг одна бабёнка из ейных же благим матом заголосила: «Мамоньки, в стайке коровы, спасите!» А стайка была близко от избы и сделана из жердей в два ряда, а между ними набита солома. Одна стенка уже занялась. Тут багром сдёрнули стенку и правда: стоят две коровёнки и [к] противоположной стенке прижались. Стали выгонять – не идут. И что это со скотиной – размышлял про себя дядя Егор – её гонишь от огня, а она не идёт; так и про коней говорят. Ну, избёнку, наконец, раздёргали по бревёшкам. По правде сказать, не столько она обгорела, сколько поломали, в изъян ввели хозяина. Ладно было тихо, безветренно да и избушка стояла на отшибе, у рва.
А как погорели «Растогуевы» в 1914 г.? Тоже в Петровки, дома никого не было. Пожар начался на задах у Мишки «Чигасова». Известно: он был пьяница и табакур. Заронил, наверно, где-нибудь паперёсу, вот и получилось: себя спалил и соседей. У «Растогуевых», баяли, хлеб в амбаре сгорел. Приехали они под вечер с поля, а на месте дома ещё угли шаяли. Крик, рёв! Известно, как в этом случае бывает. Ветер был большой, но ладно, что он дул не с Горушки, а на каменный дом и садик при нём, которые были через дорогу: они прикрывали другие дома, но горящие хлопья, перебрасывало и на диаконский пригон, где сплошь была солома. Хорошо, что диаконские ребята стояли на страже и гасили эти хлопья, а то перебросилось бы и на Комельковых, а там и дальше до гумен.
А как горел бор? Дым поднялся до облаков, огненные языки тоже тянулись кверху. На колокольне неистовый звон. Бросились в бор с топорами, лопатами. Никто толком не знает, что нужно делать. Роют тропку, а огонь поверху идёт и идёт, только шум вверху: лес сухой. Кто-то скомандовал: надо лес рубить, просеку делать. Наконец, остановили. Конечно, лес казённый, а жаль – морализировал дядя Егор. Искали виновных. «Грешили» на поповских ребят: дескать, шляются по бору, курят, ну, кто-нибудь из них и заронил огонь, но ведь не пойман – не вор».
Подумал немного дядя Егор и продолжал: «Вот и с поджогами сколько было греха. Раз в полночь ударили в набат. Народ повыскакивал из домов. Бегают, как шальные. Где горит? Темень – ничего не видно. С колокольни кричат: «на Зелёной улице». Все туда, а горел дом Петра Ефремовича. Пристрой уже сгорел, пластал самый дом. Заливали пожарной машиной: воду подвозили с реки в кадушках, бабы подносили на коромыслах вёдрами. Бабы из соседних домов стояли около с иконами. На рассвете пожар остановился. На усадьбе осталось пустое место. В огороде у пригона нашли разбитый чугун, а около него лежали рассыпанные угли. Было ясно, что кто-то поставил его с горящими углями: они шаяли, шаяли и начался пожар. Кто мог это сделать? Припомнили, что из Течи же зимой присватывались к девке из этого дома, а хозяева дома заартачились: «не ровня, дескать». Запрягай дровни да поезжай по ровню». Злобу затаили, а жених – от, бают, прямо сказал: «Петушка поджидайте». Но не пойман – не вор. Как по злобе мстили? Зароды сена на покосах жгли, клади хлеба на полях и на гумнах. Когда хлеб сушили в овинах – поджигали и овины.
От «Божьей милости» в Тече дважды были пожары. Один был на Горушках: стрела ударила в стенку. Ладно в избе никого не было. Стрела так и прошла через бревно насквозь как напарьей (сверлом) просверлили. Люди осматривали эту дыру. Говорили, что конец стрелы глубоко в землю уходит, что в Кошкуле раз отрыли такую стрелу на глубине двух аршин: сидела она там, как морковка хвостом книзу. Второй пожар был против Флегонтовых: искра ударила в полати и загорелась одёжа. Гроза была страшенная. В первый раз гром ударил, и молния осветила всё небо. Только ударил гром во второй раз и на колокольне: бом, бом. Крик поднялся, чтобы все тащили квас заливать пожар. Новиковскую дочку заставляли тащить простоквашу, потому что такие пожары можно заливать только квасом и молоком».
Закончил свою речь о пожарах дядя Егор словами: «разоряли пожары, что говорить, разоряли. Ладно, если погорел кто-либо помогушнее или изба была заштрахована, а если коснётся он бедного, то выход был один: запрягай лошадь и поезжай сбирать на погорелое место. Теперь что с пожарами по сравнению с прошлым: в деревнях сделали пожарные посты, с машиной, бочкой. Всегда кто-либо дежурит с лошадью. Опять же население организовано на случай пожаров: у каждого на избе дощечка, на которой показано, с чем должен являться на базар: у кого – ведро, у кого – топор и лопата, а у кого лошадь с бочкой, а раньше этого не было. А у татар, заключил он свою речь – и теперь ещё, говорят, такой порядок: о пожаре нельзя кричать, чтобы не разозлить его, а можно только на ухо передавать, что, дескать, у меня пожар – помоги. И вот пока ходят да шепчутся, глядишь, изба и сгорела». Из этих слов видно, что дядя Егор гордился своим происхождением.
Да, ужасны деревенские пожары, добавим мы от себя. Картину деревенского пожара хорошо изобразил А. П. Чехов в своём произведении «Мужики».
Бывали в Тече и эпидемии, не часто, но бывали. Так, в 1903 г. летом многие болели брюшным тифом. Больница была завалена больными, а и была-то она небольшая. Много больных лежало у себя, по домам. Врач и фельдшер попеременно через день ходили по домам: проверяли, советы давали. Умирали немногие. И всё больше из-за себя – по темноте своей. Сколько раз говорили, что при выздоровлении нужно беречься при еде: нельзя сразу кидаться на всё да в большом количестве, так нет, делают по-своему. Придёт кто-нибудь из больницы, естественно после болезни худой, тут и начинаются бабьи охи да вздохи: «Ой, Иванушко: заморили тебя». Сбегают в борки за груздями, нарубят их на пельмени и «горяченькими» от души угостят Иванушку, а он ночью Богу душу отдаст. Пока на опыте трёх смертей не убедились, так и делали это.
Позднее, во время первой войны была холера. Тоже кое-кого подобрала. Были случаи с укусами бешеных зверей. Так, двух мужичков в поле искусал бешеный волк. Один из них согласился поехать в Пермь на уколы, а другой нет. Потом оказалось, что первый остался в живых, а второй сбесился, стал кидаться. Так его в поле закопали в пологи и он задохся. Был также случай, что большая семья пила молоко от бешеной коровы; её [семью – ред. ] отправили в Пермь на уколы. Потом говорили, что через молоко от бешеных коров бешенство не передаётся.
В 1936 г. была сильная эпизоотия: пало много скота от сибирской язвы. Делали прививки, но получалось так, что после прививок именно некоторые животные и погибали.
Зашла как-то речь о конокрадах. Тут дядя Егор, словно его кто подхлеснул, даже сматерился сначала, а потом и начал: «Сколько они, подлецы, людей по миру пустили. Сёма-то чёрный, под старость его звали ещё Семёном Осиповичем, перед смертью на Бога лез: как услышит звон, в церковь ковыляет к обедне или вечерне, а в молодости озоровал в конской части. Накрыли его в Кирдах, так он спрятался у друзей в голбце. Народ собрался, кричать стали: «вылезай». Куда тут, как будто его и нету. Принесли пожарный багор, шарить стали, тут ему ножку и повредили. Памятка осталась на всю жизнь: стал прихрамывать на правую ногу. Вылез из голбца, на коленях просил: не губите – не буду больше воровать. Ну, отпустили. А потом, как люди услышат, бывало, про воровство, то думали, не он ли это опять гуляет, а то и на сына его, Ваньку, «грешили», но нет – улик не было. Так всё и шло. А жили они не плохо: дом у них стоял у кладбища с горницей под железом. Пристрой со стороны кладбища был, что твоя крепость – глухая стена от амбара, погреба, конюшни: ни один покойник не пролезет. Кони были хорошие. Когда диаконского парня Ивана «забрели» в солдаты, на гулянье он, Семён-то Осипович, тройку представлял, так двое с трудом её держали. Рассказывали о нём, как он сам стал потом бояться воров. Подрядили его раз вести диаконского сына с молодухой в Челябу. Погода была ненастная. Кони были не забиты работой, но так намотались от грязи, что к Челябе пришлось подъезжать под полночь, а дорога у Челябы со стороны Течи была неловкая: на пять вёрст простирался густой лес стеной. В лесу этом, как рассказывали встречные люди, накануне ещё было убийство. Пришлось проезжать этот лес в темноте: хоть глаз выколи. В одном месте у дороги встретились люди. Горел небольшой костёр, и около него сидели два-три мужичка. Кто они? Что у них на душе? Чужая душа – потёмки. Но ничего, Бог пронёс. Выехали из лесу, показались огни Челябы, Семён и спросил своих пассажиров: боялись ли они, когда ехали по лесу. Ну, как не боялись, конечно, боялись, но никому не хочется показать себя трусом. Нет, говорят, не боялись, а он: а я, говорит, всё время сидел, как на углях. Почему он так сказал? Вспомнил, значит, как раньше в такую же ночку погуливать с дубинкой у Парамошки, близ своего поля и подумал, как бы его тоже не благословили дубинкой, а коней отняли».
Как только зашла речь о знаменитом в наших краях конском воре Ермолке, дядя Егор опять повёл своё рассказ. «Ермошка – стал он говорить, – был вор хитрый и занимался этим делом летом – с полей угонял, а на зиму всегда норовил в тёплое место попасть – в Шадринскую тюрьму. Отсидится там, а летом на своё. Как он зимой появился, было не известно, но вот по Тече прошёл слух, что он объявился здесь в прощёное воскресенье 1903 г. Как только слух этот прошёл по селу, народ стал его разыскивать. Собралась толпа и двинулась к той избе, про которую сказали, что там гостит Ермошка. Ермошка ещё издали увидал из окна толпу и сразу сообразил, чем это пахнет. Забрался на конюшню и зарылся в сено. Делегат от толпы зашёл в избу и спросил: где Ермолай? Хозяева пытались, было, скрыть его и завели разговор: какой Ермолай? Никакого Ермолая здесь нет и не бывало. Толпа стала шарить по пригону, стайкам, конюшням и два-три человека поднялись на конюшню и стали вилами протыкать сено и, наконец, сбросили Ермолая вниз. Народ терпелив, но если терпение его лопнет, страшен он в своём гневе и беспощаден в мести. Подошёл к Ермошке Максим Кунгурцев, нагнул его руку на выверт на своём коленке, раз и рука стала болтаться, как тряпка. Переломали ему руки, ноги, приволокли его к каталажке и бросили у дверей. Говорят, ещё он еле дышал, подошла старуха Самсониха и «благословила» его кирпичиком по голове и … не стало на свете раба Божия Ермолая. За вечерней протоиерей произнёс речь против убийств: грозил гееной огненной. Было это в Прощёное воскресенье.
Кого засудили в убийстве? Принимали участие в этом деле и старшина и староста села. Весь теченский мир. Порешили в конце концов на формуле: собаке собачья и смерть, а кто убивал – пусть ответят за это в том мире – на небе.
«Что ему надо было? – так начал свою речь об Аркашке Бирюкове дядя Егор. Поповский сын, брат у него в Нижной диаконом, племянники. Племянники, рассказывали люди – как его уговаривали: «дядя, брось это занятие, оставайся у нас. Будем тебя кормить, поить, одевать». Нет – говорит – «не могу: тайга манит». Пожил, пожил, обмылся, от вшей очистился, одели его, а однажды утром встали – его след простыл. Это он, подлец, увёл четырёх лошадей из конюшни через огород. Пятую – Сивка Никитичем звали – не смогли взять: чужих не подпускали к себе ни спереди, ни сзади. Под крещенье, рассказывали, диакону-то записки подбрасывали. Вдруг к ихнему дому под вечер, слышь, верховой прискакал в яге. Зашёл в кухню, шапку не снял, рожу не перестил, порылся за пазухой, достал записку, бросил на пол, бегом на коня и был таков. Ребята диаконские подобрали записку и передали отцу. В ней он пишет: «приезжай туда-то, вези двадцать пять рублей и четверть водки, получи лошадей». Подумал диакон: поедешь, ещё голову снимут – Бог с ними, с лошадями.
На Чумляк подлецы угоняли лошадей, а там продавали их. Года через два-три, говорили, как-то кыргызы прогоняли через Течу стало лошадей, и одна, чуешь, вырвалась из стада и прямо к диакону в ограду и забилась в конюшню. Гонщик кричит диаконским ребятам: «выгоняйте!» Они бросились выгонять, а лошадь не идёт. Наконец, выгнали. Приходит отец. Сказали ему. Он спросил: не было ли у лошади на лбу белого пятна вроде звезды. Ребята сказали: да! «Это был наш Лысанко» – сказал отец.
«Грешили» иногда из-за воровства коней на татаришек: они, шельмецы, ловкими были на этот счёт. Раз поймали их кирдинцы. Проезжали раз, вишь, в Крещенье два татарина с пятью лошадями. Кони было видно, загнаны, а кони добрые, хозяйские. Трое кирдинцев сели на вершну и за ними, а ехали те в Течу. Татаришки заметили, что за ними погоня, давай лишнюю тяжесть сбрасывать с саней и гнать лошадей. Не удалось убежать: схватили их и вместе с конями привели в Теченскую волость. Украли они их у катайского земского ямщика Петра Павловича Золотухина и угнали за 70 вёрст, но попались». Так завершил свой рассказ о конских ворах дядя Егор.
В конце прошлого и начале нынешнего веков в наших краях воровство лошадей было страшным бичом земледельца. Лишить его лошадей – равносильно лишить его рук. Стон по деревням стоял от этих воров, по миру они людей посылали. В поле лошадей закавывали громадой и в цепи с большими замками. Научились эти подлецы и замки открывать. Завели на лошадей паспорты, заверенные волостью. Без них лошадей нельзя было ни продавать, ни покупать, а всё-таки воры ухитрялись уводить лошадей.
Вот так и бедствовали иногда наши теченские мужички.[146]
ГАПК. Ф. р-973. Оп. 1. Д. 711. Л. 188–202 об.
146
«Дед Егор» – вымышленный персонаж в очерке В. А. Игнатьева. В «свердловской коллекции» воспоминаний автора в составе «Автобиографических воспоминаний» имеется более поздний очерк «Философские размышления и рассказы деда Егора о своём житье-бытье «хрестьянском», в котором автор кроме описания народных бедствий приводит разные замечательные явления и события, повторяющиеся в разных очерках, и в конце задаётся вопросами, которые в очерке из «пермской коллекции» отсутствуют: «В девятьсот пятом малость поволновались, но притихли. И опять в четырнадцатом заварили кашу. И что надо? Земли у нас своей много. Что надо ещё? А вот людей берут и берут: уж и родить некому. А извещения об убитых идут и идут. На этом размышления деда Егора были прерваны. Ответы на его вопросы стали давать уже события октября 1917 года» // ГАСО. Ф. р-2757. Оп. 1. Д. 394. Л. 14–27.