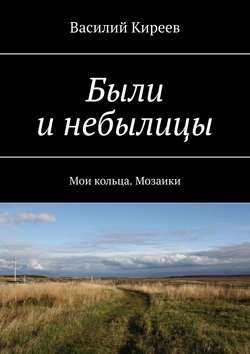Читать книгу Были и небылицы. Мои кольца. Мозаики - Василий Анатольевич Киреев - Страница 8
Пинежские зарисовки
ЗОЛОТЫЕ ОКНА
3. ЕДОМА. ЛЮБКА
ОглавлениеВ Е́дому можно попасть двумя путями – в Шотовой есть паром (в этом году «понтон» – переправа из трех старых-престарых сваренных между собой барж, проезд 120 рублей) на ту сторону. Раньше дороги шли по обеим сторонам Пинеги, северные деревни ведь всегда на берегах больших рек. А тут, напротив Шотовой и Карпогор целый куст деревень. Не́мнюга, Кевро́ла, Едома. Кеврола7 – центр сельсовета, тут есть школа. Едома тоже деревня жилая, тут на зиму остаются четыре человека в трех домах. Зато летом деревня живет – все дома обитаемы, брошенных нет. Это, пожалуй, особенность Едомы. Если Кеврола стоит в низине, дома и огороды подходят прямо к пинежским заливным лугам, то Едома – на высоком утесе – угоре, на поляне в сосновом бору. Кевролу подтопляет каждый год, жители следят за уровнем Пинеги, и когда вода доходит до критического уровня, вытаскивают содержимое погребов наверх. Иногда дело кончается залитым погребом, но бывают годы, когда Пинега не щадит Кевролу и несет вешние воды прямо через огороды и палисадники, сметая льдинами ворота и заборы. Тогда радуются в Едоме – до них стихия не доходит никогда. В обычные же дни радуются в Кевроле – у них-то огороды под боком, а соседи вынуждены в свои ходить за километр, на их утесе лишь песок да сосны. Однажды, после очередного паводка, кеврольцы решили перенести свою деревню повыше, на холм в Едому, но те не пустили. Как не дали они построить ни одного нового дома. Поэтому Едома – неписанный заповедник, попадая в который оказываешься в пасторальной деревне времен Петра, ну, если бы не провода, спутниковые тарелки, да синие телефонные будки. А еще в километре вверх по реке, за Едому, была когда-то деревня Щелья. Ее нет уже совсем. Только церковь, да колокольня на высоком берегу, да заросшие кустами провалы на поляне в сосновом бору, которые были когда-то погребами в домах селян. Рядом с той деревней есть старое польское кладбище. Но это другая история.
Вот туда я и направляюсь ранним утром, правда, другим, более коротким путем, потому что в десять утра нужно быть на стадионе в Карпогорах – открывать турнир по футболу. Утро сегодня хмурое, капли дождя продолжают падать, несмотря на шедший всю ночь сильный дождь, и я ловлю себя на мысли, что как-то они медленно падают. И только рассмотрев их на лобовом стекле автомобиля, понимаю, что это такие набухшие снежинки – трудно организму поверить, что уже снег8.
Другой путь – это по правому берегу до деревни Церкова, а оттуда на лодке, слегка наискосок, прямо под церковный холм Щельи.
Перевозит нас Владимир Николаевич. Он, как и Михаил Дмитриевич, парашютист – пожарный. Только постарше. У него в Едоме «дача». Ну, не в самой Едоме – чуть за нее. В самой не разрешили.
Никольский храм, что в брошенной Щелье, – единственный на средней Пинеге памятник федерального значения. Строительные леса, пожалуй, вызывают не меньшие опасения, чем сам храм, – старые прогнившие доски стоят здесь с начала девяностых, когда неравнодушный к «деревяшкам» человек приехал сюда и начал реставрацию. Слава Богу, успел закрыть крышу рубероидом, и в храме относительно сухо. Но не стало человека, и все остановилось. А храм был красивейшим.
Он не самый старый, 1798-го; колокольня старше, и заметно наклонилась. В этих местах это действительно последний деревянный старый храм. Чтобы попасть внутрь, надо взять ключи, поэтому мы идем в Едому по песчаной дорожке через бор, и попадаем в старину.
Если до этого я считал образцом северной деревни Кимжу, то теперь и Едома рядом с ней, и еще не понятно, кто вперед, поскольку в Едоме есть Храм, который, пока еще, не начали реставрировать методом полной переборки9. На значительном удалении, на краю, приютилась группка амбаров…
Удивительно и то, что тут совсем нет грязи – нет разбитых техникой дорог, дрова аккуратно сложены в поленницы, места, где кололи и пилили, тщательно выметены – нет не то что пластика, даже щепок… Как хочется верить, что так вот русские люди и жили всегда, в чистоте и порядке, в огромных домах, и не только в Петровские времена.
Идиллическое, пасторальное настроение и у моих попутчиков – Михаил Дмитриевич начинает рассказывать, что воон в том доме, у некоего Володи он купил по́шевни.
– Что купил? – переспрашиваю я.
– Ну, не купил, так, символически заплатил я ему, – начинает объяснять мне Михаил, словно в выражении «купил пошевни» непонятным может быть скорее слово «купил». Потом понимает, что мне непонятно другое, и поясняет: – Пошевни. По-другому-то? По-другому – крёсла. Маленькие саночки такие, в шубах садиться… К разговору подключается Владимир Николаевич.
– Смотрите, – говорит он мне, – за рекой остров. Летом, по малой воде, туда люди ходят по колено.
– А зачем ходят?
– За земляникой. – Это Миша уже вступает. – Там ее столько, что на всех хватает. С Карпогор приезжают. Ты-то ходишь? – это он Владимиру Николаевичу.
– Хожу. Только я не за земляникой. Я там и́скорень собираю, его там много.
– Что собираете?
– Травка такая. Лекарственная. Мне еще бабка моя показала, ее сушат, корни перемалывают…
– Так что это за травка? – спрашиваю я, понимая, что это должно быть чем-то понятным и знакомым, просто тут имеющим свое название. Но Владимир трактует вопрос по-своему.
– Хм. Знаешь как тут баки говорят? Хероставная… – Володя мой проглоченный от такой формулировки смех воспринял по-своему, улыбнулся, и добавил – И от простуды помогает.
Так и останется у меня картинка этой деревни. Детвора, бегающая босиком по песчаным лужам с прозрачной водой, огромные дома, где на поветях сушится травка, собранная вместе с земляникой на острове… А зимой крестьянин в тулупе на пошевнях едет по заснеженной дорожке через бор к свежесрубленной Никольской церкви на высоком берегу. И всего-то чуть больше двухсот лет тому.
– Любка, – говорит вдруг Владимир. – Травка-то эта, любкой ее еще зовут. Хероставная, потому и любка. – И смеется доброй улыбкой.
7
Та самая летописная Кевроль, что старше Москвы. 1137 год.
8
Действие происходит 24 сентября.
9
Сарказм относится к реставрации Одигитриевской Церкви в Кимже – потрясающего по своей красоте памятника. На момент написания рассказа ее разобрали, и работы остановились. Но теперь (2018) уже все хорошо – Одигитрия на месте.