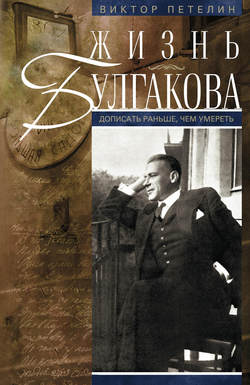Читать книгу Жизнь Булгакова. Дописать раньше, чем умереть - Виктор Петелин - Страница 6
Часть вторая
Какое разнообразие газет, журналов, издательств…
ОглавлениеВ это время заговорили о болезни В. И. Ленина, порой говорили о том, что он утратил политическое чутьё, чаще всего о том, что нет никакой возможности к возвращению его к исполнению своих высоких обязанностей… Со всей остротой встал вопрос о преемнике, о личности, способной его заменить. Для большинства писателей и журналистов сомнений не возникало – Лев Давидович Троцкий. И уверяли в гениальности Льва Троцкого. Вышла книга Г. Устинова «Трибун революции», опубликованная в 1920 году и ставшая настольной книгой многих его сторонников. Не раз писатели, журналисты, партийные деятели панегирически говорили и писали о Троцком, указывая на его могучий талант трибуна, оратора, на его ум, такт и другие выдающиеся способности как вождя революции. Упоминались Зиновьев, Каменев, Бухарин, Дзержинский… Но, сравнивая Льва Троцкого с этими видными деятелями партии и государства, чуть ли не в один голос говорили о Троцком как о несомненном преемнике Ленина на посту председателя Совета народных комиссаров. А потому не жалели слов для панегириков Троцкому, посвящали стихи, ходили на его выступления, рукоплескали ему, добивались встречи с ним.
Вышла книга Александра Безыменского «Как пахнет жизнь» с предисловием Л. Троцкого, и обезумевший от счастья автор всем дарил книгу и непременно показывал на предисловие Л. Троцкого как на билет в бессмертие… Вышел журнал «Молодая гвардия» с приветствием Л. Троцкого. Журнал выходил под редакцией Л. Авербаха, Ил. Вардина, И. Лепешинского, К. Радека, О. Тарханова и Ем. Ярославского. Почти одновременно стал выходить журнал «На посту» под редакцией Б. Волина, Г. Лелевича, С. Родова, в списке участников все те же, что и в «Молодой гвардии»: Л. Авербах, Д. Бедный, А. Безыменский, Исбах, Левман, Г. Лелевич, Михаил Кольцов, Юрий Либединский, Карл Радек, Лариса Рейснер, Фриче, Ярославский. В редакционной статье первого номера выражено недовольство литературно-критической чехардой; каждый «бухает во что горазд»: «Этому должен быть положен конец. Нам необходима твёрдая, выдержанная, пролетарская линия в литературе. Старые боевые знамёна должны быть вновь гордо и несокрушимо подняты перед лицом оживающей буржуазной литературы и пошатывающихся „попутчиков“» (На посту. 1923. № 1. С. 5). Призывали «освободиться от влияния прошлого и в области идеологии, и в области формы», «неустанно стоять на посту ясной и твердой коммунистической идеологии». А «твёрдая идеология» – это статьи и указания Троцкого, Зиновьева, Каменева и многочисленных, помельче, последователей.
Возник всё тот же трагический конфликт, как между Пролеткультом (1917–1932), организаторы которого ратовали за «чистую» пролетарскую культуру, полностью отрицая мировую классическую культуру и наследие русского классического реализма; и всеми, кто продолжал следовать за русскими классиками, которых Троцкий назвал «попутчиками», над творчеством которых чаще всего напостовцы и молодогвардейцы просто издевались – издевались над творчеством Горького, Алексея Толстого и других «буржуазных» писателей; словом, возник конфликт, который условно можно было охарактеризовать как трагическое противоречие между Каннегисером и Урицким, между «убийцем» и «жертвой».
Максим Горький, который принял Февральскую революцию, с увлечением работал с культурными слоями Петербурга над сохранением культурного наследия России, скрепя сердце пошёл на сотрудничество и с большевиками. Он задумал грандиозные культурные проекты, но Зиновьев, глава Петербурга, ставил палки в колеса: во главе всех структур он утвердил своих единомышленников, которые не давали никакого хода практическому осуществлению замыслов Горького.
Любопытная запись в дневнике Корнея Чуковского. Как-то пришёл он в «Комиссариат просвещения»: «Кругом немолодые еврейки, акушерского вида, с портфелями. Открылось заседание. На нас накинулись со всех сторон: почему мы не приписались к секциям, подсекциям, подотделам, отделам и проч. Я ответил, что мы, писатели, этого дела не знаем, что мы рады бы, но… Особенно горячо говорила одна акушерка – повелительным, скрипучим, аффектированным голосом. Оказалось, что это тов. Лилина, жена Зиновьева…» И все эти «немолодые еврейки акушерского вида» занимали почётные места в культуре, в театре, в литературе, в науке… Во главе Госиздата, вспоминает Корней Чуковский, «стоит красноглазый вор Вейс, который служил когда-то у Гржебина в „Шиповнике“, и этот Вейс препятствует выходу в свет книг, подготовленных Горьким и его сотрудниками, среди которых Блок, Чуковский, Десницкий, Горький…» (См.: Чуковский К. И. Дневники. М., 1991).
Зиновьев и его приспешники просто лютовали в борьбе против «врагов народа», против дворян, купцов, предпринимателей, священников. Горький многих выручал, спасал от застенков, от гибели. Однажды поехал к Ленину, доказал, что надо отпустить великих князей, один из которых – замечательный историк, а чекисты, узнав о поездке Горького к Ленину, ночью расстреляли их.
Такова была установка большевистской верхушки – в Гражданской войне, начатой и навязанной русскому народу, беспощадно уничтожать образованные слои русского общества, носителей русского национального характера.
Не буду входить в подробности изложения партийной борьбы за власть. Скажу лишь, что партийная и государственная жизнь пошла как бы по двум руслам: Троцкий со своими единомышленниками готовили свою программу захвата власти в России; Сталин и его единомышленники – свою. Троцкий и Сталин терпеть не могли друг друга, но делали вид, что совместно продолжают дело Ленина. Сталин возненавидел Троцкого ещё в годы Гражданской войны, часто вспоминал телеграмму Военно-революционного совета Южного фронта в ЦК РКП(б) с протестом против зловредных приказов Троцкого. Самое страшное, что происходило на глазах Сталина, – это бессудная расправа с дрогнувшими в какой-то момент красноармейцами – он их беспощадно расстреливал. Сталин резко осуждал Троцкого и за его поездки по фронту в так называемом «поезде Предреввоенсовета», который чаще всего появлялся на фронте в то время, когда красным приходилось плохо. С приездом Троцкого всё приходило в движение, расстрелы следовали один за другим, не разбирая правых и виноватых, а в заложники хватали женщин, стариков, детей, все одинаково числились по «контрреволюционному ведомству». Троцкого сопровождала команда, состоявшая из наиболее преданных ему и хорошо обученных военных, одетых в кожу, с крупным металлическим значком на левом плече, как бы свидетельствовавшим об особых полномочиях. И действительно, этот отряд выполнял карательные функции, действовал по личному приказу Троцкого, судил, расстреливал, отправлял в концлагеря… После чего укреплялась дисциплина, запуганные красноармейцы шли на противника, порой переходя на его сторону.
На войне как на войне, без жертв не бывает, но Троцкий и его «кожаные куртки» с каким-то особым неистовством уничтожали русских людей. Сталину рассказали о выступлении Троцкого в Курске в середине декабря 1918 года. В здании курского Дворянского собрания шло объединённое собрание губернского и городского комитетов партии. Перед началом вышла карательная сотня в кожаных куртках, потом два стенографиста сели за два стола на сцене, положив перед собой карандаши, бумагу и по нагану. Появляется Троцкий в наглухо застёгнутой тужурке, бриджах и сапогах, пенсне. Долго рассказывает о том, как он организовал Красную армию и какая она победоносная под его руководством:
– Выучка и дисциплина Красной армии будет на должной высоте, если в нашей партии мы избавимся от нытиков и слюнтяев… К сожалению, оказалось, что в нашей партии находится ещё много слюнявых интеллигентов, которые, как видно, не имеют представления о том, что такое революция. По наивности, по незнанию или по слабости характера они возражают против объявленного террора. Революцию, товарищи, революцию социальную такого размаха, как наша, в белых перчатках делать нельзя! Прежде всего это нам доказывает пример Великой французской революции, которую мы не должны ни на минуту забывать.
Каждому из вас должно быть известно, что старые правящие классы своё искусство, своё знание, своё мастерство управлять получили в наследство от своих дедов и прадедов. А это часто заменяло им собственный ум и способности. Что же мы можем противопоставить этому? Чем компенсировать свою неопытность? Запомните, товарищи, – только террором! Террором последовательным и беспощадным! Уступчивость, мягкотелость история нам никогда не простит. Если до настоящего времени нами уничтожены сотни и тысячи, то теперь пришло время создать организацию, аппарат, который, если понадобится, сможет уничтожать десятками тысяч. У нас нет времени, нет возможности выискивать действительных, активных наших врагов. Мы вынуждены стать на путь уничтожения, уничтожения физического всех классов, всех групп населения, из которых могут выйти возможные враги нашей власти.
Предупредить, подорвать возможность противодействия – в этом и заключается задача террора… Есть только одно возражение, заслуживающее внимания и требующее пояснения. Это то, что, уничтожая массово, и прежде всего интеллигенцию, мы уничтожаем и необходимых нам специалистов, учёных, инженеров, докторов. К счастью, товарищи, за границей таких специалистов избыток. Найти их легко. Если будем им хорошо платить, они охотно приедут работать к нам. Контролировать их нам будет легче, чем наших. Здесь они не будут связаны со своим классом и с его судьбой. Будучи изолированными политически, они поневоле будут нейтральны.
Так запомнился монолог Троцкого Сталину, затем эти мысли перешли в собрание сочинений Троцкого, а у Сталина была замечательная память.
Патриотизм, любовь к родине, к своему народу, к окружающим, далеким и близким, живущим именно в этот момент, к жаждущим счастья малого, незаметного, самопожертвование, героизм – какую ценность представляют все эти слова? Они пустышки перед подобной программой, которая уже осуществлялась и бескомпромиссно проводилась в жизнь! Так говорил Троцкий.
Известно и то, что Троцкий не любил повседневные «мелочи», всю аппаратную работу возложил на своего заместителя Склянского, хорошего, опытного организатора и преданного революции большевика. Склянский подобрал и руководил помощниками Троцкого, среди которых выделялись Блюмкин, Сермукс, Познанский, Глазман, Бутов, Нечаев. А Ленцинер собирал все выступления Троцкого, приказы, статьи и заметки в газетах «В пути», «Правда» и других, готовя многотомное собрание сочинений своего патрона с комментариями.
Троцкий был совершенно уверен в предстоящей победе, ему и не обязательно было самому ввязываться в эту борьбу за власть, у него было столько сторонников, уверенных в его талантах и историческом предназначении стать преемником Ленина! И он не ошибался. А. А. Иоффе, видный дипломат того времени и явный троцкист, писал Зиновьеву 23 января 1924 года: «Дорогой Григорий Евсеевич… как ни тягостно это субъективно, но вопрос о Предсовнаркома встает с чрезвычайной неотложностью и важностью. Я полагаю, что было бы весьма рискованным и неудачным пытаться заменить Ленина одним лицом, и потому необходимо теперь создать не председателя Совнаркома, а президиум. Хотя по-прежнему все важные вопросы будут решаться не в Совнаркоме, а в Политбюро – это необходимо для народа и для заграницы прежде всего, чтобы сразу же дать понять, что Ленина и не пытаются заменить. Единственной возможной комбинацией такого президиума была бы: Троцкий, Зиновьев, Каменев. Она имеет только тот минус, что все три евреи, но она единственно возможная…
Если бы эта комбинация не удалась (а это было бы печально, Троцкого в случае отказа от этой комбинации следовало бы обязать согласиться), то пришлось бы вернуться к идее единоличного предсовнаркома и тогда первым кандидатом должен был бы быть Троцкий, вторым – Вы и третьим – Каменев. Иных кандидатов быть не может. С ком. приветом Ваш Иоффе» (См.: Васецкий Н. Троцкий. М., 1990. С. 193 и др.).
Слухи о несметных богатствах большевиков, пришедших к власти сразу после Октябрьской революции, доходили до нас и в советское время. Однако вышла книга Александра Каца «Евреи. Христианство. Россия» (СПб.: Новый Геликон, 1997), в которой приведены многочисленные факты и документы о бесконтрольном грабеже России, об изъятии церковных ценностей на сумму примерно около 5 миллиардов золотых рублей и т. д., но из книги возьму только несколько строчек: «В апреле 1921 г. „Нью-Йорк таймс“ писала:
„Только за минувший год на счет большевистских лидеров поступило:
От Троцкого – 11 млн долларов в один только банк США и 90 млн швейц. франков в Швейцарский банк;
От Зиновьева – 80 млн швейц. франков в Швейцарский банк;
От Урицкого – 85 млн швейц. франков в Швейцарский банк;
От Дзержинского – 80 млн швейц. франков;
От Ганецкого – 60 млн швейц. франков и 10 млн долларов США;
От Ленина – 75 млн швейц. франков.
Кажется, что „мировую революцию“ правильнее назвать „мировой финансовой революцией“, вся идея которой заключается в том, чтобы собрать на лицевых счетах двух десятков человек все деньги мира“».
Та же газета в августе сообщала читателям: «Банк "Кун, Лейба и Ко", субсидировавший через свои немецкие филиалы переворот в России 1917 года, не остался внакладе благодаря своим клиентам. Только за первое полугодие текущего года банк получил от Советов золота на сумму 102 290 000 долларов. Вожди революции продолжают увеличивать вклады на своих счетах в банках США. Так, счёт Троцкого возрос до 80 000 000 долларов. Что касается самого Ленина, то он упорно продолжает хранить свои "сбережения" в Швейцарском банке». (Там же. С. 274–277).
А. Кац упоминает и агента США Л. Мартенса, который был готов вложить 200 миллионов долларов от советского правительства в американскую экономику. Но информацию А. Каца следует ещё проверить. И другие историки и публицисты изучают эти факты…
23 сентября 1922 года в «Известиях» была опубликована статья Уриэля «Музыка для рабочего класса», в частности, в ней говорилось: «Трудно, например, спорить с тем, что в произведениях Баха, Глюка, Гайдна слышатся дальние отзвуки феодальной эпохи. Точно так же трудно возразить против того, что Чайковский является типичным выразителем, я бы сказал, музыкальных настроений усадебного быта нашего помещичье-дворянского класса». «Не Шопен, а Моцарт! Не Чайковский, а Бетховен, Скрябин нужны нам!» – так заканчивается эта во многом примечательная для того времени статья, выражающая пролеткультовские настроения.
Правда, возникали определённые надежды, что подобные вульгаризаторские взгляды и установления не восторжествуют: 21 сентября 1922 года в газете «Накануне» было опубликовано письмо Максима Горького:
«Прошу Вас напечатать в газете Вашей прилагаемое письмо.
Распространяются слухи, что я изменил моё отношение к советской власти. Нахожу необходимым заявить, что советская власть является единственной силой, способной преодолеть инерцию массы русского народа и возбудить энергию этой массы к творчеству новых, более справедливых и разумных форм жизни.
Уверен, что тяжкий опыт России имеет небывало огромное и поучительное значение для пролетариата всего мира, ускоряя развитие его политического самосознания.
Но по всему строю моей психики, не могу согласиться с отношением советской власти к интеллигенции. Считаю это отношение ошибочным, хотя и знаю, что раскол среди русской интеллигенции рассматривается – в ожесточении борьбы – всеми её группами как явление политически неизбежное. Но это не мешает мне считать ожесточение необоснованным и неоправданным. Я знаю, как велико сопротивление среды, в которой работает интеллектуальная энергия, и для меня раскол интеллигенции – разрыв одной и той же по существу – энергии на несколько частей, обладающих различной скоростью движения. Общая цель всей этой энергии – возбудить активное и сознательное отношение к жизни в массах народа, организовать в них закономерное движение и предотвратить анархический распад масс. Эта цель была бы достигнута легче и скорей, если бы интеллектуальная энергия не дробилась. Люди науки и техники – такие же творцы новых форм жизни, как Ленин, Троцкий, Красин, Рыков и другие вожди величайшей революции. Людей разума не так много на земле, чтобы мы имели права не ценить их значение. И, наконец, я полагаю, что разумные и честные люди, для которых „благо народа“ не пустое слово, а искреннейшее дело всей жизни, – эти люди могли бы договориться до взаимного понимания единства их цели, а не истреблять друг друга в то время, когда разумный работник приобрёл особенно ценное значение».
Статья Уриэля в «Известиях» и письмо Горького в «Накануне» – это как бы два взгляда на мир, как две тенденции в строительстве новой культуры, которые с разных сторон оказывали давление на литературную повседневность, влияли на искусство, живопись, театр… Тенденции, чётко определившиеся по отношению к мировому культурному наследию, к творчеству вообще, техническому, научному, художественному… В повседневной художественной жизни всё ещё сказывалось дурное влияние теории пролетарской культуры Богданова, которая многими деятелями воспринималась как «незыблемая основа для строителей будущего», хотя она и была осуждена В. И. Лениным в известных тезисах «О пролетарской культуре» как теоретически неверная и практически вредная.
Но не только в этом усмотрели опасность руководящие круги партии большевиков. С началом нэпа в частных издательствах (по подсчёту историков, в Москве возникло 220, а в Петрограде – 99) стали выходить книги, социальное и философское содержание которых не полностью совпадало с провозглашёнными партией большевиков идеями, а порой и резко противоречило. Это сразу же обеспокоило вождей ЦК РКП(б). «С нэпом началось частичное восстановление капиталистического „базиса“. Это действовало как живительный бальзам на старых, сохранившихся в стране идеологов капитализма. Им не надо было вырабатывать какой-то новой идеологии, она у них имелась в готовом виде, требовалось только некоторое приспособление её к условиям места, времени и пространства», – писал заведующий агитпропотделом ЦК РКП(б) А. Бубнов в статье «Политические иллюзии нэпа на ущербе», опубликованной в журнале «Коммунистическая революция» (1922. № 9-10). А в статье «Возрождение буржуазной идеологии» он призывал советскую журналистику бороться с буржуазной идеологией: «… Столичная советская журналистика должна пулемётным огнём самого высокого напряжения обстреливать буржуазную идеологию» (Буржуазное реставраторство на втором году нэпа. Пг., 1922. С. 54, 27).
Некоторые издательства, в частности «Огоньки» Л. Д. Френкеля, опубликовали такие книги, как «Переписка из двух углов» М. О. Гершензона и В. И. Иванова, «Закат Европы» О. Шпенглера, сборники, книги известных философов Бердяева, Леонтьева и др.
К этому времени громко заявили о себе Вс. Иванов, Л. Леонов, К. Федин, продолжали печататься А. Блок, Н. Гумилёв, С. Есенин, вновь стали выходить дореволюционные журналы «Былое» и «Голос минувшего», «Вестник литературы», появлялись новые выпуски «Записок мечтателей», одна за другой выходили книги Е. Замятина, Б. Пильняка, В. Маяковского, А. Ахматовой. И каждая книга несла в себе неповторимость и резко выраженную индивидуальность как по форме, так и по содержанию. Было отчего блюстителям идейной большевистской чистоты и идеологической ясности прийти в оторопь и растерянность. Малейшее отклонение от теории пролетарской культуры рассматривалось как вылазка классового врага. Партия и правительство Советской России приветствовали всяческое сотрудничество различных слоёв населения как внутри страны, так и за рубежом. И как только за границей был провозглашён лозунг, что пора протянуть честную руку помощи России, так Россия сразу же откликнулась на этот призыв, открыв свободный доступ книг, издаваемых в Берлине теми, кто провозгласил этот лозунг. В связи с этой политикой свободнее себя почувствовали и те круги в России, которые так же честно хотели сотрудничать с советской властью, хотя и не разделяли взгляды большевиков, вставших у кормила власти.
Нужно только помнить, что этот благотворный период сотрудничества советской власти с творческой, научной, технической интеллигенцией длился весьма короткий срок. Как только А. Бубнов провозгласил, что «столичная советская журналистика должна пулемётным огнём самого высокого напряжения обстреливать буржуазную идеологию», так все сразу поняли, что начинается этакий новый период взаимоотношений – отход от нэповской вседозволенности.
Мало кто знал о том, что с февраля 1922 года, используя страшный голод 1921 года и пожелание Русской православной церкви отдать часть церковного имущества в обмен на продукты питания для голодающих, кремлёвские большевики приняли решение изъять все церковные ценности и лишить священников богослужебного ритуала. По предложению Л. Д. Троцкого была создана «секретная ударная комиссия», которая должна была «подготовить одновременно политическую, организационную и техническую сторону дела». «Фактическое изъятие должно начаться ещё в марте месяце и затем закончиться в кратчайший срок», – предложил Л. Д. Троцкий, а Ленин, Молотов, Каменев, Сталин («опросом») согласились с этим. «Формальное изъятие в Москве будет идти непосредственно от ЦК Помгола, где т. Софронов будет иметь свои приёмные часы». 11 марта 1922 года была назначена «секретная ударная комиссия» под председательством Т. В. Сапронова (1887–1939), члена президиума ВЦИК, родившегося в бедной многодетной крестьянской семье, знавшей голод и бедность, в членах комиссии числились: заместитель председателя ВЧК Уншлихт, Медведь, Самойлова-Землячка и Галкин.
13 марта Политбюро по предложению Троцкого приняло решение «О временном допущении „советской“ части духовенства в органы Помгола в связи с изъятием ценностей из церквей». Этим решением церковь вынуждают пойти на раскол среди священников и епархиата.
Ленин предлагал ликвидировать веру и церковь, Троцкий – за раскол, требовал привлечь духовенство и сделать его «советским», чтобы легче управлять церковью. 30 марта 1922 года Л. Д. Троцкий написал в Политбюро записку о политике по отношению к церкви, в которой предложил учредить «сменовеховское духовенство», но рассматривать его «как опаснейшего врага завтрашнего дня», а сейчас воспользоваться им для раскола и подавления церкви, «пропитанной крепостническими, бюрократическими тенденциями, не успевшей проделать буржуазной революции», пропитанной «открыто контрреволюционной с черносотенно-монархической идеологией». «Кампания по поводу голода для этого крайне выгодна, ибо заостряет все вопросы на судьбе церковных сокровищ, – писал Троцкий. – Мы должны, во-первых, заставить сменовеховских попов целиком и открыто связать свою судьбу с вопросом об изъятии ценностей; во-вторых, заставить довести их эту кампанию внутри церкви до полного организованного разрыва с черносотенной иерархией, до собственного нового собора и новых выборов иерархии» (Новый мир. 1994. № 8. С. 190). Троцкий разработал практические выводы для совещания секретарей губпарткомов и предгубисполкомов. Ленин написал записку для Политбюро, в которой высказался открыто и полностью, предложив назначить председателем комиссии М. И. Калинина: «Именно теперь и только теперь, когда в голодных местностях едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией и не останавливаясь подавлением какого угодно сопротивления… Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать…» (Там же). Официально от имени правительства должен выступать только Калинин, никогда не должен в печати или публично – Троцкий.
Естественно, церковь, патриарх Тихон, священники, представители религиозной части многомиллионного крестьянства, мещанства и рабочего люда возражали против насильственного захвата церковного имущества, но заместитель председателя ГПУ Уншлихт докладывал, что арест синода и патриарха и выборы нового синода и патриарха сейчас вполне возможны, то есть была утверждена директива Л. Троцкого, изложенная в записке и принятая на заседании Политбюро 22 марта 1922 года. Л. Троцкий написал для интервью М. И. Калинина шесть разделов, которые должны появиться в печати, и отыскал епископа Антонина Грановского, согласного действовать по его указке и внёсшего свою лепту в этот раскол.
Всех «коноводов», возглавлявших сопротивление изъятию, приказано было расстрелять.
26 апреля в Московском трибунале под председательством М. Бека началось судебное расследование действий священников и мирян, оказывавших сопротивление изъятию церковных ценностей. Заседание проходило в Политехническом музее, но ночью на секретные заседания собирался президиум ГПУ в составе Уншлихта, Менжинского, Ягоды, Самсонова, Красикова и принимал свои решения, связанные с процессом в Политехническом музее.
4 мая 1922 года Политбюро рассмотрело вопрос «о московском процессе в связи с изъятием ценностей (тт. Троцкий, Каменев, Бек) и приняло строго секретное решение:
а) Дать директиву Московскому трибуналу 1) немедленно привлечь Тихона к суду, 2) применить к попам высшую меру наказания.
б) Ввиду недостаточного освещения в печати московского процесса поручить т. Троцкому от имени Политбюро сегодня же инструктировать редакторов всех московских газет о необходимости уделять несравненно большее внимание этому процессу и, в особенности, выяснить роль верхов церковной иерархии».
В тот же день Л. Троцкий направил письма в редакции «Известий», «Правды», «Рабочей Москвы», ЦК РКП, Зеленскому, предлагая читателям сообщить, что «в советской республике существует централизованная антинародная контрреволюционная организация, которая прикрывается религией, а на деле является политическим сообществом…».
В это время с Запада поступил яростный протест против большевистских преследований служителей церковного культа, прежде всего против расстрела католического викарного епископа Будкевича, осуждённого 23 марта 1923 года, за выступления против гонений на патриарха и синод. Дзержинский, учитывая реакцию зарубежных политиков, предложил в Политбюро отложить процесс над Тихоном на неопределённое время, и Политбюро согласилось с ним.
А между тем Московский трибунал вынес решение – расстрелять 11 священников, протестовавших против изъятия церковных ценностей. Л. Троцкий предложил «лояльным» священникам, то есть созданной «Живой церкви», похлопотать о пересмотре дела, и оно было пересмотрено: пятерых расстрелять, а шестерых помиловать. В документах сохранилась подпись Троцкого, утвердившего это решение.
Но и на этом дело с Русской православной церковью не закончилось: в ночь с 12 на 13 августа 1922 года были расстреляны митрополит Петербургский и Гдовский Вениамин (Казанский), архимандрит Сергий (Сергей Павлович Шеин), профессор Петроградского университета Юрий Петрович Новицкий и председатель правления православных приходов Иван Михайлович Ковшаров, которые действовали «путём возбуждения населения к массовым волнениям в явный ущерб диктатуре пролетариата» (Новый мир. 1994. № 8. С. 210).
Весь этот поход против Русской православной церкви подробно освещался в газетах и журналах и хорошо был известен литературной, художественной, научной общественности, пытавшейся протестовать против этого бесчеловечия. Бесполезно.
Одновременно с этим происходили серьёзные перемены в творческой жизни России, почувствовавшей себя свободной после введения нэпа. Во всяком случае, 1922 год отмечен оживлением в журналистике: выходили альманахи, сборники, возобновились дискуссии по самым различным вопросам. И прежде всего по главному – куда пойдёт Россия?
Возник журнал «Новая Россия», «первый беспартийный публицистический орган», который провозгласил желание русской творческой интеллигенции сотрудничать с советской властью. «Жизнь раздвинулась, и пути её стали шире», – писал в первом номере журнала писатель В. Тан в статье «Надо жить». Владимир Германович Тан-Богораз (1865–1936) до революции не раз бывал арестован, потом выпущен, потом опять посажен… Он в это время много писал, стихи, прозу, «Колымские рассказы», два тома «Американских рассказов», три тома «Чукотских рассказов», романы, больше этнографические, множество статей. В своей автобиографии он признавался: «Был я Натан Менделевич Богораз, стал Владимир Германович Богораз, – Германович по крёстному отцу, как тогда полагалось… Но с ранней юности я себя считал не только евреем, но также русским. Не только россиянином, российским гражданином, но именно русским. Считаю себя русским и чувствую русским…» (Деятели СССР и революционного движения России. М., 1989. С. 235). Надо жить, несмотря на большевистскую цензуру, утверждал Тан-Богораз, надо жить, как рекомендуют в Берлине, в Европе, как рекомендует сборник «Смена вех». Чуть ли не в каждом номере журнала непременно говорилось, что интеллигенция может сотрудничать с новой властью только при одном непременном условии – интеллигенция должна быть независима в своих мнениях и высказываниях, интеллигенция «по одному своему существу не может служить интересам какого-либо одного класса, одной группы». Об этом в статье «О задачах интеллигенции» решительно заявил А. С. Изгоев в альманахе «Парфенон» (Кн. 1. Пг., 1922. С. 36).
5 января 1922 года в Доме литераторов в Петрограде на одном из многочисленных обсуждений сборника «Смена вех» кооператор В. Ф. Измайлов заявил, что «литература и либеральная интеллигенция нужны только для Европы, „чтобы показать ей, что у нас есть и то и другое. Народ ни этой литературы, ни этой интеллигенции не знал“». И далее кооператор говорил, что и вот это обсуждение сборника «Смена вех» нужно всё той же Европе, чтобы показать, что у нас есть умственная жизнь. А народу всё это не нужно. И только, дескать, народ спасёт Россию, он по-прежнему будет обрабатывать землю, добывать хлеб, чинить хаты. И в 1812 году Россию спас народ, а не дипломаты, не полководцы…
Возражая против этого «первобытно-наивного народничества», Александр Изгоев (Арон Соломонович Ланде. 1872–1935), сын учителя Виленского раввинского училища, впоследствии нотариуса города Ирбита Пермской губернии) напомнил, что почти сто лет в русских школах учат произведения Пушкина, Некрасова, Толстого, Достоевского, в школах учились миллионы людей, по одному этому можно сказать, что русская литература нужна была не только Европе, но и для русского народа. «Всякий писатель, художник, артист, всякий пропагандист, всякое духовное лицо, словом, все, ставящие своей целью стремление чему-либо научить людей, входят в группу, именуемую интеллигенцией». Другое дело, чему учит эта интеллигенция. Партийная принадлежность определяет содержание учительства, пропаганды знаний. И все интеллигенты, независимо от партийной принадлежности, «не могут не желать определённой и ясной меры свободы для своей проповеди, для своего учительства. Вначале они желают только для себя и для своих единомышленников. Некоторые прямо это и говорят, не скрывая. Другие лицемерят, до времени пряча когти».
«История, однако, даёт жестокие уроки и гонителям и гонимым, – продолжает спорить А. С. Изгоев. – Вчерашний гонитель сегодня сам превращается в гонимого и собственным жестоким опытом познаёт необходимость существования узаконенной свободы.
Очень часто бывает, что вчерашний гонимый, получив власть, сам становится гонителем. По закону реакции он тем более усердствует, чем тяжелее жилось ему в своё время. Но и ему скоро приходится убеждаться, что в вопросах учительства и пропаганды насилие приводит к совершенно обратным результатам. Идеи, которые ещё вчера были так популярны и влиятельны, несмотря на сильные преследования, сегодня вдруг утрачивают свою мощь, вызывают уже не любовь, а недоверие, пренебрежение и ещё худшие чувства. Официальные проповедники канонизированных доктрин, не встречая ни критики, ни отпора, быстро засыпают и замирают, превращаются в заводные куклы, только и способные твердить свои „па. п. па“ и „ма. м. ма“, когда их дёрнуть за верёвочку. Несмотря на сильную внешнюю, и полицейскую и финансовую поддержку, официальная доктрина начинает загнивать в сердцевине. Падение её нечасто, поэтому бывает внезапное и сокрушительное. Более дальновидные деятели всегда понимают опасность искусственного и насильственного единомыслия. Должно быть ересям…» (Парфенон. С. 35).
У интеллигенции есть одно оружие борьбы: воспитание и пропаганда. Если же, добившись власти, интеллигенция использует средства насилия, террор, то она всегда совершает крупнейшую политическую ошибку, как это было и в 1881 году, и в 1918 году. Нет, А. С. Изгоев не против насилия в общественной жизни: мир погиб бы без насилия. «Этой страшной ценой человечество кое-что приобретает, движется по пути к тому строю, когда насилие будет сведено до минимума».
Не принадлежа к борющимся за власть классам и группам, интеллигенция должна, по мнению А. С. Изгоева, выяснять разнородные интересы и указывать возможные пути их согласования и примирения в интересах целого. «Идея компромисса есть по существу идея интеллигентская… Интеллигенция призвана выявлять общественное мнение страны, создавать условия для мирного сожительства под одной крышей групп часто с противоположными и враждебными интересами. Это общественное мнение ярче всего в наше время выражается прессой. Но опыт учит, что оно складывается и проявляется даже там, где почти не существует никакой печати. Не только высшая, но даже средняя школа, церковная кафедра, всякие собрания, даже частные встречи и разговоры людей – всё это служит каналами, по которым ручейки отдельных взглядов сливаются в реку общественного мнения. Интеллигенция не создаёт общественного мнения. Оно создаётся из взаимоотношений людей различных общественных групп. Но интеллигенция его осмысливает, оформляет, осознаёт и выражает».
Интеллигенция не может стать господствующей группой над миллионами русского народа, хотя бы просто потому, что она не принимает участия в производстве материальных благ, основы жизни. И в минуты революционных взрывов интеллигенция отходит на задний план событий. «Но когда революционная передвижка социальных сил приостанавливается, начинается эволюционное течение процесса и устанавливается некое новое, хотя бы и колеблющееся, равновесие, роль интеллигенции снова становится серьёзной и ответственной»: она обязана распространять в народе знания, способствовать людям в их организации общества на наиболее разумных и справедливых началах. «Но призвание её не сводится к простому обслуживанию интересов того или иного класса, а к пропаганде в стране таких условий быта, которые, удовлетворяя все законные интересы, обеспечивали бы наибольшее процветание целого.
Если уничтожение классов, т. е. замена всех их одним, оказалось в данное время неосуществимым, то тем самым оправдана и признана эта основная задача интеллигенции. Никакой закон, никакое право не может созидаться на принципе homo homini lupus est („человек человеку волк“).
На волчьем положении совместная жизнь разных социальных групп немыслима. Надо строить отношения человеческие» (Там же. С. 37–39).
К этому и призывает в своей статье «О задачах интеллигенции» А. С. Изгоев («По-детски прямолинейный, – по словам кадета Гессена, – но искренний и честный»), который за свои антибольшевистские взгляды не раз сидел в советских тюрьмах и ссылках, изредка печатался. И не только он: весь пафос созидательной культурной деятельности многих «старых» интеллигентов заключался в том же – надо жить, надо строить человеческие отношения на взаимном доверии, на взаимном понимании разных интересов различных групп, классов. В ноябре 1922 года А. С. Изгоев был выслан.
В марте 1922 года в редакционной статье журнал «Новая Россия» выражал надежду на возрождение России, которое «должно совершиться на определённой основе и определёнными силами»: «Основа эта не может быть иной, как революционная. Свершилась великая революция, выкорчевала старые гнилые балки и, полуразрушив верхний фасад дома, подвела под него железобетонный фундамент. Дом выглядит сейчас неприглядно, но просмотреть новую могучую социально-государственную основу могут лишь слепцы. Строительство идёт и пойдёт на новых началах, но новых не абсолютно. В этой новизне – великая историческая преемственность. Здоровые корни нового сплетаются с здоровыми корнями прошлого. Лишь выдержавшие критическую проверку и искус революции элементы нового вступают в соединение с такими элементами старого, которые выдержали громовой натиск революции и в стержне своём не поддались, устояли. На синтезе революционной новизны с дореволюционной стариной строится и будет строиться новая пореволюционная Россия».
Деятели «Новой России», преимущественно старые интеллигенты, писатели, журналисты, публицисты, философы, историки, «после четырёх лет молчания» открыто и правдиво стараются высказаться по самым актуальным проблемам современности. Нет, они вовсе не собираются вздыхать по старым добрым временам дореволюционной России, «эти чёрные дни канули безвозвратно», не будут также вспоминать «мучительную страду суровых революционных дней, ибо что проку в малодушии этом», они собираются говорить о будущем России. И это будущее им кажется всеобъемлющим национальным примирением, в котором каждый человек, живущий на территории прежней царской России, может обрести своё место в жизни, найдёт применение своим творческим усилиям, своим знаниям, своему опыту. Пусть земледелец обрабатывает землю, растит богатый урожай; пусть торговец торгует своим добротным товаром; пусть врач лечит больных; пусть рабочий производит столь необходимые машины; пусть каждый найдёт удовлетворение в том, что может сказать, что думает, и делать то, к чему есть охота.
Свои задачи возникают и у беспартийной интеллигенции. За годы молчания у неё накопились свои суждения о прошедшем и о будущем. Беспартийная интеллигенция готова войти в невиданный ранее в истории процесс обновления и возрождения государства, она может и хочет стать строителем нового общества. Во время революции, особенно на первых её этапах, в пору «революционной партизанщины», «страна кишела авантюристами и любителями поживы, горлопанами и демагогами, самодурами и персонажами трибуналов», большинство из них обанкротились, не выдержав проверки временем, суровым и беспощадным ко всяким случайным, бездарным и злоумышленным людям. Выдвинулись люди «деловые и одарённые». «Так произошла переоценка всего живого инвентаря революции и непрерывное её освежение. Как только дело начало устанавливаться прочно на рельсы строительства, чистые разрушители были отменены, и им на смену начали приходить чистые строители». И главная мысль деятелей журнала «Новая Россия» заключается в том, чтобы сейчас, в период возрождения России, к строительству новой жизни были привлечены не только живые силы прошлого, выдвинутые из народных глубин, но и живые силы настоящего. Только в сочетании их, в неразрывном синтезе всех живых, творческих сил возможно возрождение новой могучей России.
Конечно, это сложный, противоречивый процесс, доселе никогда, ни в одной стране не происходивший. Нужна новая идеология, все старые понятия, старая тактика, старые партийные программы испепелились в огне революционного пожара. «Все были у власти, и все обанкротились, ибо все доныне действовавшие общественные силы были повинны в грехе догматизма, оторванности от народа, от подлинной жизненной действительности. Надо повернуть к решительному пересмотру все старые понятия, все идейные и этические предпосылки нашего интеллигентского миросозерцания, начиная от непротивления злу насилием и кончая макиавеллизмом и террором недавних дней.
И пусть официальная печать на сей раз не изображает перелома в настроениях интеллигенции в тонах какой-то смехотворной карикатуры. Это все, изволите ли видеть, кающиеся интеллигенты, порода ничтожных, покаянных и хныкающих душ, которые наконец-то, к исходу пятого года революции, начали кой-что понимать, кое-как научились плести лапти, и вот теперь, отрезвевшие, покаянные, дураковатым елеем мазанные, пожаловали в нашу Каноссу. К счастью, это совсем не так. Процесс пересмотра и переоценки и глубже, и значительней, и сериозней. Мы исходим из мысли о всеобщем идеологическом провале, – всеобщем, значит, без изъятий» (Новая Россия. 1922. № 1. С. 1–3).
Как видим, публицисты журнала «Новая Россия» говорят о всеобщем идеологическом провале, в том числе и о провале большевистской идеологии диктатуры пролетариата, о всеобщем терроре, который господствовал в последнее время.
Жизнь заставляет искать ответы на поставленные вопросы. Поиски эти должны быть динамичны, никто не должен успокаиваться на сегодняшнем и думать, что истина уже в кармане, стоит её только обнародовать, как она овладеет массами, готовыми действовать и всё перестраивать. Устремление этих поисков однозначно – лучшая жизнь народа, его процветание и духовное богатство. Формирование новой идеологии должно происходить на новой социально-государственной базе, рождённой революцией, на сочетании здоровых сил старого и нового, на крепком единстве интеллигенции и народа.
В статьях «Третья Россия» С. Андрианова, «Великий синтез» И. Лежнева, уже цитированной статье «Надо жить» В. Тана, в рецензиях, фельетонах, публикациях журнала – во всех материалах конкретизируется эта главная мысль: наступило время ответственности русской интеллигенции, которая молчала четыре года. Наступило время сотрудничества с советской властью, но только при условии полной гласности. И сотрудничать с советской властью – это вовсе не значит, писал С. Андрианов, возлюбить советскую власть и воспевать ей дифирамбы: «Верноподданнические чувства и овечья покорность – такой же непригодный материал для новой России, как и безответственная контрреволюционная болтовня». Ошибки советской власти чаще всего возникают из-за неосведомлённости и невежества аппарата советской власти. Известно, что «канцелярии и управления кишат людьми недобросовестными и подкупными». Преступно не обратить на это внимание и не предложить свои честные услуги в административной службе. К этому призывают деятели «Новой России». Широкое привлечение старой интеллигенции в административный аппарат повысит культуру страны, введение независимого суда и гласности поможет вовлечь демократические силы страны, которые всё ещё не вовлечены в её трудовой ритм.
«Новые элементы оживающей России чувствуют себя по-иному, – писал Тан. – И прежде всего по-иному чувствует себя интеллигенция. Та интеллигенция, о которой три года говорили как о чём-то ненужном, обсуждали серьёзно вопрос, кормить ли её, или не кормить, и если кормить, то как её заставить работать, – непременно заставить, силком, – которую обзывали и злой, и худосочной, саботажной, буржуазной и ленивой, трясучей, как студень, и вместе непримиримой, как сатана. И вот оказалось, что интеллигенция тоже изменилась. Она прокипела в волшебном котле революции и вдруг помолодела, сбросила с костей два пуда ненужного сала и вместе с салом сбросила хилость и старость. И места под солнцем она уже не ищет, она его имеет, как своё неотъемлемое право, ибо она тоже есть часть революции, кость от её костей, плоть от её плоти» (Новая Россия. 1922. № 1. С. 37).
Русская интеллигенция, прошедшая вместе с революцией все её этапы, испытавшая все её тяготы и трудности, омоложенная и прокалённая огненными ветрами и смерчами революции, чувствуя огромное освежающее влияние трудовой России, готова отдать её народам все свои знания, весь опыт, весь ум и сердце, готовое слиться с широкими трудящимися массами, но никогда она, как и прежде, не будет «идолопоклонницей, духовной рабыней, крепостной и сантиментальной, она будет рабочим и творческим мозгом русского народа и русской революции!». Верой в то, что Россия возродится, встанет из пепла, заканчивает писатель В. Г. Тан-Богораз свою статью «Надо жить».
Но жить им в новой России осталось совсем немного: в высоких партийных кругах уже обсуждали вопрос, как выселить наиболее активных оппонентов советской власти, диктатуры пролетариата, диктатуры Кремля из Советской России. А в литературных кругах продолжала жить трезвая мысль о возможностях сотрудничества с советской властью. Количество журналов, газет, сборников, альманахов по сравнению с минувшим годом быстро увеличивалось. И, судя по всему, значительно расширилась сфера идеологических поисков, творческих устремлений прозаиков и поэтов, публицистов и драматургов, историков и философов…
И снова как яблоко раздора чаще всего возникал Александр Пушкин. Одни по-прежнему восхищались им, его творчеством, его бессмертным гением; другие видели в нём лишь помещика, эксплуатировавшего крепостного мужика.
«Новая Россия» вскоре была закрыта, вместо неё стал выходить журнал «Россия» под редакцией всё того же Исая Лежнёва.
В первом номере «России» был напечатан отрывок из повести Владимира Лидина (1894–1979) «Ковыль скифский», в котором как раз и столкнулись эти разные точки зрения на личность и культурное наследие Пушкина. В самые тяжкие годы революции, когда холод и голод царствовали чуть ли не в каждой московской квартире, Илья Николаевич Страшунцев работает над книгой о Пушкине. Как раз третья глава книги должна дать ответ, в каком доме на Арбате поселился Пушкин, вернувшись из ссылки в Михайловское. Он ходит по домам, расспрашивает, сверяет данные с письмами и воспоминаниями близких Пушкина.
Это занятие удивляет военспеца Гоголева, который и говорит «по поводу Пушкина»:
– Вот вы всё: Пушкин, Пушкин… а что Пушкин такого написал? Всё природа, природа, помещики… помещиков эвон – тю, дым остался, природу тоже на топливо… Это так – одного почитания ради.
Страшунцев (глухо торжественно):
– Россия не может погибнуть, если есть Пушкин.
– Не только не может, но и погибла отлично, и стерженька не осталось.
– Это самое ужасное, что я слыхал за всю революцию.
Страшунцев, продолжая спор с военспецом Гоголевым, завершает успешно свой поиск дома: «ибо дом, где жил Пушкин по приезде из Михайловского, становится судьбой родины» (Россия. 1922. № 1. С. 5).
Здесь же, в первом номере «России», можно было прочитать, что Всероссийский союз писателей на основании особого постановления Совнаркома получил «Дом Герцена», тот самый дом, в котором сто с небольшим лет тому назад родился знаменитый писатель, дом номер 25 по Тверскому бульвару. Новоизбранное правление союза писателей: председателем стал Борис Зайцев, товарищами председателя – М. Осоргин и Н. Бердяев, секретарём – И. А. Эфрос, товарищами секретаря – Н. С. Ашукин и Ан. Соболь, казначеем – С. А. Поляков, председателем хозяйственной комиссии – Н. Д. Телешов, членами правления избрали Ю. Айхенвальда, В. Жилкина, Г. Г. Шпета, И. А. Новикова, кандидатами – В. Г. Лидина и В. Л. Львова-Рогачевского. Правление разработало обширный план работы, но прежде всего из дома предстояло выселить жильцов и «Рауспирт», бывшее Акцизное управление.
В Петрограде в издательстве «Алконост» вышел шестой номер «Записок мечтателей», в котором были напечатаны воспоминания о Блоке. Из раздела «Литературная хроника» можно было узнать, что Иван Шмелёв закончил рассказ «Это было» о том, как во время войны, недалеко от фронта, психически больные захватывают власть в городе и что из этого получается. Повесть И. Шмелёва «Неупиваемая чаша» выходит в издательстве «Задруга». Борис Пильняк завершил повесть «Третья столица», Владимир Лидин – повесть «Ковыль скифский», эпопею «Ночи и Дни», Борис Пастернак издаёт том своей прозы в издательстве «Современник», Николай Никитин – «Рвотный форт», печатают свои произведения Андрей Соболь, Н. Никандров. В состоявшихся вечерах приняли участие поэты Г. Шенгели, Б. Пастернак, И. Новиков, О. Мандельштам, С. Клычков, П. Орешин, В. Фёдоров, А. Чумаченко, А. Кручёных. В издательстве Гржебина вышла в свет книга Евгения Замятина «Островитяне». В издательстве «Полярная звезда» – книга К. Чуковского «Футуристы», в издательстве «Время» – книга рассказов Михаила Слонимского «Шестой стрелковый», в издательстве «Былое» – книги рассказов В. Шишкова, Е. Замятина, Н. Никитина, Михаила Зощенко, Михаила Слонимского… Издательство «Петроград» приступает к печатанию периодических сборников по изобразительному искусству, книгоиздательство «Задруга» готовит к выпуску несколько книг по медицине. В издательстве «Шиповник» вышел первый номер «Шиповника», сборник литературы и искусства под редакцией Фёдора Степуна, в котором были помещены стихи Ф. Сологуба, М. Кузмина, А. Ахматовой, В. Ходасевича, рассказы Б. Зайцева, Н. Никитина, Л. Леонова, Б. Пастернака. Кроме того, в «Литературной хронике» «России» сообщалось, что в скором времени выйдет детский журнал под редакцией К. Чуковского, первый номер еженедельного журнала «Современное обозрение», петроградский «Дом искусств» приступает к изданию двухнедельного журнала «Диск».
В связи с публикацией различных книг упоминаются также издательства – «Первина», «Арена», «Никитинские субботники», «Московский Парнас», Л. Д. Френкеля, Госиздат, «Московский рабочий», «Колос», М. и С. Сабашниковых, «Книгопечатник», «Русский книжник», «Дом печати»…
Всё это разнообразие издательств, альманахов, сборников, журналов, которые стали выходить в Москве и Петрограде, внушало оптимистические чувства и желание работать, писать как можно больше…
Возникали споры, разногласия, недоуменные вопросы, порождавшиеся нетерпимостью некоторых литераторов и журналистов, выступавших в «Правде», «Известиях»… Так, в «Правде» была напечатана статья Сафарова, который, не разобравшись в искренних желаниях деятелей «Новой России» и «России», да и других близких этому направлению, огульно осудил все материалы, опубликованные в первых номерах журналов. Пришлось И. Лежнёву, ответственному редактору, полемизировать с оппонентом, объяснять, что деятели старой интеллигенции искренне и честно пошли на службу к новой России, пошли на союз с пролетариатом и крестьянством, пошли для того, чтобы внести в происходящую работу обновления свой опыт, свой талант. И трудно с ним не согласиться, когда он полемизирует с теми, кто намерен регулировать и регламентировать всё происходящее в современной литературной жизни. «В области литературы, как и в других сферах современной жизни, мы имеем сейчас небывало пышный расцвет новых форм, – констатирует И. Лежнёв. – Достигнуто высокое совершенство стихотворного мастерства, развёрнут многокрасочный спектр повествовательной техники; при всей внешней грубости рафинируется язык, перерождается и усложняется синтаксис. Сколько новых литературных течений, тенденций, потенций!» И необходимо подходить к оценке этого огромного богатства «не с механической простотой одноглазой зоркости, а с аппаратом более чутким и сложным» (Россия. 1922. № 3. С. 12, 15).
И. Лежнёв выступил против тех, кто упрощённо, механически подходит к сложнейшим творческим вопросам развития современной культуры и искусства. Упрощение дошло до того, что всю творческую интеллигенцию разделили на коммунистов и врангелевцев, а всех, кто не попадал в эти две категории, заносили в категорию сменовеховцев. И Пильняк, и «Серапионовы братья», и журнал «Россия», и многое другое, левореволюционное, зачислялось в сторонники буржуазной реставрации и прислужники нэпа.
Так вот остро вставали вопросы идейно-творческого самоопределения для писателей, художников, людей творческого труда. Процесс познания сложного и глубокого, пёстрого и противоречивого мира действительности шёл во всех сферах человеческой деятельности. Звонкие, но пустые фразы словно бы повисали в воздухе, на них мало кто из здравомыслящих людей обращал внимание. Но эти фразы уже произнесены, диктующий их тон уже становится заметен в общественной жизни, к ним начинают прислушиваться, хотя звучат они смехотворно для тех, кто знает, что такое свобода, самостоятельность, предприимчивость. С первых своих шагов старая интеллигенция заговорила о свободе совести, о свободе печати, о праве личности высказывать собственные суждения, каких бы вопросов общественной и политической жизни они ни касались. Права человека и гражданина гарантированы провозглашёнными законами и установлениями. Так что писателю можно писать всё то, что наболело, что просится на перо.
Конечно, творческие люди читали и материалы, в которых от имени революции высказывались решительные прямолинейные предупреждения. Так, перепечатав статью из сборника «Смена вех» в «Справочнике петроградского агитатора» (1922. № 12–13), редакция сопроводила перепечатку статьёй В. Невского «Метод революционного обучения», в которой прямо говорилось: «Пролетариат же умеет ждать и, принимая стремящихся с чистым сердцем в Каноссу, скажет: всякое удобряет коммунистическую ниву. Вы идёте с открытым сердцем. Прекрасно! Будем работать, но помните: Suprema lex – reboluliae lex (Высший закон – закон революции)». Жесткие условия, на которых пролетариат принимает сменовеховцев, но всё-таки принимает… Вряд ли все согласятся быть удобрением коммунистической почвы. Другое дело, когда в «Вестнике литературы» (1922. № 2–3) В. Штейн рассуждает о путях возрождения русской интеллигенции: «Невыносимо тяжёлые материальные условия жизни и участие в Гражданской войне произвели ужасные опустошения среди нашей интеллигенции. Нельзя позабыть и о сотнях тысяч политических эмигрантов, из которых, вероятно, очень многие совершенно потеряны для России. Особенно прочно, нужно думать, осядут носители русской культуры в южнославянских землях, где легче всего может произойти освоение их туземной культурной средой, где можно ожидать и прямого слияния русской и южнославянской крови путём браков, грозящих прочными узами связать беглецов с новой родиной. Русская эмиграция может послужить основой неожиданного необыкновенного расцвета культуры в Болгарии и Сербии и в то же время привести к крайнему оскудению человеческого капитала, представляющего нашу культуру.
Но Россия не может остаться без интеллигенции. Это значило бы стать на голову ниже, и притом на единственную голову. Все меры должны быть приложены к спасению русской культуры. Есть несколько путей. Прежде всего нужно трепетно беречь столь поредевшие в последние годы остатки русской интеллигенции. Русской интеллигенции будет очень трудно пробивать себе дорогу в народнохозяйственной обстановке, создаваемой новой экономической политикой. Погоня за лёгкой наживой, спекуляция или суровый физический труд, единственно рентабельные в наши дни занятия, не по плечу нашей интеллигенции. Гибель остатков интеллигенции может предотвратить только государственное о них попечение. Другая мера – возвращение эмигрантов из-за границы… Третья мера – подготовка кадров новой крестьянской и рабочей интеллигенции».
Трепетно беречь остатки русской интеллигенции… Какому же правительству не понять этого выстраданного русской революцией размышления. Так оно и было на деле… Уже многие старые интеллигенты заявили о себе, опубликовав свои выстраданные книги, Иван Шмелёв, Фёдор Сологуб, Георгий Адамович, Николай Бердяев и многие другие готовы сотрудничать с советской властью, не приспосабливаясь к официальным лозунгам, а пользуясь лишь свободой совести, свободой печати. Появились и молодые писатели, такие как Борис Пильняк и Всеволод Иванов, но они тоже ищут самостоятельности и свободы, без этого не может быть литературы.
Особенно много говорилось в печати о творчестве Андрея Белого, оказавшего подавляющее влияние на всех молодых и начинающих беллетристов. Молчание в годы Гражданской войны сменилось бурной активностью и самого Андрея Белого. В одном из обзоров «Литературной Москвы» Осип Мандельштам писал: «Русская проза тронется вперёд, когда появится первый прозаик, независимый от Андрея Белого. Андрей Белый – вершина русской психологической прозы, – он воспарил с изумительной силой, но только довершил крылатыми и разнообразными приёмами топорную работу своих предшественников». О. Мандельштам с неудовольствием думает о том, что ученики Белого Пильняк и «Серапионовы братья» могут возвратиться в «логово беллетристики, замыкая таким образом круг вращений, и теперь остаётся только ждать возобновленья „Сборников Знания“, где психология и быт возобновят свой старый роман…». Много любопытного в литературных обзорах О. Мандельштама. Но, пожалуй, самое интересное – это его рассуждения о художественных особенностях молодых писателей «новой волны».
Наблюдая процесс литературного возрождения и принимая в нём посильное участие, Осип Мандельштам жадно вчитывался в текущие журналы. На первый взгляд суждения О. Мандельштама парадоксальны. Ну почему, если Пильняк или серапионовцы вводят в своё повествование «записные книжки, строительные сметы, советские циркуляры, газетные объявления, отрывки летописей и ещё бог знает что», то их «проза ничья»? «В сущности она безымянна. Это – организованное движение словесной массы, цементированной чем угодно. Стихия прозы – накопление. Она вся – ткань, морфология, – размышляет О. Мандельштам. – Нынешних прозаиков часто называют эклектиками, т. е. собирателями. Я думаю, это – не в обиду, это – хорошо. Всякий настоящий прозаик именно эклектик, собиратель. Личность в сторону. Дорогу безымянной прозе… Почему именно революция оказалась благоприятной возрождению русской прозы? Да именно потому, что она выдвинула тип безымянного прозаика, эклектика, собирателя, не создающего словесных пирамид из глубины собственного духа, а скромного фараонова надсмотрщика над медленной, но верной настройкой настоящих пирамид» (Россия. 1922. № 2. С. 26).
Любопытна и полемика между Максимом Горьким и Михаилом Пришвиным. Вспоминая свою жизнь, случаи жестокости, которые ему приходилось наблюдать, Горький приходит к выводу (статья «Русская жестокость»): «Я думаю, что превалирующая черта русского национального характера – жестокость, – так же, как юмор – превалирующая черта английского национального характера. Это – жестокость специфическая, это своего рода хладнокровное измерение границ человеческого долготерпения и стойкости, своего рода изучение, испытание силы сопротивляемости, силы жизненности.
Самая характерная черта русской жестокости – художественная изобретательность, дьявольская утончённость…
Единственное, что способствует, по моему глубокому убеждению, развитию утончённой жестокости в России, – это чтение житий святых, мучеников, излюбленнейшее занятие наших грамотных крестьян.
Я говорю о жестокости не как о проявлении вовне извращённой или больной души отдельных индивидуальностей, такие случайности – дело психиатров. Я говорю здесь о массовой психике, о душе народа, о коллективной жестокости… Но где же – спрашивается, наконец, – тот добродушный и созерцательный русский крестьянин, неустанный искатель истины и справедливости, которого так прекрасно и убеждённо описывала русская литература XIX века?
В свои молодые годы я сам с восторгом искал этого человека по всей русской земле, но я его не нашёл. Я находил везде грубого реалиста, хитрого мужика, который, когда это ему было выгодно, умел прикидываться дураком…» (Новая Россия. 1922. № 2. С. 141–143).
Через несколько недель М. Горькому ответил М. Пришвин в «Письмах из Батищева»: «Ждали мы, ждали слова живого, и вот Алексей Максимович (Горький) натужился и удивил всех нас, сидящих, безмерно: жестокость (?) русского народа выходит от чтения жития святых.
От понимающих людей наверно уж ему, бедному, жестоко досталось, и не буду я разводить критику…»
Конечно, не только о статье Горького в письмах М. Пришвина; он пытается разобраться и понять, почему сейчас возникают противоречия в деревне, доводящие до драки, поножовщины, до серьёзного недовольства жизнью, порядками, которые установила советская власть. Нет, утверждает М. Пришвин, русской жестокости как национальной черты характера, нет художественной изобретательности и дьявольской утончённости, а бывают порой порывы взаимной злобы от неправильно, несправедливо устроенной жизни в деревне. И рассказывает о том, как бывшая учительница, заведующая детской колонией, вышла замуж за деревенского парня в надежде на «беспечальное житьё», а деревенская жизнь оказалась настолько тяжкой, что ей всё время кажется, словно её кто «обухом пристукнул». Нет, муж её жалеет, а вот хозяйство – маленькое (корова, лошадь, два подсвинка, две овцы, двенадцать кур), а приходится вставать до восхода и ложиться спать перед рассветом, всё время спать хочется… Разговорился М. Пришвин с бывшей учительницей, разобрались, в чём же дело… Если раньше крестьянин работал у помещика «из полу или из трети» и полностью обеспечивал свою живность кормами, то теперь распределяет луга Луговая комиссия. В комиссии оказываются люди, падкие до взяток, берут хлебом, самогонкой, поросятами, выделяя подносителям лучшие луга, а кто не умеет этого делать, получает похуже, а их в деревне большинство, вот и начинается свара. Мужики выходят с косами и начинают доказывать свою правоту. Потом, одумавшись, возвращаются к работе. И опять задача: если бы у каждого был отдельный участок, то не спешили бы скосить в любую погоду, а дожидались бы «вёдра». М. Пришвин и учительница высказались за отдельные участки для каждого крестьянина, семейный подряд экономически выгоднее, чем коллективный. И людям спокойнее, и земле: «Будь хозяйство на отдельном участке, там бы ни делиться, ни спешить, – работай, когда есть силы и погода хорошая…»
Подводя итоги творческих дискуссий, Исай Лежнёв обратил внимание на главную характерную черту времени: появились люди, «желающие регулировать литературную жизнь и быть акушерами нового слова», «у нас сейчас заострился интерес к литературе в политических кругах, – своего рода декаданс, или новейшего вида меценатство, когда люди после прозаических продналоговых забот обращаются к поэзии и эстетике. И, конечно, политический профессионализм сказывается и в подходе к вопросу, и во вкусах. Все разговоры роковым образом сползают на идеологию…» (Россия. 1922. № 3. С. 12). А это большая беда, которая вскоре и проявилась.
В высших политических кругах РКП(б) возникла мысль прекратить полемику в обществе, которое мчится к мировой революции и никакие нэпы это движение не остановят.
Ленин умирал, удар следовал за ударом… В минуты просветления Ленин диктовал свои последние статьи, письма, распоряжения… Сталкиваясь с проявлениями чуждой идеологии, Ленин обращался к стойким защитникам революции по вопросам, которые давно обсуждались в руководстве:
«Т. Дзержинский! К вопросу о высылке за границу писателей и профессоров, помогающих контрреволюции.
Надо это подготовить тщательнее. Без подготовки мы наглупим. Прошу обсудить такие меры подготовки.
Собрать совещание Мессинга, Манцева и ещё кое-кого в Москве.
Обязать членов Политбюро уделять 2–3 часа в неделю на просмотр ряда изданий и книг, проверяя исполнение, требуя письменных отзывов и добиваясь присылки в Москву без проволочек всех некоммунистических изданий.
Добавить отзывы ряда литераторов-коммунистов (Стеклова, Ольминского, Скворцова, Бухарина и т. д.).
Собрать систематические сведения о политическом стаже, работе и литературной деятельности профессоров и писателей. Поручить всё это толковому, образованному и аккуратному человеку в ГПУ.
Мои отзывы о питерских двух изданиях:
„Новая Россия“ № 2. Закрыта питерскими товарищами. Не рано ли закрыта? Надо разослать её членам Политбюро и обсудить внимательнее. Кто такой её редактор Лежнёв? Из „Дня“? Нельзя ли о нём собрать сведения? Конечно, не все сотрудники этого журнала кандидаты на высылку за границу.
Вот другое дело питерский журнал „Экономист“, изд. XI отделом Русского технического общества. Это, по-моему, явный центр белогвардейцев. В № 3 (только в третьем!!! это note bene) напечатан на обложке список сотрудников. Это, я думаю, почти все – законнейшие кандидаты на высылку за границу.
Все это явные контрреволюционеры, пособники Антанты, организация её слуг и шпионов и растлителей учащейся молодёжи. Надо поставить дело так, чтобы этих „военных шпионов“ изловить и излавливать постоянно и систематически и высылать за границу.
Прошу показать это секретно, не размножая, членам Политбюро, с возвратом Вам и мне, и сообщить мне их отзывы и Ваше заключение». 19/V (1922). Ленин.
В это время философский журнал «Мысль» был уже закрыт, едва успев выпустить два номера. Журнал «Экономист» («явный центр белогвардейцев») был закрыт в июне 1922 года.
Откроем второй номер «Экономиста». Статья С. И. Зверева «Накануне Генуи»… С горечью автор пишет, что мечты о великих социальных достижениях, которые мы пытались осуществить уже при жизни нынешних поколений, так и остались мечтами. Пережитый великий кризис отбросил страну далеко назад в хозяйственном и культурном развитии, и Россия в настоящее время может мечтать лишь о довоенном уровне, «и лишь от него, и через него, двинуться к дальнейшим достижениям в областях хозяйства и культуры нации».
Казалось бы, здравые мысли высказывает С. И. Зверев, есть, конечно, скрытая полемика с вождями революции, но вполне уважительная, корректная, а призыв упорно трудиться, создавая материальные ценности, вполне соответствует духу времени.
Может быть, не понравилась статья В. М. Штейна «Нищета и роскошь»? Действительно, статья пронизана нравственной болью и злободневной остротой, приведено много фактов, свидетельствующих о том, что принесла война Европе и России – голод и нищету. В. М. Штейн всерьёз анализирует причины того, что новая экономическая политика не даёт ощутимых результатов: оживает только мелкая и средняя промышленность, «по-прежнему влачит жалкое существование крупное производство».
Пожалуй, наиболее глубокой и до сих пор злободневной является статья Питирима Сорокина «Влияние голода на социально-экономическую организацию общества». Полемизирует с упрощёнными представлениями Н. Бухарина и Преображенского, высказанными в «Азбуке коммунизма» (М., 1920). И делает вывод: там, где принуждение, непременно воцаряются голод и нищета.
Умные, талантливые, знающие экономисты высказывают мысли, которые их волнуют и тревожат, порой предсказывают, как Питирим Сорокин, последствия принудительного этатизма, который уже господствовал в нашей экономической деятельности; нэп же, которым восторгаются и предлагают идти этим путём, захватил только малюсенькую частичку нашей экономики: производство пирожных и подобных предметов потребления.
Скорее всего, вызвала раздражение статья А. Л. Рафаловича «Новая экономическая политика», в которой автор сразу же говорит, что ничего нового в этой политике, в сущности, нет: новой может быть названа лишь экономическая политика, проводившаяся с конца 1917 года до половины 1921 года: «Это было, действительно, нечто новое в экономической области… Подобная экономическая политика привела страну к большим затруднениям, почему и пришлось эту политику ликвидировать, и искать спасения в её коренном изменении». И автор рисует картины той экономической жизни, которая возникла сразу же после Октябрьской революции. Повсюду возникла разруха, «сельское хозяйство России постепенно превращалось в бесплодную смоковницу», разрушен транспорт, «национализированные промышленность, транспорт и торговля» приносили «огромный убыток, принуждающий прибегать к всё увеличивающейся бумажно-денежной эмиссии». И автор приходит к выводу, что полная разруха народного хозяйства возникла как результат «огосударствления всего производственного процесса, учёта и распределения государством всех результатов этого процесса, уничтожения частной собственности, аннулирования денег и т. д… Отмена принципов, на которых строится хозяйственная жизнь в современных исторических условиях, превратила цветущие поля в пустыни, потушила фабричные трубы, остановила железные дороги, заставила умирать от голода население… Можно было победить Колчака и Юденича, Деникина и Врангеля – но пришлось сложить оружие перед гранитною стеною законов, управляющих экономическим бытиём народов…».
Так программные теоретические положения марксистов рухнули от столкновения с реальной жизненной действительностью.
Рафалович, исследуя различные стороны экономической жизни России, сельское хозяйство, торговлю, промышленность, финансы и пр., приходит к заключению, «что новая экономическая политика в современном объеме её мероприятий в состоянии дать лишь очень немного… Новая экономическая программа справедливо осуждает прошлое…» Автор статьи доказывает, что декреты о натуральном налоге, заменившем продразвёрстку, оказались чрезвычайно сложными и трудновыполнимыми из-за многочисленных инструкций и дополнений. В результате в деревнях и сёлах научились скрывать количество пахотной земли: «Исчезли неизвестно куда с лица земли русской миллионы десятин пашни, и тщетно налоговая инспекция и особые комиссии разыскивали по российским степям пропавшие без вести десятины… Так ответило крестьянство на новую экономическую политику. Нужно признать, что ставка на натуральный налог проиграна; очевидно, что „припрятанная“ земля появится вновь на свет Божий и вновь будет обрабатываться, лишь когда наступят иные условия и иные времена…»
И следующая статья – «Проблемы народного хозяйства при социалистическом строе» Б. Д. Бруцкуса – полна интересных и свежих мыслей, острых, полемичных, но ни в одной строчке её нет «белогвардейщины», нет «пособника Антанты» и «растлителя учащейся молодежи».
Талантливые писатели и экономисты, предлагая работать с советской властью, высказали свои честные мысли, но советская власть отвергла их. В их мыслях был и тот самый протест, который подвигнул Леонида Каннегиссера убить Урицкого, но форма этого протеста была не террористской, а интеллектуальной. Но им не удалось двинуть развитие России по своим строго продуманным экономическим путям. Н. В. Монахов, А. С. Изгоев, Г. Ф. Чиркин, А. Л. Рафалович, Б. Д. Бруцкус в двух номерах «Экономиста» подвергли острой критике высказывания лидеров большевизма о введении новой экономической политики и предрекли скорейший её крах. Этого большевики не могли себе позволить…
В ноябре 1922 года из Петербурга были высланы больше двухсот писателей, философов, экономистов, математиков, журналистов, среди них Л. П. Карсавин, Н. А. Бердяев, С. Л. Франк, Н. О. Лосский, И. И. Лапшин, А. С. Изгоев, П. Сорокин и другие – все они «метлой» Дзержинского и Троцкого были выметены из России как «контрреволюционеры, пособники Антанты», «шпионы и растлители молодёжи», как утверждал В. И. Ленин.
Троцкий по этому поводу без сожаления сказал:
– Те элементы, которых мы высылаем и будем высылать, сами по себе политически ничтожны. Но они потенциальное оружие наших возможных врагов… В случае новых военных осложнений все эти наши непримиримые и неисправимые элементы окажутся военно-политическими агентами врага.
Лев Троцкий жил в Кремле, но часто уезжал в Архангельское, бывшую усадьбу князя Феликса Юсупова, и целыми днями бродил по прекрасному парку, отдаваясь ничегонеделанию, потом входил в кабинет и часами писал свои статьи, воспоминания, записки с указаниями своим помощникам. Одна за другой выходили его книги…
Вместо уехавших представителей творческой интеллигенции и просто бежавших из Советской России Бунина, Куприна, Мережковского и Гиппиус, Шаляпина и других двух-трёх миллионов граждан, разъехавшихся по всему миру, Лев Троцкий и близкие его духу большевики решили создать свою творческую пролетарскую интеллигенцию.
Картина художественной жизни в начале 20-х годов была настолько пёстрой, столько было различных направлений, течений, кружков, групп, столько было разноречивых программ, деклараций, что, скажем, В. В. Вересаев (Смидович, 1867–1945), приехав в Москву после длительного отсутствия, как он вспоминает, просто оторопел от неожиданности. На улице он увидел множество расклеенных объявлений, в которых сообщалось о литературных вечерах неоклассиков, неоромантиков, символистов, футуристов, презантистов, имажинистов, ничевоков, эклектиков. «Сколько стойл нагородили сами себе художники, как старательно стремится каждая группа выстроить себе отдельное стойлице и наклеить на него свою особую этикетку!» – с горечью писал В. Вересаев. И тут же высказывал сокровенное желание «вместо этой длинной конюшни с отдельными стойлами увидеть табун диких лошадей, не желающих знать никаких сектантских стойл, свободно скачущих через загородки всяких деклараций» (Вересаев В. Что нужно для того, чтобы быть писателем // Печать и революция. 1923. № 1. С. 12).
Писатели – участники литературных группировок «Серапионовы братья» (1921), «Перевал» (1923), «Кузница» (1920), групп «Октябрь», «Молодая гвардия», «На посту» и т. д. – расходились в понимании ряда основных проблем литературы и искусства, между ними шла острая литературная борьба.
Новая действительность поставила перед художниками главный вопрос: каким должен быть человек – таким же, как и в жизни, сложным, противоречивым, «пегим», когда новое уживается со старым, или художник может искусственно возвысить человека, перестраивающего жизнь, отбросить всё старое, христианский и православный гуманизм, милосердие, неприязнь к чужому добру и другие моральные качества старого общества, что ещё мешает ему стать целиком носителем новой нравственности, новых моральных устоев.
В реальном движении искусства 20-х годов, сквозь пёструю ветошь манифестов и деклараций, сквозь мимолётные категорические лозунги, проступает главное: само развитие литературы, зачастую не желавшей считаться с односторонними положениями тех или иных теоретиков. И не случайно в активе русского литературного движения остались произведения наиболее талантливых писателей, безотносительно к их групповой принадлежности, будь то рапповцы Александр Фадеев, Демьян Бедный (настоящее имя и фамилия Ефим Алексеевич Придворов, 1883–1945), Николай Погодин (настоящая фамилия – Стукалов, 1900–1962), Александр Афиногенов (1904–1941), не входившие в группировки Максим Горький, Леонид Леонов, Алексей Толстой, «серапионы» Константин Федин, Михаил Зощенко, Николай Тихонов, Всеволод Иванов, «кузнецы» Николай Ляшко и Фёдор Гладков (1883–1958), конструктивисты Илья Сельвинский (настоящее имя Карл, 1899–1968), Вера Инбер (1890–1972), Эдуард Багрицкий (Дзюбин, 1895–1934), Владимир Луговской (1901–1957), лефовцы Владимир Маяковский, Николай Асеев (1889–1963), Борис Пастернак, перевальцы Михаил Пришвин и Андрей Платонов.
Дело было не в принадлежности к той или иной группировке, а в отношении к революции, строительству новой действительности, в отношении к поразительным реформам, меняющим человека и его мораль, в отношении к новому человеку и его новым чертам. Одни писатели в своих новаторских поисках шли по неуклонному пути сближения с народом, с жизнью, всё глубже и глубже познавая объективные, ведущие закономерности противоречивой и страдальческой эпохи, и тогда в своих книгах они всё более правдиво воссоздавали реальный мир в его трагических противоречиях и конфликтах; другие всё дальше и дальше отходили от жизни народа, теряли почву под ногами, не понимая основных тенденций, не отличая главного от второстепенного; одни своим искусством звали человека к активной жизни, видя в своём герое человека большого, гордого в своих порывах, благородного в своих поступках, другие в поисках героя бродили по закоулкам человеческого общежития, находили там только маленького, забитого несчастьями человека, смиренного, запуганного, страдающего.
Среди многочисленных журналов, возникших с началом нэпа, можно выделить «Вестник литературы», в котором опубликовали свои статьи всё те же публицисты Питирим Сорокин («Смена вех» как социальный симптом» (1921. № 12), Александр Изгоев. «Личность и власть» (1922. № 1) всё на ту же тему – о самостоятельности творческой личности, о её независимости от власти. Это было самое главное условие для писателя. В «Вестнике литературы» был особый отдел под названием «Летопись дома литераторов», который отделился от «Вестника литературы» и стал самостоятельным журналом – «Литературные записки», но тоже требовал творческой независимости. Во втором номере журнала за 1922 год была опубликована статья Аркадия Горнфельда, в которой утверждалось, что русская литература будет создаваться в эмигрантской среде, но вышло только три номера, и в третьем номере большая подборка статей о «Серапионовых братьях».
Лев Натанович Лунц (1901–1924) в 1921 году стал одним из организаторов литературной группы «Серапионовы братья», от имени которой выступил с теоретическими декларациями, в которых главнейшим тезисом было провозглашение автономии искусства от власти и свободы человеческой личности в спорах об общественном устройстве. «Почему мы „Серапионовы братья“» Лев Лунц напечатал в журнале «Литературные записки» (1922. № 3), а свои размышления о влиянии западноевропейской литературы (сам он окончил отделение романистики филологического факультета Петроградского университета) на русскую он изложил в статье «На Запад», опубликованной в Берлине в журнале «Беседа» под редакцией М. Горького (1923. № 2). М. Горький имел полную информацию о «серапионах» от Льва Лунца, Константина Федина, Вениамина Зильбера (Каверина)… Сам писал о «серапионах», познакомился со многими в 1920–1921 годах, всячески их поддерживал, хорошо знал о том, что подготовленная к постановке пьеса Лунца «Вне закона» (Беседа. 1921. № 1) была запрещена цензурой, увидевшей намёки на Октябрьскую революцию в том, что в некоей выдуманной стране рабочий-каменотёс поднимает бунт и свергает герцога, возглавляет правительство и становится тираном. В 1923 году Лев Лунц уехал из России в Германию, к родителям, которые ещё раньше эмигрировали, и лечился, но болезнь сломила его, и в 1924 году он скончался. Он, как и Леонид Каннегиссер, не принял диктатуру пролетариата с её чудовищной несправедливостью по отношению к русскому народу, писал свои сочинения с бунтующим подтекстом, в частности, в пьесе «Город Правды» (1924) он показывает идеальное коммунистическое государство, лишённое христианского гуманизма и милосердия, как это было и на самом деле.
В своих воспоминаниях «Устная книга» Н. Тихонов описал Дом искусств в Петрограде (бывшая квартира братьев Елисеевых, миллионеров-бакалейщиков, сбежавших за границу), где в конце 1920 года начали селиться разные писатели. «Населявшие его люди были невероятно несхожи друг с другом, – писал Н. Тихонов. – Тут жили и старые, и молодые, люди разных поколений и жанров. Рядом с сестрой художника Врубеля – молодые писатели вроде Лунца и Слонимского, рядом со скульптором Ухтомским – Аким Волынский, автор сочинений о Леонардо да Винчи и Достоевском. Жили писатели Ольга Дмитриевна Форш и Леткова-Султанова, помнящая Тургенева. Жила баронесса Икскуль, которую написал ещё Репин. Жила Мариэтта Шагинян, кстати, она поселилась в помещении бывшей ванной Елисеевых. Жил и полубезумный поэт Пяст, переводчик, и мрачный Грин, молчаливый и необщительный. Был ещё Чудовский, бывший критик эстетского журнала „Аполлон“, написавший статью в защиту буквы ять.
Чтобы оправдать название дома – „Дом искусств“, в нем были устроены студии. Студию критики вел, например, Корней Чуковский, поэзии – Гумилёв… Волынский основал школу танцев и ведал этой студией.
Читались лекции по разным отраслям искусств.
Устраивались вечера поэзии, куда вход был общедоступный, где выступали Мандельштам, Анна Радлова, Всеволод Рождественский, Павлович, Ходасевич, где читал свою поэму „150 000 000“ приехавший из Москвы Маяковский; эта поэма прочитана была впервые в Ленинграде в Доме искусств» (Вопросы литературы. 1980. № 6. С. 108).
Николай Тихонов пришёл в Дом литераторов получить премию за рассказ «Сила», денежная премия была настолько смехотворна, что на неё «можно было купить полкило хлеба на рынке или починить галоши». Среди получавших премии были и совсем молодые люди, которые хорошо знали друг друга. Лев Лунц заговорил с Тихоновым и пригласил его бывать у «серапионов». «Серапионы» собирались по субботам в маленькой комнате Михаила Слонимского, – вспоминал Н. Тихонов. – Там была железная печка, железная кровать и стол. Мы все писали тогда как сумасшедшие. Обычно по субботам читались новые произведения и тут же обсуждались. Причем иногда доходило до невероятной рубки, каждый защищал своё произведение до последнего. Но в конце концов признавали: «ну да, не вышло». И тут же бросали в печь.
«Серапионовы братья» были чрезвычайно разными людьми и по происхождению, и по своему литературному направлению, и по вкусам, и по характерам.
Все они только начинали свой литературный путь». (Там же. С. 129–130).
Поэтесса Елизавета Полонская училась во Франции, в Сорбонне, в Первую мировую войну работала врачом на Западном фронте, переводила Киплинга, писала поэмы; К. Федин был склонен почитать русских классиков, его любил Горький; Николай Никитин стремился найти в своих книгах «живое отражение революции»; «а Всеволод Иванов явился, наоборот, как волшебник с котомкой, набитой чудесами. И у него все было необычно, даже облик, – он был похож на какого-то Будду. Он мог писать и о Сибири, и о разных народах – бурятах, японцах, китайцах, о казахах, о белых, о красных»; «среди „серапионов“ был человек, который, как в беге на дистанцию, обогнал и далеко оставил позади всех нас. Это – Михаил Зощенко. Михаил Зощенко был дворянин, офицер гвардейского Мингрельского полка, штабс-капитан, с боевыми наградами, отравлен газами на фронте… Он к тому времени уже заслужил огромную популярность своими рассказами, своим талантом, это был большой, серьезный писатель, которого очень высоко ценил Горький»; «Михаил Слонимский… был тихим, спокойным, очень честным человеком». «В „серапионах“ были два прозаика, которые резко отличались от всех, – Лев Лунц и Вениамин Каверин.
Лев Лунц был всеобщий наш любимец. Он был страшно худой, со всклокоченной головой, с очень добрым лицом, с хорошими глазами… Лев Лунц был талантливейший юноша. Он кончил университет. Он изучал романские языки: испанский, итальянский, французский, латинский… Лунц был яростный западник… Это был уже готовый для дискуссий человек, и он был страшный спорщик… Это был человек огромного таланта», но «у него было белокровие», он умер в двадцать три года; вторым западником был Вениамин Каверин. (Там же. С. 133).
Десять «серапионов» продолжали работать, от некоторых из них Горький получал письма и сам отвечал на них. Константин Александрович Федин (1892–1977) познакомился с Горьким в 1920 году, подарил ему первый свой рассказ «Сад», с тех пор и начались дружеские отношения.
28 августа 1922 года Федин написал Горькому письмо, в котором сожалел о том, что Горький не получил его «предлинное письмо» «о всех „Серапионах“»: «В Москве, в только что возникшем издательстве „Круг“, куда входят от „Серапионов“ Всев. Иванов, Ник. Никитин и я, в конце года выйдет первая моя книга рассказов „Пустырь“… В „Круге“ печатаются все „Серапионы“… Точно сговорившись, все мы засели за „романы“. Всеволод работает сразу над двумя – „Голубые пески“ и „Ситцевый зверь“ (первый печатается в „Красной нови“), Слонимский пишет фантастическую авантюру из революционной поры, Зощенко – цикл рассказов „Записки бывшего офицера“, я – роман о войне и революции. Каверин (Зильбер) продолжает гофманианить, пересадив своих советников, мастеров и студентов на новгородско-московскую почву. Лунц написал новую трагедию, но не читал ещё нам – выдерживает в столе.
Только один Никитин ездил этим летом „в вояж за впечатлениями“, на Урал. Остальные побывали в пригороде, Москве, на даче. Не собирались, таким образом, всего две субботы и теперь серапионим нормально. К сожалению, невозможно рассказать Вам в письме, какая игра закрутилась вокруг братства, как трудно бывало иной раз сохранить спокойствие и как, в сущности, удивительно, что мы не поползли каждый по особой дорожке, а продолжали жить и работать скопом. Не знаю, но кажется, не было в России ни одной литературной группы, которая держалась бы так долго на одной дружбе (школы бывали, „направления“ – тоже, но ведь у нас ни школ, ни направлений!). Всё это радует и бодрит…» (Переписка М. Горького: В 2 т. Т. 2. М., 1986. С. 147–148).
Официальные критики резко возражали против литературных деклараций «серапионов», особенно против независимости художника от власти, ведь все издательства и все журналы зависели от власти, от редактора, который зависел от государственных и общественных организаций. Даже Горькому мало что удалось напечатать – только подготовят книгу, а бумаги достать не могут. Вскоре «серапионы» перестали собираться, особенно после отъезда в Германию Льва Лунца, на этом и закончилась их история. Но писатели продолжали работать, вспоминая свои декларации.
В это же время А. Воронский, главный редактор журнала «Красная новь», написал блестящие литературные портреты Всеволода Иванова (Красная новь. 1922. № 5) и Николая Тихонова (Прожектор. 1923. № 1), заметил двух «серапионовых братьев».
Сборник стихотворений Н. Тихонова «Брага» сразу привлёк внимание читателей и критики. Недавний участник группы «Островитяне», он вместе с Сергеем Адамовичем Колбасьевым (1898–1937), офицером Красного флота, и Константином Константиновичем Ватиновым (Вагингейм), только что вернувшимся из Красной армии, напечатал первые свои стихи в альманахе «Островитяне». И вот – «Брага» (1922). «Брага», – писал А. Воронский, – ярка, свежа и содержательна… Вся молодость – на коне, в строю, в боях, на броненосце, у костра, в дозорах… Три четверти стихов Н. Тихонова – о порохе, сечах, о свинце, ветрах, о шашках, огне, перекрестках, о конях, ночлегах на перепутьях, об одном ведомом законе: «ковыли топчи», о душе человеческой, получившей закал стали. В них – темные ночи половецкие, гик, бесшабашность, бездомность, кровь… Война стала бытом, привычкой, жизнью, и человек всосался, втянулся в этот быт и не способен перейти на мирное, обыденное…» (Литературно-критические статьи. М., 1963. С. 159–161).
Уже в начале 1923 года А. Воронский пророчествовал, что Н. Тихонов, обладавший «большой душевной теплотой, человечностью», «добродушной усмешкой и мастерством», станет «не только хорошим поэтом, но и хорошим прозаиком» (Там же. С. 167).
Всеволод Вячеславович Иванов (1895–1963), сын учителя, рано начал работать, был на стороне белых, потом перешёл к красным. Познакомился с М. Горьким, который первую же его повесть «Партизаны» рекомендовал в журнал «Красная новь», где главным редактором был А. Воронский. «Основной темой рассказов и повестей Вс. Иванова является Гражданская война партизан в Сибири с колчаковскими войсками, – писал А. Воронский. – Тема сама по себе тяжкая, кровавая. Зверски расправлялись колчаковцы с рабочими, крестьянами, красногвардейцами, и не давали пощады белым отряды партизан со своей стороны. Вс. Иванов – непосредственный участник этой войны – сумел пронести и сохранить через всю кровавую эпопею большое, любовное, теплое, жизнепроникающее чувство, радостность, опьяненность дарами жизни. Словно после грозы, ливня и бури, когда солнце жгуче, весело и молодо льет свет свой, вещи Вс. Иванова освещены этим чувством и ощущением теплой, светлой и материнской ласки жизни: тайги, степей, сопок, ветров, партизан. В передаче этого настроения – главная „изюминка“ произведений Вс. Иванова, основной мотив его творчества, то, с чем остается писатель на всю свою жизнь, что является „душой“ произведения, сообщает ему тон и дает окраску» (Там же. С. 129–130). А. Воронский подробно анализирует и повести «Цветные ветра», «Бронепоезд 14–69».