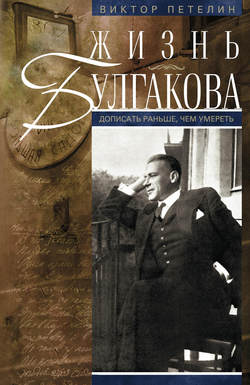Читать книгу Жизнь Булгакова. Дописать раньше, чем умереть - Виктор Петелин - Страница 7
Часть третья
Год перемен и надежд
ОглавлениеКажется, все потихоньку налаживалось в жизни Михаила Булгакова, ничто не предвещало никаких особых неприятностей. Есть дело, за которое он получал деньги на «хлеб», есть возможность ночами работать над любимыми произведениями о недавно пережитом, есть любимые книги, которыми можно наслаждаться опять же по ночам, когда в квартире все угомонятся. Да и многое из написанного опубликовано. Что еще нужно человеку, который решительно посвятил себя художественному творчеству? Есть, наконец, круг литературных знакомств, в котором не чувствуешь себя одиноко в «чужом» городе. Да и Любовь Евгеньевна Белозерская так быстро вошла в круг его интересов и друзей, что стала просто необходимой ему помощницей и другом. И нет в этом ничего удивительного: прекрасная рассказчица, много повидавшая на своем молодом веку, она стала неотъемлемой частью того круга друзей и знакомых, который образовался к тому времени вокруг Булгакова.
Правда, появились симптомы той болезни, которая так терзала его во Владикавказе: то и дело стали появляться статьи разносные, вульгарные, с какими-то непристойными хулиганскими выходками против серьезных больших писателей, но все это казалось каким-то мальчишеским удальством полуграмотных «деятелей» от литературы и искусства. К тому же хулиганствующим критикам давали отпор солидные и уважаемые писатели, так что здесь-то, в Москве, все будет по-другому, чем в провинциальном Владикавказе. Подлинное в жизни и в литературе сумеет постоять за себя. Но Михаил Булгаков ошибся: то, что произошло во Владикавказе, повторилось и в Москве и Петрограде, только в еще больших масштабах и с более драматическим финалом…
В марте 1969 года в журнале «Огонек» была опубликована моя статья «М. А. Булгаков и „Дни Турбиных“». Вскоре после этого в редакцию журнала «Молодая гвардия», где я работал, позвонила Любовь Евгеньевна Белозерская и пригласила приехать на Большую Пироговскую: именно здесь, вспомнилось мне, на Большой Пироговской, она прожила вместе с Михаилом Афанасьевичем несколько лет конца 20-х и начала 30-х годов. Пожалуй, это были его самые плодотворные творческие годы. Естественно, что через какое-то время я уже звонил Белозерской. Дверь открыла пожилая женщина, которая с первых же слов вызывала какую-то необъяснимую симпатию. Следы былой красоты и женского обаяния, как сказали бы романисты, все еще были заметны в облике Любови Евгеньевны.
Долго просидел я у нее. Любовь Евгеньевна о многом вспоминала, но меня очень интересовал тогда вопрос, как они познакомились где-то в начале 20-х годов, как молодой Булгаков выглядел, как одевался, что запомнилось ей в литературном быте и нравах того времени…
– Впервые я увидела Булгакова на вечере, который устроила группа писателей-сменовеховцев, недавно вернувшихся из Берлина. В пышном особняке в Денежном переулке выступали Юрий Слезкин, Дмитрий Стонов, мой муж Василевский (He-Буква)… Среди выступавших был и Михаил Булгаков, который очень много и плодотворно сотрудничал с газетой «Накануне», выходившей, как вы, конечно, знаете, в Берлине, но широко распространенной в России. Слушая выступления Слезкина, я не переставала удивляться: неужели это тот самый петербургско-петроградский любимец, об успехах которого у женщин ходили легенды? Ладный, темноволосый, с живыми черными глазами, с родинкой на щеке на погибель дамским сердцам… Вот только рот неприятный, жесткий, чуть лягушачий, что ли. Вы, может, читали его нашумевший роман «Ольга Орг»?
– Да, читал, но, увы, совсем недавно, после того, как прочитал статью Булгакова о творчестве Юрия Слезкина, там очень хорошо говорится об этом романе.
– А интересно, что же там говорится? Я совершенно не помню содержания этой статьи, хотя и знаю, конечно, что они были очень дружны.
– Приблизительно я могу передать содержание этой статьи, к сожалению мало известной даже специалистам. Статья называется: «Юрий Слезкин (Силуэт)», опубликована в берлинском журнале «Сполохи» в 1922 году, в декабрьском, двенадцатом номере. И начинается она очень по-булгаковски: точно и резко определяет он свою тему и свое отношение к предмету статьи. Какое место отвести Слезкину на литературном Олимпе наших дней? На какую полку поставить разнокалиберные тома и томики «Помещика Галдина», «Ольгу Орг», «Господина в цилиндре», «Ветер»? – спрашивает он. Казнь египетская всех русских писателей – бесчисленные критики и рецензенты – глянули на Ю. Слезкина, почти без исключений, светло и благосклонно. Он сразу заинтересовал, многим сразу понравился. Булгаков дает яркую и точную творческую характеристику своему собрату по перу, своему старшему товарищу…
– А как же все-таки он относился к «Ольге Орг»? Ведь этот роман много раз переиздавался, начиная с пятнадцатого года, и, если память мне не изменяет, по этому произведению был поставлен фильм «Опаленные крылья». Балерина Коралли играла главную роль. Все рыдали… – вспоминала Любовь Евгеньевна.
– Как раз к фильму-то отношение у Булгакова несколько ироничное. Да, говорил он, Юрий Слезкин – словесный киномастер, стремительный и скупой. У него, как и в кино, быстро летят картины, словно вспыхивают и тотчас же гаснут, уступая свое место другим. Как в кино ценен каждый метр ленты, его не истратят даром, так и он не истратит даром ни одной страницы. Жестоко ошибется тот, кто подумает, что это плохо. Быть может, ни у одного из русских беллетристов нашего времени нет такой выраженной способности обращаться со словом бережно. Юрий Слезкин неизменно скуп и сжат. На его страницах можно найти все, кроме воды. И это очень нравится Булгакову, нравится то, что Слезкин скупо роняет описания, не размазывает нудных страниц. В этом он видит выигрыш художника. Там, где другой не развернул бы и половины своей панорамы, Слезкин открывает всю ее целиком. Вот почему у него обильные происшествия не лезут друг на друга, увязая в болотной тине словоизвержения, а стройной чередой бегут, меняясь и искрясь. Как в ленте кино, складной ленте. Недаром по выходе «Ольги Орг», вспоминает Михаил Афанасьевич, как раз этот роман пронырливые киношники выпотрошили для экрана. Так и написал, это я запомнил… Лучше бы было, если б Слезкин сам написал сценарий… И вы знаете, Любовь Евгеньевна, все, что Булгаков говорил в этой статье о Слезкине, можно отнести и к самому Булгакову.
– Да, вы правы. Видимо, общность каких-то задач и целей чисто художественных и сблизила их в свое время. Булгаков, как и Юрий Слезкин, был таким же выдумщиком и фантазером. Он всегда любил повторять, что жизнь куда хитрее на выдумки самого хитрого выдумщика. Вся задача лишь в том, чтобы ее оправдать. Исполнил это – хороший фабулист, нет – неудачный выдумщик… Так вот, я и увидела их рядом на том памятном вечере. Я читала Михаила Булгакова в «Накануне», там ведь и мой муж работал, читала его «Записки на манжетах» и фельетоны. Нельзя было не обратить внимания на необыкновенно свежий язык его, мастерство диалога и на такой его неназойливый юмор. Мне нравилось все, что принадлежало его перу. Вы не помните, в каком фельетоне он мирно беседует со своей женой и речь заходит о голубях? «Голуби – тоже сволочь порядочная», – говорит он.
Нет, я не помнил. (Потом только, перелистывая сборник фельетонов, я обнаружил эту фразу в фельетоне «День нашей жизни», опубликованном действительно 2 сентября 1923 года.)
– Прямо эпически-гоголевская фраза, – продолжала Любовь Евгеньевна. – Сразу чувствуется, что в жизни что-то не заладилось… После вечера нас познакомили. Передо мной стоял человек лет тридцати – тридцати двух, волосы светлые, гладко причесанные на косой пробор. Глаза голубые, черты лица неправильные, ноздри глубоко вырезаны, когда говорит, морщит лоб. Но лицо в общем привлекательное, лицо больших возможностей. Я долго мучилась, прежде чем сообразила, на кого же он походил. И вдруг осенило – на Шаляпина! А вот одет он был далеко не по-шаляпински… Какая-то глухая черная толстовка без пояса, этакой распашонкой, была на нем. Я не привыкла к такому мужскому силуэту. Он показался мне комичным слегка, так же, как и лакированные ботинки с ярко-желтым верхом, которые я сразу окрестила «цыплячьими». Только потом, когда мы познакомились поближе, он сказал мне не без горечи: «Если бы нарядная и надушенная дама знала, с каким трудом достались мне эти ботинки, она бы не смеялась…» Тогда я и поняла, что он обидчив и легкораним. На этом же вечере он подсел к роялю и стал напевать какой-то итальянский романс и наигрывать вальс из «Фауста»… Было это где-то в начале января. Москва только что отпраздновала встречу Нового года, 1924-го… Второй раз я встретилась с ним случайно, на улице, уже слегка пригревало солнце, но все еще морозило. Он шел и улыбался. Заметив меня, остановился. Разговорились. Он попросил мой новый адрес и стал часто заходить к моим родственникам Тарновским, где я временно остановилась на житье (как раз в это время я расходилась с моим первым мужем). Глава этой замечательной семьи Евгений Никитич Тарновский, по-домашнему – Дей, был кладезем знаний. Он мог процитировать Вольтера в подлиннике, мог сказать танку, стихотворение в три строки на японском языке. Но он никогда не поучал и ничего не навязывал. Он просто по-настоящему много знал, и этого было достаточно для его непререкаемого авторитета… Стоило Булгакову и Тарновскому один раз поговорить, и завязалась крепкая дружба. Дей, как и все мы, полностью подпал под обаяние Булгакова…
А вскоре и началась наша совместная жизнь с Михаилом Афанасьевичем. На первых порах приютила нас сестра его, Надежда Афанасьевна Земская, она была директором школы и жила на антресолях здания бывшей гимназии. Получился «терем-теремок». А в теремке жили: она сама, муж ее, Андрей Михайлович Земский, их маленькая дочь Оля, его сестра Катя и сестра Надежды Афанасьевны Вера. Ждали приезда из Киева младшей сестры Елены Булгаковой. А тут еще появились мы… И знаете, как-то все хорошо устраивалось. Было трудно, но и весело… Потом мы переехали в покосившийся флигелек во дворе дома № 9 по Чистому переулку, раньше он назывался Обухов. Дом свой мы прозвали «голубятней», но этой «голубятне» повезло: здесь написана пьеса «Дни Турбиных», повести «Роковые яйца» и «Собачье сердце» (кстати, посвященное мне). Но все это будет несколько позже, а пока Михаил Афанасьевич работает фельетонистом в газете «Гудок», он берет мой маленький чемодан по прозванью «щенок» (мы любим прозвища) и уходит в редакцию. Домой в «щенке» приносит письма частных лиц и рабкоров. Часто вечером мы их читаем вслух и отбираем наиболее интересные для фельетона.
Любовь Евгеньевна показывала книги М. А. Булгакова, подаренные ей с нежными надписями. Показывала «книги» в единственном экземпляре, в которых много было забавного и шутливого: рисунки, эпиграммы, дружеские шаржи.
По-новому раскрылись мне после этой встречи некоторые стороны творческой личности Михаила Булгакова. Вот почему об этой встрече и об этом нашем разговоре и захотелось здесь рассказать.
Это был счастливый период жизни Булгакова. Еще ничто не омрачало ее. Булгаков не умел и не желал лукавить, приспосабливаться ни в жизни, ни в литературе. Он был на редкость цельным человеком, что, естественно, проявлялось и в его творчестве.
Любовь Евгеньевна напомнила, что как раз в это время в «Гудке» работали Валентин Катаев, Юрий Олеша, Евгений Петров и многие другие, ставшие впоследствии известными писателями. Фельетоны Михаил Афанасьевич писал быстро, и Любовь Евгеньевна спросила меня, помню ли я то место в автобиографии Булгакова, где он рассказывает, как писались эти фельетоны. «… Сочинение фельетона строк в семьдесят пять – сто отнимало у меня, включая сюда и курение и посвистывание, от восемнадцати до двадцати минут. Переписка на машинке, включая сюда и хихиканье с машинисткой, – восемь минут. Словом, в полчаса все заканчивалось».
Да, это место из автобиографического произведения Булгакова я помнил…
И в 1924-м, и в 1925 году Михаил Булгаков писал фельетоны… «Коллекция гнилых фактов», «Праздники с сифилисом», «Просвещение с кровопролитием», «Пустыня Сахара», «Крысиный разговор», «Как школа провалилась в преисподнюю»… Булгаков беспощадно и гневно обрушивался на пьянство и алкоголизм как одно из вреднейших и разрушительных зол нового общества, мешающих нормальной жизни.
Бытовые нелепости, неурядицы семейной жизни, безделье и невежество, бескультурье и безграмотность и многие другие недостатки строящейся жизни – все это подвергается критическому анализу на страницах «Гудка», в фельетонах М. Булгакова, Ю. Олеши, В. Катаева… Булгаков шутит над мелкими промахами полуграмотных железнодорожников, едко язвит, беспощадно высмеивает бюрократов, формалистов, чиновников советского аппарата. Его смех, то злой, то добродушный, далеко слышен, достигая не только конкретных носителей зла, но и долетая до высоких этажей Власти. Потому и занимался газетной работой Булгаков, что видел в ней очистительную силу, способную хоть немного, хоть чуть-чуть поубавить мусора и грязи в нашей стране.
Булгаков становится особенно безжалостен и беспощаден, когда видит, что сильный, дорвавшийся до власти, угнетает слабого, давно знакомого нам по литературе «маленького человека». Казалось бы, примелькались эти персонажи. Но Булгаков вновь и вновь возвращается к этому столкновению двух социальных сил, потому что за каждым таким столкновением конкретные судьбы конкретных людей.
Пустяковый вроде бы факт. Тихо, мирно жил десятник на станции ЮЗа Славутского участка, но пришло время, и он женился. При встрече с ним, счастливым молодоженом, заведующий разработкой на участке «спрашивает в служебном тоне, побрякивая цепочкой от часов:
– Как вы смели, уважаемый, жениться без моего ведома?
У меня даже язык отнялся, рассказывает десятник. Помилуйте, что я – крепостной… И мучает раздумье: а если моей жене придет в голову наделить меня потомством в размере одного ребенка – к Логинову бежать?… А если октябрины? А если теща умрет? Имеет она право без Логинова?»
«Со слов десятника записал Михаил Б.» и опубликовал фельетон в «Гудке» 12 августа 1924 года под названием «На каком основании десятник женился?! (Быт)».
А 29 августа 1924 года в том же «Гудке» опубликован фельетон «Сотрудник с массой, или Свинство по профессиональной линии (рассказ-фотография)». В центре – тоже чиновник невысокого ранга, но какое самомнение сквозит в каждом его слове, в каждом поступке. Сколько чванства и этого «ячества». Его заранее попросили сделать доклад о дорожном строительстве, но он не готовился к этому докладу, пренебрежительно отнесясь к массе собравшихся. Да и вообще он-то думал, что его ждет начальство, он даже испытал что-то вроде беспокойства, когда прилетевшая Дунька, «как буря», сообщила, что его «кличут»; потом, узнав, что его ждет собрание, даже «плюнул с крыльца»: экая досада, что беспокоился. Высказав презрительное отношение к массе, «чтоб ей ни дна, ни покрышки», и пообещав жене, что скоро вернется, «я там прохлаждаться не буду… с этой массой», товарищ Опишков пошел на собрание. Председатель собрания встал ему навстречу и «нежно улыбнулся». Но Опишков в ответ только пробурчал что-то нечленораздельное. Крайне изумился Опишков, когда узнал, что он должен выступать с докладом на собрании: «Я доклады делаю ежедневно Пе-Че, а чего еще этим?…»
«Председатель густо покраснел, а масса зашевелилась. В задних рядах поднялись головы…»
Нехотя начал свое сообщение Опишков, выдавливая слова, как тяжелые камни ворочал. Всем было ясно, что Опишков не хочет делать доклад, считая ниже своего достоинства отчитываться перед массой. И на мягкое замечание председателя собрания, что нужно было подготовиться, раз его просили, Опишков вдруг заорал:
«– Я вам не подчиняюсь!.. Ну вас к Богу!.. Надоели вы мне, и разговаривать я с вами больше не желаю».
«– Вот так свинство учинил! – кто-то крикнул в зале.
Председатель сидел как оплеванный и звонил в колокольчик. И чей-то рабкоровский голос покрыл гул и звон:
– Вот я ему напишу в „Гудок“! Там ему загнут салазки!! Чтобы на массу не плевал!!»
24 сентября 1924 года Булгаков публикует фельетон «Колыбель начальника станции», в котором клеймит все то же свинство: на общее собрание рабочих и служащих станции Щелухово Казанской дороги не явился докладчик – начальник станции, прислав записку, что «лег спать». И кто-то бросил из зала:
«Колыбель начальника станции – есть могила общего собрания», так как собрание объявили закрытым.
Да, это был год перемен и надежд… И не все так просто было, как обрисовала мне Любовь Евгеньевна в первые наши встречи… Много лет спустя вышла в свет ее книга «Воспоминания» в издательстве «Художественная литература», в 1990 году, из которой можно узнать интересные подробности переживаний тех лет…
После второй встречи ранней весной 1924 года Булгаков зачастил к Тарновским, ее родственникам, где она временно получила приют после развода с Василевским. Развод давно назревал: слишком разными людьми они оказались, и по характеру, и по интересам. К тому же он был ревнив, а она очень любила жизнь во всех ее проявлениях – путешествия, театр, ухаживания, цветы поклонников… Бывал почти каждый день, настолько увлекся Булгаков обаятельной и талантливой Любашей. Да и Тарновские были очень интересными людьми, особенно Дей, Евгений Никитич, энциклопедически образованный профессор-статистик-криминалист, Надежда, его дочь; ее муж был в длительной командировке, а потому и приютили Любовь Евгеньевну до его возвращения.
Дни ухаживания промелькнули, возникшее чувство с каждым днем укреплялось в сердце помолодевшего Булгакова, начались дни признания… Сначала в шутливой форме… «Уже весна, такая желанная в городе! – вспоминает Л. Е. Белозерская. – Тепло. Мы втроем – Надя, М. А. и я – сидим во дворе под деревом. Он весел, улыбчив, ведет „сватовство“.
– Гадик (так в узком семейном кругу прозвали Надежду. – В. П.), – говорит он. – Вы подумайте только, что ожидает вас в случае благоприятного исхода…
– Лисий салоп? – в тон ему говорит она.
– Ну, насчет салопа мы еще посмотрим… А вот ботинки с ушками обеспечены.
– Маловато будто…
– А мы добавим галоши… – Оба смеются. Смеюсь и я. Но выходить замуж мне не хочется».
Сейчас трудно сказать, так это или нет… Столько времени прошло.
Появление в Москве красивой и талантливой женщины не прошло незамеченным. Ю. Л. Слезкин в своих «Записках писателя» вспоминает: «…Тут у Булгакова пошли „дела семейные“ – появились новые интересы, ему стало не до меня. Ударил в нос успех! К тому времени вернулся из Берлина Василевский (He-Буква) с женой своей (которой по счету?) Любовью Евгеньевной; неглупая, практическая женщина, многое испытавшая на своем веку, оставившая в Германии свою „любовь“, – Василевская приглядывалась ко всем мужчинам, которые могли бы помочь строить ее будущее. С мужем она была не в ладах. Наклевывался у нее роман с Потехиным Юрием Михайловичем (ранее вернувшимся из эмиграции) – не вышло, было и со мною сказано несколько теплых слов… Булгаков подвернулся кстати. Через месяц-два все узнали, что Миша бросил Татьяну Николаевну и сошелся с Любовью Евгеньевной. С той поры – наша дружба пошла врозь. Нужно было и Мише и Л. Е. начинать „новую жизнь“, а следовательно, понадобились новые друзья – не знавшие их прошлого. Встречи наши стали все реже, а вскоре почти совсем прекратились, хотя мы остались по-прежнему на „ты“…»
Надеюсь, читатель сам поймет, что здесь правда, а что идет от зависти… Нет еще особого успеха в жизни Булгакова-писателя. Вышла только повесть «Дьяволиада» в «Недрах», и он с удовольствием дарит этот сборник своим друзьям. А то, что он покорил сердце Любови Евгеньевны, вот это был для него определенный успех… «Все самые важные разговоры происходили у нас на Патриарших прудах. (М. А. жил близко, на Большой Садовой, в доме 10). Одна особенно задушевная беседа, в которой М. А. – наискрытнейший человек – был предельно откровенен, подкупила меня и изменила мои холостяцкие настроения. Мы решили пожениться. Легко сказать – пожениться. А жить где?» – вспоминала Л. Е. Белозерская.
И начались поиски квартиры, но не было денег… «Временный приют» предоставила им подруга Надежды, тоже Надежда, у нее оказалась свободной комната брата, уехавшего на практику. Этот «временный приют» запомнился тем, что здесь началась и совместная творческая жизнь двух влюбленных. Как-то пришел «оживленный» Булгаков и предложил своей Любаше вместе написать пьесу «Белая глина». Почему «Белая глина»? «Мопсов из нее делают», – шутливо ответил Булгаков. И творческая работа началась. Любовь Евгеньевна несколько лет прожила во Франции, значит, пьеса должна быть из французской жизни. В богатом имении живут мать и дочь. В их имении обнаружены залежи белой глины. Никто не знает, что с ней делать, но все заинтересованы. От гостей нет отбоя. И каждый мужчина обязательно влюбляется или в мать, или в дочь. Для пущего веселья авторы награждают их необыкновенной схожестью… Да и одеваются они чуть ли не в одинаковые платья. Вот тут и начинается опереточная кутерьма. Появляется то один персонаж, то другой… Ревнуют, бегают, суетятся. Два действия вскоре были закончены. Мечтали о постановке в театре Корша с участием ведущих артистов Радина и Топоркова. «Два готовых действия мы показали Александру Николаевичу Тихонову (Сереброву). Он со свойственной ему грубоватой откровенностью сказал: „Ну подумайте сами, ну кому нужна сейчас светская комедия?“
Так третьего действия мы и не дописали», – вспоминала Любовь Евгеньевна.
Ну что ж, пусть и не дописали, но было весело придумывать реплики, перебивать друг друга, придумывая все новые и новые сюжетные ходы и повороты… Эта совместная работа еще больше их сблизила… Тем горше становилось Булгакову, вынужденному уходить в свою «гнусную» комнату в квартире № 50 на Большой Садовой, 10.
Студент, брат хозяйки, возвращался с практики. Нужно было решать главный вопрос – и они зарегистрировались «в каком-то отталкивающем помещении ЗАГСа в Глазовском (ныне ул. Луначарского) переулке, что выходил на церковь Спаса на Могильцах».
Так началась совместная жизнь М. А. Булгакова и Л. Е. Белозерской.
На первых порах их приютила Надежда Афанасьевна, директор школы, там же и обитала вся ее большая семья. «К счастью, было лето, и нас устроили в учительской на клеенчатом диване, с которого я ночью скатывалась, под портретом сурового Ушинского…» – это все из тех же «Воспоминаний» Белозерской.
Но лето подходило к концу, школа начинала свою обычную жизнь, в учительской уже нельзя было оставаться, даже на ночь. Нужно было искать надежное пристанище, тем более что Михаил Афанасьевич должен был наконец-то закончить роман «Белая гвардия» и повесть «Роковые яйца, или Луч жизни».
Любовь Евгеньевна, коренная москвичка, вспомнила своих знакомых и близких и надеялась, что хоть кто-нибудь поможет молодоженам найти приличное убежище. Но первый же визит разочаровал ее: крестная мать ее старшей сестры, некогда красавица, была неузнаваема в черном монашеском платке: она похоронила обоих сыновей, с одним из которых маленькая Любаша играла в прятки. Еще одна горькая зарубка на сердце… Нет уж, лучше положиться на случай и на самих себя: старые знакомые, как «бывшие», лишенные в новой жизни своих прежних прав, перестали быть хозяевами своих домов, даже своих жизней.
Случайно Булгаковых познакомили с «грустным-грустным человеком». Он-то и привел их к арендатору в Обухов переулок, дом 9, где они вскоре начали самостоятельную, независимую жизнь, полную духовных и литературных исканий, надежд и горьких разочарований.
В эти дни Булгаков, как и всегда, много работает, читает, пишет, размышляет, ходит по редакциям и в театры.
Все вроде бы кончилось благополучно и можно вздохнуть посвободнее, в свободные часы от службы в «Гудке» можно снова заняться подлинным. А ведь все могло сложиться по-другому… Тяжело было вспоминать, как он и Любовь Евгеньевна искали свое первое совместное прибежище, квартиры были так дороги, а дешевых комнат не было, как не было и денег. Пришлось занять у Евгения Никитича Тарновского… И несколько неловко было вспоминать, как он отчитал Валюна Катаева, когда он признавался, что любит Елену Булгакову и хотел бы на ней жениться. «Нужно иметь средства, чтобы жениться», – сказал Булгаков на это признание. А сам? С Татьяной Николаевной, с Тасей, было легко, она самоотверженно принимала все удары судьбы и житейские тяготы, помогала ему переносить выпавшие на их долю невзгоды. Да и сейчас она готова забыть этот развод и снова начать с ним новую жизнь. И по его просьбе делает все, что может, для его семьи и его друзей… Приехала Галя, дочь Сынгаевского, приехала к нему, а у него не на чем положить ее спать; Татьяна пристроила ее у знакомых на несколько ночей. Что было делать дальше? Выручила сестра Надя, поговорила с ней по душам, пристроила ее временно в школе, питалась-то у него, а спать уходила в школу: ведь милые друзья из Киева отправили ее даже без документов. И если бы не Тася и Надежда… А перед этим острый приступ аппендицита, пришлось пойти на операцию, хорошо, что зашел к нему Коля Гладыревский и уговорил его лечь в клинику профессора Мартынова и сделать операцию; было страшновато, но, слава Богу, все обошлось, каждый день приходила Любаша, приносила ему еду, но много есть было нельзя, приходилось ограничивать себя, а так хотелось…
Булгаков вспоминал, как переживал он, находясь в больнице. Эта неделя показалась ему вечностью: ему казалось, что все рухнет из-за этой неожиданной для него опасности: ведь в самом разгаре были его отношения с Любовью Евгеньевной, еще полная неопределенность тяготила его, а тут операция, больничный лист, да и судьба ненапечатанных сочинений очень волновала его. Взять хотя бы «Записки на манжетах» – как неудачно складывается их судьба. Удалось напечатать только отрывки, с большими пропусками. Наконец поверил в «Недра», поверил Ангарскому и Петру Никаноровичу Зайцеву, секретарю редакции, оставил полный текст «Записок» и убедительно попросил поскорее выяснить их судьбу, предупредив при этом, что кое-что из предложенной рукописи печаталось в «Накануне» и в альманахе «Возрождение», Николая Семеновича это не должно было смутить… Многострадальные «Записки» нравились Булгакову своей открытостью и прямотой. Он предложил прочитать их публично, он так здорово прочитал бы их, что судьба «Записок» сразу бы выяснилась, ничего страшного в них нет, так, судьба голодного писателя на юге России, не более того, никакого политического криминала они не содержат… Но и в «Недрах» «Записки на манжетах» не прошли. А Булгаков так надеялся получить за них гонорар и уехать на юг с Любашей… Планы эти тоже рухнули. Какой там юг, приходилось ходить по редакциям и сшибать где десятку, где двадцатку, так, на пропитание. Не вышло и с романом «Белая гвардия», И. Лежнев готовится напечатать его в журнале «Россия», но уж слишком мало он платил. Булгаков передал роман в «Недра», пообещавшие перекупить роман. Прочитал Зайцев, отозвался о нем восторженно, но стоило ему передать роман на чтение «старичкам», Вересаеву и Ангарскому, как никакого дела не получилось: Вересаев отозвался отрицательно, Ангарский же долго колебался, но печатать роман отказался по цензурным соображениям: не слишком ли положительными выглядели в романе белогвардейцы, недавние враги советской власти? И осторожность взяла верх, хотя написано несомненно талантливо…
С каким нетерпением он ждал возвращения Зайцева, Ангарского, Вересаева. И как-то в первые дни сентября, узнав о том, что Зайцев вернулся, Булгаков зашел в редакцию. Зайцева не было, сел, дожидаясь, за стол и стал машинально водить ручкой по белому листу бумаги:
«Телефон Вересаева? 2-60-28. Но телефон мне не поможет… Туман… Туман… Существует ли загробный мир?
Завтра, может быть, дадут денег…»
Вошел Зайцев. Булгаков выжидающе смотрел на загорелого, отдохнувшего Петра Никаноровича, который ничего утешительного не мог сказать.
– Все читавшие роман в восторге. Талантливый, многообещающий писатель, говорят, но печатать такой роман нельзя: рапповцы затравят.
«Как он похудел, – мелькнуло у добрейшего Петра Никаноровича. – Видимо, по-прежнему перебивается случайными заработками от журнальчиков Дворца Труда на Солянке, „Гудок“ тоже не прокормит… Сильно нуждается такой талантливый человек, как это несправедливо…»
Булгаков, расстроенный до предела сразившей его вестью, снова присел за соседний столик, продолжая бездумно что-то чертить на оставленном было листке. Зайцев взглянул на бумагу: каждая буква фамилии «Вересаев» многократно обведена. Ясно почему… Пляшущие человечки, автопортрет, в котором угадывается отчаявшийся человек. «Что я скажу Любаше?» – в отчаянии думал в эти минуты Булгаков.
– Михаил Афанасьевич, – неожиданно заговорил Зайцев. – Может, у вас есть что-нибудь еще готовое?
Булгаков посмотрел на Петра Никаноровича, и надежда мелькнула в его глазах.
– Давно задумал я одну фантастическую вещь, она почти готова, недели через две я закончу ее, может, и раньше, недели через полторы. А что?
Зайцев взял со столика лист бумаги и просто сказал:
– Пишите заявление с просьбой выдать сто рублей аванса в счет вашей будущей повести.
Булгаков тут же написал заявление и, обрадованный, все еще не веря в удачу, быстро пошел в бухгалтерию Мосполиграфа. Вернувшись, крепко пожал руку Петра Никаноровича. Теперь две недели он может работать над подлинным…
Но не прошло и недели, как получил письмо от Зайцева, в котором тот торопил его с окончанием повести. Пришлось торопиться и «скомкать», в чем и сам позднее признавался, но изменить уже не мог.
«Однажды он поманил меня пальцем в прихожую: „Хотите послушать любопытный телефонный разговорчик?“ – вспоминает сосед Булгаковых В. Лёвшин. – Он звонит в издательство „Недра“: просит выдать ему (в самый что ни на есть последний раз!) аванс в счет повести „Роковые яйца“. Согласия на это, судя по всему, не следует. „Но послушайте, – убеждает он, – повесть закончена. Ее остается только перепечатать… Не верите? Хорошо! Сейчас я вам прочитаю конец“.
Он замолкает ненадолго („пошел за рукописью“), потом начинает импровизировать так свободно, такими плавными, мастерски завершенными периодами, будто он и вправду читает тщательно отделанную рукопись. Не поверить ему может разве что Собакевич!
Через минуту он уже мчится за деньгами. Перед тем как исчезнуть за дверью, высоко поднимает палец, подмигивает: „Будьте благонадежны!“»
Между прочим, сымпровизированный Булгаковым конец сильно отличается от напечатанного. В телефонном варианте повесть заканчивалась грандиозной картиной эвакуации Москвы, к которой подступают полчища гигантских удавов. В напечатанной редакции удавы, не дойдя до столицы, погибают от внезапных морозов.
Вскоре после своей телефонной мистификации он повез меня на авторское чтение «Роковых яиц» в Большой Гнездниковский переулок, в дом Нирензее…
Чтение происходило, кажется, в квартире писателя Огнева. Здесь – чуть ли не вся литературная Москва. Его слушают стоя, сидя, в коридоре, в соседних комнатах. После читки начинается обсуждение – долгое и преимущественно хвалебное…
В другой раз где-то в переулке на Малой Никитской Булгаков читает главы из «Белой гвардии». Успех громадный.
Читает он, надо сказать, мастерски. Именно читает, а не играет, притом ведь, что прирожденный актер. Богатство интонаций, точный, скупой жест, тонкая ироничность… Домой возвращаемся на извозчике: он, я и незнакомая мне дама. Поздняя зимняя ночь. Сани нудно тащатся по спящим переулкам. Ноги мои совсем оледенели под жидкой извозчичьей полостью. У дома Пигит я выхожу. Булгаков едет провожать даму. Напоследок говорит мне вполголоса: «Дома скажите, что я там остался…» (Воспоминания о Михаиле Булгакове, с. 174–176.)
Возможно, Булгаков действительно импровизировал по телефону конец повести «Роковые яйца», но возможно, что память изменила Лёвшину, и он воспользовался ныне известным отзывом Горького о «Роковых яйцах»: «Булгаков очень понравился мне, очень, но он сделал конец рассказа плохо, – писал он М. Слонимскому 8 мая 1925 года, после выхода повести в свет. – Поход пресмыкающихся на Москву не использован, а подумайте, какая это чудовищно интересная картина!»
Думаю, что Булгаков и сам догадывался о возможностях сюжета, придуманного им. Но в публикацию повести вторгались такие силы, которые невозможно было преодолеть, и прежде всего страх перед цензурой…
В «Недрах» повесть приняли благосклонно, прочитал Зайцев, Вересаев «пришел в полный восторг», как вспоминает Зайцев, Ангарский был в Берлине, так что послали в набор без него…
Но вскоре Ангарский приехал, и Булгаков с горечью записывает 18 октября 1924 года, в субботу: «Я по-прежнему мучаюсь в „Гудке“. Сегодня день потратил на то, чтобы получить сто рублей в „Недрах“. Большие затруднения с моей повестью-гротеском. Ангарский предложил мест 20, которые надо по цензурным соображениям изменить. Пройдет ли цензуру. В повести испорчен конец, п. ч. писал я ее наспех.
Вечером был в опере Зимина и видел „Севильского цирюльника“ в новой постановке. Великолепно. Стены вращаются, бегает мебель».
И действительно, театр Зимина стал Экспериментальным. По рецензии в журнале «Новая рампа» (1924, № 18) можно судить, что происходило на сцене в этот вечер: «Постановка от начала до конца динамична. „Человек и вещь“ одинаково кружатся в вихре интриги… Глубокоуважаемые столы, кресла, стулья, клавесин – все втянуты в активное участие… Даже стены (первый опыт использования вращающихся ширм-призм) в доме Бартоло вертятся от смеха и удовольствия, раскрываются и закрываются по ходу действия».
Эти сто рублей, полученные в «Недрах», и деньги, взятые «под расписку» у Е. Н. Тарновского, пошли, скорее всего, на аренду комнаты для совместного с Любовью Евгеньевной проживания. В ночь с 20-го на 21 декабря Булгаков записывает в дневнике: «…Около двух месяцев я уже живу в Обуховом переулке в двух шагах от квартиры К., с которой у меня связаны такие важные, такие прекрасные воспоминания моей юности, и 16-й год, и начало 17-го.
Живу я в какой-то совершенно неестественной хибарке, но, как это ни странно, сейчас я чувствую себя несколько более „определенно“. Объясняется это…»
Так мы и не узнаем, чем это объясняется, потому что следующая страничка дневника вырвана; но, сопоставив некоторые известные факты из его жизни, можем предположить: кончилось его противоречивое положение – женат на Белозерской, а жить приходилось в одной комнате с Татьяной Николаевной. И все потому, что не было денег на аренду комнаты даже в этой «совершенно неестественной хибарке».
И решился он на этот шаг, скорее всего, потому, что «Недра» заключили с ним договор на издание сборника рассказов и повестей, листов 8-10. В эти дни Булгаков написал письмо И. Кремлеву: «Милый Илья Львович! Я получил предложение, касающееся моей книги фельетонов. Поэтому очень прошу Вас вернуть мне рукопись, независимо от результатов редакторской оценки. Пришлите мне рукопись в Москву как можно скорее (у меня нет 2-го экземпляра). Москва, Обухов (Чистый) пер., дом 9, кв. 4. Михаил Афанасьевич Булгаков.
Ваши книги у меня в целости. Я их Вам верну на днях».
Переезд из 34-й квартиры по Большой Садовой, 10, в квартиру 4 по Обухову переулку, 9, прошел вроде бы безболезненно и просто. «Однажды в конце ноября, то ли до именин своих, то ли сразу после, Миша попил утром чаю, сказал: „Если достану подводу, сегодня от тебя уйду“. Потом через несколько часов возвращается: „Я пришел с подводой, хочу взять вещи“. – „Ты уходишь?“ – „Да, ухожу насовсем. Помоги мне сложить книжки“. Я помогла. Отдала ему все, что он хотел взять. Да у нас тогда и не было почти ничего… Потом еще мадам Манасевич (мать В. Лёвшина. – В. П.), наша квартирная хозяйка, говорила мне: „Как же вы его так отпустили? И даже не плакали!“ Вообще в нашем доме потом долго не верили, что мы разошлись, – никаких скандалов не было, как же так?… Но мне, конечно, долго было очень тяжело. Помню, я все время лежала, со мной происходило что-то странное – мне казалось, что у меня как-то разросся лоб, уходит куда-то далеко-далеко… Ну вот, а на другой день, вечером, пришел Катаев с бутылкой шампанского – в этот день должна была прийти сестра Михаила Леля, он за ней ухаживал. Тут звонок. Я думала – Леля. А это пришел Михаил, с Юлей Саянской. Сидели все вместе. Не помню уж, пили это шампанское или нет» – так много лет спустя рассказывала Татьяна Николаевна М. Чудаковой о тех тяжких для нее днях.
И это как раз в то время, которое она так долго ждала: принят роман «Белая гвардия», прочитана и сдана корректура первой части романа, в производстве повесть «Роковые яйца», готовится к сдаче в набор первая книга повестей и рассказов… Для сборника «Писатели» написал «Автобиографию»: «…В Москве долго мучился; чтобы поддерживать существование, служил репортером и фельетонистом в газетах и возненавидел эти звания, лишенные отличий. Заодно возненавидел редакторов, ненавижу их сейчас и буду ненавидеть до конца жизни.
В берлинской газете „Накануне“ в течение двух лет писал большие сатирические и юмористические фельетоны.
Не при свете свечки, а при тусклой электрической лампе сочинил книгу „Записки на манжетах“. Эту книгу у меня купило берлинское издательство „Накануне“, обещав выпустить в мае 1923 года. И не выпустило вовсе. Вначале меня это очень волновало, а потом я стал равнодушен. Напечатал ряд рассказов в журналах в Москве и Ленинграде.
Год писал роман „Белая гвардия“. Роман этот я люблю больше всех других моих вещей».
Но роман, повесть, книжка – все это еще впереди, а пока он продолжает работать в «Гудке», писать фельетоны…
«Увертюра Шопена», «Колыбель начальника станции», «Не свыше», «Рассказ про Поджилкина и крупу», «Библифетчик», «По голому делу»…
Если раньше Булгаков с наслаждением высмеивал невежество, чванство, бескультурье, неграмотность и другие человеческие пороки, то сейчас он, продолжая писать разоблачительные фельетоны, уже не испытывает того возбуждения, которое должен испытывать фельетонист. Не раз он признается в дневнике, что работа в «Гудке» его тяготит, потому что фельетоны его начинают мельчать, утрачивая свою обобщенность, как раньше, работает над ними как бы нехотя, из-под палки: он должен в месяц написать несколько фельетонов, обязательных, по заданию редакции.
Вот передали ему письмо рабкора, до поры до времени оно лежит спокойненько на столе Булгакова, но появляется в «Известиях» статья наркома здравоохранения Н. А. Семашко с резким осуждением голых мужчин и женщин, которые разгуливают по Москве с лозунгами «Долой стыд!» на ленте через плечо, пытаются даже входить в трамвай в столь непотребном виде: «подобное поведение необходимо самым категорическим образом осудить со всех точек зрения», с гигиенической, с нравственной, никакой в этом «революционности» нет, одна глупость. «Поэтому я считаю абсолютно необходимым немедленно прекратить это безобразие, если нужно, то репрессивными мерами». В редакции, конечно, читают статью Семашко, выводы газеты. И естественно, редактор четвертой полосы «Гудка» призывает Булгакова откликнуться на злобу дня. Булгаков тянет с исполнением заказа. Пока лишь записывает в дневнике: «12 сентября. Пятница. Яркий солнечный день. Новость: на днях в Москве появились совершенно голые люди (мужчины и женщины) с повязками через плечо „Долой стыд“. Влезали в трамвай. Трамвай останавливали, публика возмущалась»…
И только 11 октября 1924 года Булгаков откликнулся на письмо тов. Пивня, который спрашивает редакцию: действительно ли в Москве появились голые люди и правда ли, что они собираются приехать на станцию Гудермес С. – К. ж. д. с поездом № 12 в 18 часов… На станцию, хоть их и осуждают, посмотреть на них собрались чуть ли не все жители.
Ответ Булгакова был предельно кратким: «Сообщите гудермесцам, что поступки голых надо понимать как глупые поступки.
Действительно, в Москве двое голых вошли в трамвай, но доехали только до ближайшего отделения милиции.
А теперь „общество“ ликвидировалось по двум причинам: во-первых, милиция терпеть не может голых, а во-вторых, начинается мороз.
Так что никого не ждите, голые не приедут. Ваш М. Б.».
И это после «Дьяволиады», «Роковых яиц», романа «Белая гвардия»?
Или «Проглоченный поезд», «Стенка на стенку», «Новый способ распространения книги», «Смуглявый матерщинник», «Рассказ рабкора про лишних людей», «Под мухой»… Фиксация каких-то печальных фактов действительности – пьянства, невежества, безграмотности – и назидательный вывод: «Дорогой Шурка! Видите, какой про вас начали рассказ. Сидя здесь, в Москве, находясь вдалеке от вас и не зная вашего адреса, даю вам печатный совет: исправьтесь, пока не поздно, а то иначе вас высадят и с той низшей должности, на которую вас перевели» («Гибель Шурки-уполномоченного», 16 ноября).
Все те же легкие, насыщенные диалоги, меткие характеристики, точный, богатый язык… Но где ж тут проявиться писательскому воображению? А его тянуло к созданию вымышленного мира, где автор становится господином и действующих лиц, и событий, с ними происходящих, как в «Дьяволиаде» и «Роковых яйцах», как в «Похождениях Чичикова» и «Ханском огне»…
«Ханский огонь», с каким удовольствием он работал над этой коротенькой повестью.
А ведь все началось необычно просто… Выдалась у всех сотрудников четвертой полосы свободная минутка, и, по обыкновению, о чем-то заспорили, о современных поэтах и прозаиках, о современном международном положении, о своих учителях и кумирах… Чаще всего вспоминали О. Генри как образец рассказчика и новеллиста, которого читать всегда интересно, потому что так остроумно завяжет интригу, что только в конце читатель узнает результаты, чаще всего неожиданные. В. П. Катаев, признанный рассказчик и новеллист, начавший печатать рассказы с 1914 года, строго осудил всех современных рассказчиков: «Пишут плохо, скучно, никакой выдумки.
Прочитаешь два первых абзаца, а дальше можно не читать. Развязка разгадана. Рассказ просматривается насквозь до последней точки».
И разгорелся с новой силой спор. Бранили современных писателей, рассказывали невыдуманные истории, которые поражали своей простотой и необъяснимой с точки зрения здравого смысла фантастикой.
– Вспоминаю один эпизод из жизни нашего уезда, поразивший своей неправдоподобностью, о чем до сих пор толкуют мои земляки… Года три-четыре тому назад, когда в крестьянстве было сильное брожение и порой они чувствовали себя полными хозяевами в уезде, жгли помещичьи усадьбы, растаскивали утварь, мебель, уводили скот, но редко этот грабеж приносил кому-нибудь радость, – все собравшиеся со вниманием слушали заведующего четвертой полосы И. Овчинникова, – никто не мог понять другого… Один богатый мужик, нажившийся во время Гражданской войны, неожиданно для всех собственноручно спалил свой хутор, зарезал пять племенных баранов и, пьяный, пришел с косой на конюшню резать сухожилия жеребцам-производителям. Тут голубчика и сцапали его же бывшие конюхи.
– Мужик-то ладно, допился до белой горячки, вот и спалил, это бывает, особенно в то время… А я видел незадолго до Февральской революции, как сгорел помещичий дом со всем содержимым, – медленно заговорил Булгаков. – Вот что было страшно и совершенно необъяснимо… Говорили, что по неосторожности сторожа… Но уже чувствовалось в округе настроение мужиков, особенно тех, кто пришел с фронта, раненные, обозленные, они уже тогда вышли из подчинения всяким властям, зло косились на богатый помещичий дом с его обитателями, я был знаком с сыновьями помещика, чудесные люди, тихие, умные, один из них служил врачом, как и я, а другой – председателем уездной земской управы. Горел большой помещичий дом, виден пожар был всей округе… Ликовали и радовались только ваши Платоны Каратаевы, ваш народ-богоносец…
Последние фразы Булгакова слышал и только что вошедший Юрий Олеша. Все присутствующие сразу почувствовали, что опоздавший был несколько навеселе, какая уж тут работа, посыпались шутки, остроумные и хлесткие, по адресу собрата по перу. Юрий Олеша отвечал тем же. Посыпались каламбуры по адресу всех присутствующих.
Наконец Юрия Олешу водрузили на стол и потребовали от него мгновенных стихотворных импровизаций на злободневные темы… Эпиграммы на присутствовавших так и сыпались…
– А почему ты Булгакова обходишь?! – крикнул кто-то.
– Давай на Булгакова!
Олеша задумался, потом, пробормотав вроде бы про себя несколько слов, уверенно проговорил:
Булгаков Миша ждет совета…
Скажу, на сей поднявшись трон:
Приятна белая манжета,
Когда ты сам не бел нутром!..
Опытные журналисты сразу почувствовали недоброе и заявили протест против явной провокации, «предательского намека», «скрытого доноса и самого наглого вызова», потребовав от Булгакова ответа тоже в стихах-экспромте… Булгаков растерялся, такого он не ожидал от того, кто клялся не раз ему в любви и дружеских чувствах, а тут явное предательство, хоть и в шуточной форме.
– Так требуете от меня ответа?! Хорошо! В детстве и юности я тоже баловался стихами, попробую…
По части рифмы ты, брат, дока, —
начал Булгаков.
Скажу Олеше-подлецу…
Но путь… но стиль… но роль.
Кто-то возражает против «подлеца», «дикий рев голосов» поддерживает: «Подлецу – долой!»
Булгаков соглашается с публикой: ладно, переделаем… И вновь начал декламировать:
По части рифмы ты, брат, дока, —
Скажу я шутки сей творцу,
Но роль доносчика Видока
Олеше явно не к лицу!..
Все собравшиеся почувствовали себя неловко: эти шутки, эти перепалки до добра не доведут… И быстро стали расходиться.
Вдогонку расходившимся Олеша начал просить извинения у Михаила Афанасьевича:
– Я, кажется, малость загнул?
Но неприятный осадок на душе все же остался…
И. Овчинников от нечего делать сидел за своим столом и записывал эти импровизации, «куски и варианты возникающих стихов, колонки рифм, подсказы и замечания слушателей».
«Живые эти записи валялись у меня в нижнем ящике стола вместе с другими такими же ненужными бумагами, – вспоминал И. Овчинников. – Но случился какой-то переезд. Ящики столов пришлось освобождать. И тут вместо того, чтобы выбросить заметки в мусорную корзину, я выбрал их и наскоро, так сказать, „кодифицировал“, свел, как сумел.
Твердо знаю одно: сама вольная, веселая атмосфера сеансов показана достаточно правдоподобно…» (Воспоминания о Михаиле Булгакове, с. 131–144.)
Рассказанное И. Овчинниковым и свои собственные воспоминания о барской усадьбе Муравишники, где он бывал в 1916–1917 годах, посещение барских усадеб в Архангельском и Кускове – все это как-то слилось в одно стремление написать интересное, захватывающее повествование, чтобы по завязке не развязали все действие, чтобы по первым строкам не догадались о последних, как у О. Генри.
«Антонов огонь» – там первоначально назвал повесть Булгаков. И действие происходило во время революции, когда почти все было непредсказуемо. Так что ничего вроде бы удивительного и не было в деревне: мужики никому не подчиняются, помещик сбежал, оставив имение на произвол мужикам и дворне. Все растащили и разорили. И когда у водовоза Архипа началась гангрена – антонов огонь, то даже лошади не оказалось в усадьбе, чтобы послать за врачом. А ночью вернулся хозяин, князь Антон, и поджег усадьбу. Вот этот пожар и есть «Антонов огонь», о котором до последней строчки никто не догадывается, сосредоточив свое внимание на антоновом огне водовоза Архипа. Но этот замысел не удовлетворил Булгакова. И он еще не раз, по обыкновению своему, переделывал повесть, доводя ее до того уровня, когда он оставался доволен, на эти произведения он не жалел времени, это было подлинным…
Первоначальный замысел Булгаков оставил потому, что не оказалось «мостика» в современность, а так хотелось показать не только трагедию, но и зло посмеяться над современностью, над теми, кого он так хлестко высмеивал на страницах «Накануне» и «Гудка».
И прежде всего привлекают внимание три образа – старика Ионы Васильевича, преданного и верного слуги князей Тугай-Бег-Ордынских; Семена Ивановича Антонова, прозванного Ионой Голым, и князя Антона Иоанновича, приехавшего из-за границы, чтобы посмотреть на свою усадьбу-дворец и взять нужные ему документы, хранившиеся в кабинете. Особенно удачен образ Ионы…
Ничто вроде не предвещает трагического развития сюжета. Правда, заболела руководительница-экскурсовод, пришлось старику Ионе Васильевичу принимать гостей в приемный день. Да, Цезарь завыл среди бела дня, быть беде, собаки воют к покойнику. Не впервой ему принимать посетителей, проведет по всем комнатам и залам, покажет портреты, расскажет все, что ему известно о князьях… Только вот как бы не украли чашки, картины-то не украдешь, видно будет, а чашки… «Чашки самое главное. Ходят, ходят разные… Долго ли ее… Возьмет какой-нибудь в карман, и поминай как звали. А отвечать – кому? Нам…» Дуняша присмотрит, пообещала больная руководительница. Так в сопровождении уборщицы Дуньки и повел старый камердинер Иона экскурсантов по дворцу. Все прошло бы, как обычно, молодые юноши и девушки разношерстной толпой проходили по залам, удивлялись, спрашивали, он рассказывал, что знал. Но на этот раз все складывалось неудачно: среди приехавших оказался «немолодой лет сорока, сразу поразивший Иону. Человек был совершенно голый, если не считать коротеньких бледно-кофейных штанишек, не доходивших до колен и перетянутых на животе ремнем с бляхой „1-е реальное училище“, да еще пенсне на носу, склеенное фиолетовым сургучом. Коричневая застарелая сыпь покрывала сутуловатую спину голого человека, а ноги у него были разные – правая толще левой, и обе разрисованы на голенях узловатыми венами.
Молодые люди и девицы держались так, словно ничего изумительного не было в том, что голый человек разъезжает в поезде и осматривает усадьбы, но старого скорбного Иону голый поразил и удивил.
Голый между девушек, задрав голову, шел от ворот ко дворцу, и один ус у него был лихо закручен, и бородка подстрижена, как у образованного человека…». Да и Цезарь на голого залаял… Иона сразу же определил свое отношение к вою собаки: «Ежели кто помрет, то уж пущай этот голый». Так и обходили они дворец, препираясь, не скрывая взаимной антипатии: голый все время показывал свою «образованность», а Иона то и дело вступался за своих князей, которым он прислуживал всю жизнь и от которых ничего плохого не получал. Обратил он внимание и на «пожилого богатого господина-иностранца, в золотых очках колесами, широком светлом пальто, с тростью», но не признал в нем своего князя Антона, ослабел глазами, да и князь переменился за столько-то лет разлуки.
Князь все слышал, что говорил голый… А когда вошел в свой кабинет и узнал, что написал в своей тетради о князьях Александр Абрамович Эртус «из комитета», то сердце его вскипело от ненависти ко всем этим временщикам… Иона испытывал «боль, обиду и стеснение сердца, когда проходила вереница чужих ног по коврам, когда чужие глаза равнодушно шарили по постели». Князь Антон бескомпромиссен: это хорошо, что дворец цел, что его охраняют, водят экскурсии, но этого Эртуса он повесит «вон на той липе», «а рядышком – вот того голого». «Честное слово, я найду товарища Антонова на дне моря, если он не подохнет до той поры или если его не повесят в общем порядке на Красной площади. Но если даже повесят, я перевешу его на день-два к себе… Ты слышал, что он сказал про княгиню-мать?
Слышал?» Князь готов был убить голого за его оскорбления, но сдержался потому, что у него была цель – взять в кабинете очень важные для него документы. А револьвер был, характер горячий, но сдержался, нашел в себе силы… Может, и не стал бы он поджигать дворец, если б не эти негодяи – Эртус и голый. Взял бы документы и скрылся, «незабытыми тайными тропами нырнул» бы «во тьму». Но не разум, а слепая ярость руководила его последними во дворце поступками, и он с наслаждением поджег сначала рукопись Эртуса, потом княжескую постель, на которой спали его предки и которая вызывала всегда сальные насмешки у новых хозяев жизни: «По живой моей крови, среди всего живого шли и топтали, как по мертвому». Этого князь не мог простить… «Все кончено. Лгать не к чему. Ну так унесем же с собой все это, мой дорогой Эртус». И только тогда, когда загорелась княжеская постель, сказал себе: «Теперь надежно».
Мало кто в Париже в это время надеялся на возвращение на Родину триумфатором. Побывав на Родине, понял это и князь – вешать Эртуса и голого на Красной площади ему не придется. Так пропади все пропадом, в том числе и все надежды…
Этим повествованием Булгаков был доволен, особенно образом Ионы Васильевича, да и голый получился отвратительным, чего и добивался он, хотя это впечатление удалось передать читателю ненавязчиво, объективными средствами художественного слова.
Наконец-то опубликован рассказ «Богема»… Так и не удалось напечатать целиком «Записки на манжетах», пришлось это повествование о житье-бытье во Владикавказе и поездке в Тифлис давать как самостоятельный рассказ, хотя, конечно, было бы лучше, если б он продолжал «Записки на манжетах». Но приходилось смиряться, приспосабливаться к литературной ситуации… Хорошо, что литературой руководили все еще разные по своим вкусам и обычаям люди: то, что не нравилось одному редактору, неожиданно приводило в восторг другого. Как же этим не воспользоваться, не меняя, в сущности, главного… Так и в «Богеме»: как написано, так и опубликовано, лишь долго пришлось искать этот журнал «Красная нива», хоть бы не закрылся, как многие журналы, не успев по-настоящему заявить о себе.
В дневнике 4 января 1925 года Булгаков записал:
«…Сегодня вышла „Богема“ в „Красной ниве“, № 1. Это мой первый выход в специфически советской топкой журнальной клоаке. Эту вещь я сегодня перечитал, и она мне очень нравится, но поразило страшно одно обстоятельство, в котором я целиком виноват. Какой-то беззастенчивой бедностью веет от этих строк. Уж очень мы тогда привыкли к голоду и его не стыдились, а сейчас как будто бы стыдно. Подхалимством веет от этого отрывка (отрывок из „Записок на манжетах“. – В. П.), кажется, впервые с знаменитой осени 1921 г. позволю себе маленькое самомнение и только в дневнике, – написан отрывок совершенно на „ять“, за исключением одной-двух фраз („Было обидно“ и др.)».
И вообще дневник – богатый источник для подлинной реконструкции творческой биографии М. А. Булгакова; после его публикации глубже понимаешь его характер, образ мыслей, ход его размышлений; по этим записям, хоть и беглым, но достаточно откровенным, лучше понимаешь его отношения с писателями, близкими, друзьями, знакомыми, которые не остаются неизменными, раз и навсегда зафиксированными. За эти три-четыре года можно проследить значительную эволюцию его взглядов и взаимоотношений с разными лицами, с которыми он общается.
Особый интерес представляют записи, выражающие его отношение к «Накануне» и сменовеховцам, приехавшим из Берлина в Москву. Ночью 27 августа 1923 года Булгаков записывает, что присутствовал на лекции профессора Ключникова, Алексея Толстого, Бобрищева-Пушкина и Василевского (He-Буквы). «В театре Зимина было полным-полно. На сцене масса народу, журналисты, знакомые и прочие. Сидел рядом с Катаевым. Толстой говорил о литературе, упомянул в числе современных писателей меня и Катаева.
Книжки до сих пор нет.
„Гудок“ изводит, не дает писать».
В воскресенье, 2 сентября, следует запись: «…Сегодня я с Катаевым ездил на дачу к Алексею Толстому. Он сегодня был очень мил. Единственно, что плохо, это плохо исправимая манера его и жены богемно обращаться с молодыми писателями.
Все, впрочем, искупает его действительно большой талант.
Когда мы с Катаевым уходили, он проводил нас до плотины. Половина луны была на небе, вечер звездный, тишина. Толстой говорил о том, что надо основать школу. Он стал даже немного теплым.
– Поклянемся, глядя на луну…
Он смел, но он ищет поддержки и во мне, и в Катаеве. Мысли его о литературе всегда правильны и метки, порой великолепны.
Среди моей хандры и тоски по прошлому, иногда, как сейчас, в этой нелепой обстановке временной тесноты, в гнусной комнате гнусного дома, у меня бывают взрывы уверенности и силы. И сейчас я слышу в себе, как взмывает моя мысль, и верно, что я неизмеримо сильнее как писатель всех, кого я ни знаю. Но в таких условиях, как сейчас, я, возможно, присяду».
На следующий день, в понедельник, 3 сентября, Булгаков продолжает все те же темы:
«После ужасного лета установилась чудная погода. Несколько дней уже яркое солнце, тепло.
Я каждый день ухожу на службу в этот свой „Гудок“ и убиваю в нем совершенно безнадежно свой день.
Жизнь складывается так, что денег мало, живу я, как и всегда, выше моих скромных средств. Пьешь и ешь много и хорошо, но на покупки вещей не хватает. Без проклятого пойла – пива не обходится ни один день. И сейчас я был в пивной на Страстной площади с А. Толстым, Калменсом и, конечно, хромым „капитаном“, который возле графа стал как тень…
Толстой рассказывал, как он начинал писать. Сперва стихи. Потом подражал. Затем взял помещичий быт и исчерпал его до конца. Толчок его творчеству дала война».
9 сентября, воскресенье, еще одна важная запись: «Сегодня опять я ездил на дачу к Толстому и читал у него свой рассказ. Он хвалил, берет этот рассказ в Петербург и хочет пристроить его в журнал „Звезда“ со своим предисловием. Но меня-то самого рассказ не удовлетворяет.
Уже холодно. Осень. У меня как раз безденежный период. Вчера я, обозлившись на вечные прижимки Калменса, отказался взять у него предложенные мне 500 рублей и из-за этого сел в калошу. Пришлось занять миллиард у Толстого (предложила его жена)».
«26 октября. Пятница. Вечер. Я нездоров, и нездоровье мое неприятное, потому что оно может вынудить меня лечь. А это в данный момент может повредить мне в „Гудке“. Поэтому и расположение духа у меня довольно угнетенное.
Сегодня я пришел в „Гудок“ рано. Днем лежал…
Интересно: Соколов-Микитов подтвердил мое предположение о том, что Ал. Дроздов – мерзавец. Однажды он в шутку позвонил Дроздову по телефону, сказал, что он Марков 2-й, что у него есть средства на газету, и просил принять участие. Дроздов радостно рассыпался в полной готовности. Это было перед самым вступлением Дроздова в „Накануне“. Мои предчувствия относительно людей никогда меня не обманывают. Никогда. Компания исключительной сволочи группируется вокруг „Накануне“. Могу себя поздравить, что я в их среде. О, мне очень туго придется впоследствии, когда нужно будет соскребать накопившуюся грязь со своего имени. Но одно могу сказать с чистым сердцем перед самим собой. Железная необходимость вынудила меня печататься в нем. Не будь „Накануне“, никогда бы не увидели света ни „Записки на манжетах“, ни многое другое, в чем я могу правдиво сказать литературное слово. Нужно было быть исключительным героем, чтобы молчать в течение четырех лет, молчать без надежды, что удастся открыть рот в будущем. Я, к сожалению, не герой.
Но мужества во мне теперь больше. О, гораздо больше, чем в 21-м году. И если б не нездоровье, я бы тверже смотрел в свое туманное черное будущее…»
Мелькают дни, мелькают события, Булгаков интересуется внешней и внутренней политикой правящей партии, порой иронически, порой саркастически описывает происходящее на его глазах. Мало утешительного и мало надежд на улучшение его положения в обществе. Человек с его взглядами, независимый и неподкупный человек, может оказаться в безнадежном положении. Вот почему он тоскливо смотрит в свое будущее, а тут еще привязалась болезнь: опухоль за ухом, дважды ее оперировали, доктор уверяет, что это не злокачественная опухоль, но предчувствие неблагополучия пугает его. Тем более, что рухнули надежды на издание «Записок на манжетах» в издательстве «Накануне»; часто приходится выслушивать отказы напечатать тот или иной фельетон, уж не говоря о повестях, которые у него уже созрели в голове; как дальше работать, если «наглейший Фурман», представитель газеты «Заря Востока», потерял два его фельетона и отказывается ему заплатить за них; как дальше существовать, если приходится чуть ли не каждый день ходить по редакциям и предлагать свои фельетоны: забракуют в одной редакции, несет в другую, и так каждый день он бегает в поисках средств к существованию, где выпросит десятку, где двадцатку под расписку, под ручательство, что отработает, напишет фельетон или очерк… «Кошмарное существование» продолжалось почти и весь 1924 год… То возникают надежды напечатать роман, то рушатся эти надежды; то пообещают напечатать «Роковые яйца», то откажут или выбросят двадцать лучших мест из повести…
Но Булгаков не сдается. «Лучше смерть, чем позор!» – кричит герой его повести, бросаясь с десятого этажа вниз.
А в это время приехавшие накануневцы полностью, с потрохами, продались верховным властям, продались, лишь бы оказаться в почете у власть имущих… И. М. Василевский, бывший муж Любови Евгеньевны, затеял издание серии «Вожди и деятели революции», но самое удивительное – Яков Блюмкин, левый эсер, убийца Мирбаха, будет писать книгу «Дзержинский»; «старый, убежденный погромщик, антисемит пишет хвалебную книжку о Володарском, называя его „защитником свободы печати“. Немеет человеческий ум…» Булгакову претит вот эта неразборчивая в средствах достичь какого-то комфорта приехавшая эмигрантская интеллигенция. Булгаков остро ощущает, как эти приехавшие «страшно слабеют», не привыкшие, как он, к погоне за куском хлеба, сразу начинают заигрывать с властями, терять чутье и чувство собственного достоинства… Бобрищев-Пушкин взялся написать книгу о Володарском…
«Трудно не сойти с ума, – записывает Булгаков 23 декабря 1924 года. – Впрочем, у старой лисы большее чутье, чем у Василевского. Это объясняется разностью крови. Он ухитрился спрятать свою фамилию не за одним псевдонимом, а сразу за двумя. Старая проститутка ходит по Тверской все время в предчувствии облавы. Этой – ходить плохо… Все они (бывшие накануневцы. – В. П.) настолько считают, что партия безнадежно сыграна, что бросаются в воду в одежде… Какие бы ни сложились в ней комбинации – Бобрищев погибнет… Василевский же мне рассказал, что Алексей Толстой говорил:
– Я теперь не Алексей Толстой, а рабкор-самородок Потап Дерьмов. Грязный, бесчестный шут.
Василевский же рассказал, что Демьян Бедный, выступая перед собранием красноармейцев, сказал:
– Моя мать была блядь…»
Конечно, Алексей Толстой в шутку мог что-то подобное сказать, он любил розыгрыши, любил что-нибудь «отмочить», вполне возможно, что «рамолентный» (старчески расслабленный. – В. П.) мог принять эту шутку всерьез и всерьез же передать ее Булгакову, бескомпромиссному и беспощадному к самому себе и к другим. Но ясно и другое, что позиция и Алексея Толстого, склонного к компромиссам, отвергается Булгаковым как неприемлемая для него как писателя.
Характерен в этом отношении случай, который произошел на вечере у Ангарского. Как обычно в писательской среде, и здесь зашел разговор о цензуре, говорили разное, но чаще всего нападали на нее, говорили о писательской правде и лжи. В разговоре принимали участие В. Вересаев, Н. Никандров, В. Кириллов, Н. Ляшко, В. Львов-Рогачевский… Булгаков знал, что в такой разношерстной аудитории не следует ему выступать и говорить то, что думает о цензуре, но не сдержался и пожаловался на цензуру, которая снимает у него то фельетоны, то целые куски из повестей: так трудно работать, трудно быть самим собой. Н. Ляшко, пролетарский писатель, не скрывая раздражения, возражал Булгакову, не понимая, почему нужно изображать полную правду: «Нужно давать чересполосицу»… Когда же Булгаков сказал, что нынешняя эпоха – это «эпоха свинства», Ляшко с ненавистью возразил ему:
– Чепуху вы говорите…
«Не успел ничего ответить на эту семейную фразу, – записывает Булгаков 26 декабря 1924 года, в ночь на 27-е, – потому что вставали в этот момент из-за стола. От хамов нет спасения… Ангарский (он только на днях вернулся из-за границы) в Берлине, а кажется, и в Париже всем, кому мог, показал гранки моей повести „Роковые яйца“. Говорит, что страшно понравилось и (кто-то в Берлине, в каком-то издательстве) ее будут переводить.
Больше всех этих Ляшко меня волнует вопрос – беллетрист ли я?!»
Этот вопрос мучает его постоянно; порой, в минуты «нездоровья и одиночества», предаваясь «печальным и завистливым мыслям», он горько раскаивается, что бросил медицину и обрек себя «на неверное существование». Но главная причина в том, что любовь к литературе непреодолима в нем и только этим он может заниматься. И угнетенное расположение духа сменяется у него ликованием, как только он видит опубликованным из того подлинного, заветного, которым он так дорожит. В последние дни 1924 года он, как обычно, «десятки раз» проходил по Кузнецкому Мосту и случайно увидел 4-й номер «России»: «Там – первая часть моей „Белой гвардии“, т. е. не первая часть, а первая треть. Не удержался и у второго газетчика, на углу Петровки и Кузнецкого, купил номер». И тут же, конечно, начал листать страницы журнала, еще пахнущие типографской краской. Какое это наслаждение! Забыты все муки творчества, все тревоги, связанные с его публикацией, таилась в глубине души только неуверенность, будут ли его читать… «Роман мне кажется то слабым, то очень сильным. Разобраться в своих ощущениях я уже больше не могу. Больше всего почему-то привлекло мое внимание посвящение. Так свершилось. Вот моя жена», – записывает в дневнике Булгаков «в ночь на 28 декабря».
Роман Булгаков посвятил Любови Евгеньевне Белозерской. И сейчас, рассматривая посвящение, Булгаков поморщился, явно недовольный поспешностью посвящения: почему Белозерской? А не Булгаковой? И он с наслаждением зачеркнул «Белозерской» и вписал – «Булгаковой».
Часов до четырех проговорили Михаил Афанасьевич и Любовь Евгеньевна… Так уж сложилось, что почти каждую ночь они не спали до трех-четырех часов. Булгаков называл установившийся порядок «дурацким обиходом», но ничего поделать не мог. Вставали поздно, в двенадцать, «а иногда и в два».
Булгаков написал роман при Татьяне Николаевне, а заканчивал уже при Любови Евгеньевне. Ей и достались лавры победительницы… И неудивительно. Булгаков с каждым днем чувствовал, что все больше и больше влюбляется в свою жену, удивляется ее способности так быстро и уютно устраиваться в быту, не уставал смотреть, как она ходит, говорит, иной раз и мелькнет мыслишка-вопрос: «При всяком ли она приспособилась бы так же уютно или это избирательно, для меня»… И тут же признается: «Не для дневника, не для опубликования: подавляет меня чувственно моя жена. Это и хорошо, и отчаянно, и сладко, и в то же время безнадежно сложно: я как раз сейчас хворый, а она для меня… Сегодня видел, как она переодевалась перед уходом к Никитиной, жадно смотрел. Политических новостей нет, нет. Взамен их политические мысли.
Как заноза сидит все это сменовеховство (я при чем?) и то, что чертова баба завязила меня, как пушку в болоте, важный вопрос. Но один, без нее, уже не мыслюсь. Видно, привык», – записывал Булгаков в дневнике.
И не только привык, но и почувствовал, что Любовь Евгеньевна способна хорошо устраивать его издательские дела: рукопись романа «Белая гвардия» сдали в издательство Сабашникова, но Лежнев тоже хотел издать роман, который он печатал в журнале. «Люба отказала, баба бойкая и расторопная, и я свалил с своих плеч обузу на ее плечи. Не хочется мне связываться с Лежневым, да и с Сабашниковым расторгать неудобно и неприятно. В долгу сидим как в шелку», – записывает Булгаков 29 декабря 1924 года. Но Лежнев все-таки уговорил Булгаковых, и в начале 1925 года выработали договор на продолжение «Белой гвардии» в журнале и в издательстве. Пришлось пойти на этот договор, потому что «денег у нас с ней не было ни копейки». Но на следующий же день Лежнев пообещал дать 300 рублей. «Забавный случай: у меня не было денег на трамвай, а потому я решил из „Гудка“ пойти пешком. Пошел по набережной Москвы-реки. Полулуние в тумане. Почему-то середина Москвы-реки не замерзла, а на прибрежном снеге и льду сидят вороны. В Замоскворечье огни. Проходя мимо Кремля, поравнявшись с угловой башней, я глянул вверх, приостановился, стал смотреть на Кремль и только что подумал „доколе, Господи“, – как серая фигура с портфелем вынырнула сзади меня и оглядела. Потом прицепилась. Пропустил ее вперед, и около четверти часа мы шли сцепившись. Он плевал с парапета, и я. Удалось уйти у постамента Александру». (Сам памятник Александру II был снесен сразу же после Октябрьского переворота. – В. П.)
Приведу еще несколько записей, которые весьма органично вписываются в самохарактеристику Булгакова. Вернемся на несколько дней назад.
В ночь с 20-го на 21 декабря. «Опять я забросил дневник. И это к большому сожалению, потому что за последние два месяца произошло много важнейших событий. Самое главное из них, конечно, – раскол в партии, вызванный книгой Троцкого „Уроки Октября“, дружное нападение на него всех главарей партии во главе с Зиновьевым, ссылка Троцкого под предлогом болезни на юг и после этого – затишье.
Надежды белой эмиграции и внутренних контрреволюционеров на то, что история с троцкизмом и ленинизмом приведет к кровавым столкновениям или перевороту внутри партии, конечно, как я и предполагал, не оправдались. Троцкого съели, и больше ничего.
Анекдот:
– Лев Давидыч, как ваше здоровье?
– Не знаю, я еще не читал сегодняшних газет. (Намек на бюллетень о его здоровье, составленный в совершенно смехотворных тонах)…
Москва в грязи, все больше в огнях – и в ней странным образом уживаются два явления: налаживание жизни и полная ее гангрена. В центре Москвы, начиная с Лубянки, „Водоканал“ сверлил почву для испытания метрополитена. Это жизнь. Но метрополитен не будет построен, потому что для него нет никаких денег. Это гангрена.
Разрабатывают план уличного движения. Это жизнь. Но уличного движения нет, потому что не хватает трамваев, смехотворно – 8 автобусов на всю Москву.
Квартира, семьи, ученые, работа, комфорт и польза – все это в гангрене. Ничто не двигается с места. Все съела советская, канцелярская, адова пасть. Каждый шаг, каждое движение советского гражданина – это пытка, отнимающая часы, дни, а иногда месяцы.
Магазины открыты. Это жизнь. Но они прогорают, и это гангрена.
Во всем так. Литература ужасна…»
23 декабря, вторник. (Ночь на 24-е). «Сегодня по новому стилю 23-е, значит, завтра Сочельник. У Храма Христа продаются зеленые елки. Сегодня я вышел из дома очень поздно, около двух часов дня, во-первых, мы с женой спали, как обычно, очень долго. (Напоминаю: живут Булгаков с Любовью Евгеньевной уже в Обуховом переулке. – В. П.) Разбудил нас в половине первого Василевский, который приехал из Петербурга. Пришлось опять отпустить их вдвоем по делам… Последнюю запись в дневнике я диктовал моей жене и окончил запись шуточно… (Видимо, эту часть записи за 21 декабря Булгаков позднее вырвал. – В. П.)
На службе меня очень беспокоили, и часа три я провел безнадежно (у меня сняли фельетон). Все накопление сил. Я должен был еще заехать в некоторые места, но не заехал, потому что остался почти до пяти часов в „Гудке“, причем Р. О. Л., при Ароне, при Потоцком, и кто-то еще был, держал речь обычную и заданную мне – о том, каким должен быть „Гудок“. Я до сих пор не могу совладать с собой, когда мне нужно говорить, и сдержать болезненные арлекинские жесты. Во время речи хотел взмахивать обеими руками, но взмахивал одной правой, и вспомнил вагон в январе 20-го года и фляжку с водой на сером ремне, и даму, которая жалела меня за то, что я так страшно дергаюсь. Я смотрел на лицо P. O. и видел двойное видение. Ему говорил, а сам вспоминал…
Нет, не двойное, а тройное. Значит, видел P. O., одновременно – вагон, в котором я ехал не туда, и одновременно же – картину моей контузии под дубом и полковника, раненного в живот…» (См.: Театр, 1990, № 2, с. 144–155. Публикация Г. Файмана.)
Вот это – «доколе, Господи» – о сидящих в Кремле правителях часто возникает в мыслях Булгакова. Разум повелевает ему не высказываться вслух о своих тайных раздумьях, но сердце порой не выдерживает всего того кощунственного, что происходит на его глазах, и он говорит больше, чем следует, но промолчать не в силах. Особенно его раздражают сменовеховцы, приехавшие из Берлина и осевшие в Москве. То, что они говорят, он не может слушать без ярости, а в дневнике отводит душу, называя их «веселые берлинские бляди»…
В эти дни Булгаков бывает в «Зеленой лампе», на вечерах у Леонова, Петра Никаноровича Зайцева, на «Никитинских субботниках»… Читает главы «Белой гвардии», но чаще всего главы повести «Роковые яйца». Присутствующие на этих чтениях по-разному воспринимают произведения Булгакова – одни одобряют, другие «морщатся», и Булгаков обращает внимание на малейшие проявления чувств у слушателей. Он опасается за «Белую гвардию», как бы роман не потерпел «фиаско». Этот роман ему нравится, «черт его знает почему».
«Вечером у Никитиной читал свою повесть „Роковые яйца“. Когда шел туда – ребяческое желание отличиться и блеснуть, а оттуда – сложное чувство. Что это? Фельетон? Или дерзость? А может быть, серьезное? Тогда невыпеченное. Во всяком случае, там сидело человек 30, и ни один из них не только не писатель, но и вообще не понимает, что такое русская литература.
Боюсь, как бы не саданули за все эти подвиги „в места не столь отдаленные“. Очень помогает мне от этих мыслей моя жена…
Эти „Никитинские субботники“ – затхлая, советская, рабская рвань».
А через несколько дней еще одна очень важная запись, точно передающая его настроение этого периода: «Сегодня в „Гудке“ в первый раз с ужасом почувствовал, что я писать фельетонов больше не могу. Физически не могу. Это надругательство надо мной и над физиологией».
Наконец, в феврале 1925 года вышел альманах «Недра», № 6, с повестью «Роковые яйца»… Казалось бы, все тревоги – позади…
В «Роковых яйцах» Булгаков столкнул две силы – тупость, темноту, невежество, воплощенное в образе Александра Семеновича Рокка, и гениальную прозорливость в образе ученого Владимира Ипатьевича Персикова, опередившего свое время. Он забежал вперед, сделал гениальное открытие, а люди оказались неподготовленными к такому открытию. Конфликт между этими двумя типами эпохи привел к трагическому концу, потому что уж слишком противоположны были они по своей сути, а неумолимая действительность заставила их участвовать в одном и том же научном эксперименте. Персиков – воплощение ума, интеллекта, культуры. Увлеченный своей работой, он далек от политики: «Слишком далек от жизни – он ею не интересовался». «Газет профессор не читал, в театр не ходил, а жена профессора сбежала от него с тенором оперы Зимина в 1913 году, оставив ему записку такого содержания: „Невыносимую дрожь отвращения возбуждают во мне твои лягушки. Я всю жизнь буду несчастна из-за них“». Но профессор мало имел себе равных в области земноводных или голых гадов, читал на четырех языках, кроме русского; словом, Персиков Булгакова – это ученый широкой эрудиции, исключительной преданности своему делу, человек замечательного ума и огромной творческой фантазии.
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу