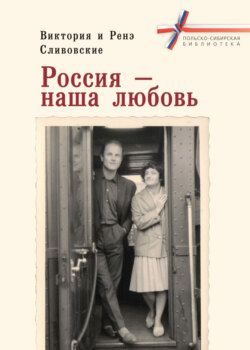Читать книгу Россия – наша любовь - Виктория Сливовская - Страница 17
Учеба в СССР
Молодые родители и учеба. Летние каникулы
ОглавлениеПосле возвращения в Ленинград нас поселили по отдельности по решению товарища Бохмана. Сегодня мы уже не так возмущены, как тогда – каждый будь на его месте отказал бы! Откуда проректор должен был знать, что мы окажемся такими прилежными и ответственными студентами? Кроме того, он имел дело с иностранцами! А с ними никогда нельзя быть ни в чем уверенным… Самый простой способ – не дать разрешение, и нет проблемы! Хуже того, мы оказались расселены в разных местах: я – на Мойке, в комнатке на нескольких человек, отапливаемой дровами, в действительно ужасных условиях, а Ренэ, как и прежде, – в общежитии на Желябова, только в комнате, где было десяток с лишним человек. Однако снова каким-то чудом (благодаря кому – я уже не помню) мы вскоре получили отдельную комнату, снова в бывшем «Медведе», превращенном в общежитие, где так приятно рядом с «титаном» прошел второй семестр 1951 года. Я чувствовала себя прекрасно, ходила на лекции и семинары, становясь все более круглой, без льгот я сдавала заранее экзамены, потому что мне все удавалось, я все понимала и могла свободно все выразить. Только роды все откладывались, и над нами подшучивали, говоря, что ребенку так хорошо, что он не хочет покидать своего помещения и начать жить в не лучшем из миров.
Беременность и рождение сына привели к тому, что наше Землячество махнуло на нас рукой – поскольку мы сдавали зачеты и экзамены, сложно было от нас что-то требовать. Я уже больше не ходила на собрания, а Ренэ бывал через раз.
* * *
Когда ожидаемый день, наконец, наступил, поздно вечером 29 января 1952 года я проводил жену в роддом, расположенный на улице Маяковского. Мы шли по Невскому, пешком, было тихо, сыпал снег, падая большими хлопьями на пальто. Мы были совершенно беззаботны, мы ничего не боялись. Что может случиться плохого с нами, такими радостными? Мы добрались до такси и приехали на место.
В тот день мы оба верили в нашу счастливую звезду. Я написал родителям: «29-го в 2 часа ночи я отвез ее на такси, до которого она дошла сама. Она никогда не проявляла страха перед тем, что ее ожидало. Но только когда она, уже одетая в „казенный халат”, пришла попрощаться со мной, ее губы сильно дрожали, а в глазах с легкостью можно было заметить страх».
Оставив ее там, я вернулся в пустую комнату и приступил к генеральной уборке, чтобы избавиться от не испытываемого мной ранее душащего чувства беспокойства.
* * *
В больнице я провела – вопреки ожиданиям – двенадцать дней. Все это время мы писали друг другу письма два раза в день, поэтому сегодня я могу рассчитывать не только на свою память.
Я оказалась в большой палате с высокими кроватями. Я лежала там очень долго, так что насмотрелась! Успело родиться восемь детей, в том числе близнецы у женщины-инвалида без ног, прежде чем появился наш потомок, которого мы назвали из-за смуглого цвета лица и за черные вихры Бамбо, как в стихотворении Юлиана Тувима[71].
Уже 29 января я писала Ренэ карандашом: «Все это продолжалось четырнадцать часов. Как раз была дежурной та врач из консультации и еще несколько других – они отнеслись ко мне очень тепло. (…) Они не цацкаются, но делают все, чтобы тебе помочь. (…) Я потеряла много крови, но мне сразу же перелили пол-литра советской [!] крови, и теперь я чувствую себя прекрасно. (…) Кормят здесь очень хорошо – примерно на уровне столовой на Грибоедова – утром хлеб (белый) с маслом и чаем, затем творог и молоко, обед из трех блюд (щи, мясо, кисель) и готовый ужин. Пока я ем все с большим аппетитом. Вот почему мне хочется только фруктов».
30 января я продолжала: «Так что я чувствую себя хорошо, очень хорошо. И я должна сказать, что в большой мере благодаря местным условиям. Я считаю, что делается по максимуму все, что возможно, и я не уверена, что дома обо мне лучше бы заботились. Как всегда – самые сердечные – это „русские бабушки”, всевозможные „няни”, „уборщицы” и т. д. Хотя работа у них очень тяжелая, они всегда в хорошем настроении, постоянно довольны жизнью. Одна очень забавная, она разносит нам еду и питье, без перерыва приговаривая „Ешьте, мамочки, ешьте”. Сложно даже повторить эти постоянные реплики в отношении „мамочек”, насколько полезно пить молоко или есть хлеб с творогом».
Слово «реплики» я неправильно использовала – в ответ на замечания нянечек лежавшие рядом со мной «мамочки», которых я тоже с юмором описывала, подчеркивая, что они «не жалуются», делали «очень меткие и крайне остроумные замечания о жизни». Как жалко, что я их не записала!
Ренэ, в свою очередь, узнав, что стал отцом, чуть не попал под машину, чему свидетелем была одна из уборщиц, с которой мы подружились, она сначала испугалась, а потом обрадовалась. В его письме от 30 января я прочла: «Каким-то образом Мария Ивановна, наша „уборщица”, там оказалась. Я рассказал ей все, что знал. Она была очень довольна. Вообще очень приятно, когда видишь, что людям не безразлично, что они радуются вместе с тобой…».
Действительно, наши знакомые по учебе также проявляли немало теплых чувств, что в т. ч. было отражено в очень забавном письме ко мне, в котором описывалось, как мои институтские подруги, ни на кого не обращая внимания, повисли на шее счастливого «папки», как и на подаренной нам прекраснейшей коляске, которая также служила кроваткой (коляска была «рижского происхождения»).
В первой палате нас было одиннадцать: «(…) все с юмором, спокойные и любят свежий воздух», а главное: «(…) радио работает только время от времени». Затем меня перевели в другую часть больницы – там женщины были несколько более примитивны (а назойливый громкоговоритель гудел все время). Больше всего их удивляло, о чем можно столько писать друг другу. У большинства не было мужей (война!), а те, у кого были, беспокоились, сохраняют ли они им верность. Я записала: «(…) они говорят об изменах, которые довелось пережить, о ссорах дома, о мучительных родах и детях, которых не хотелось и больше не хочется, и если появятся, будут лишь обузой и т. д. и т. п.».
6 февраля я снова писала: «Знаешь, у нас в „палате” очень интересные разговоры; недавно произошла ссора по поводу культуры: одна заявила, что русские некультурны, другая сказала, что процент „грамотных” в СССР самый высокий и поэтому это самый культурный народ. А первая говорила о разнице в поведении иностранцев или даже русских, которые жили на Западе, от местных, которые хамистые, неотесанные, без воспитания и манер. И в качестве доказательства она сказала, что ее „приятельница” была в Польше и говорила, что у нас любой крестьянин живет как барин, и каждая крестьянка играет на фортепьяно после работы. Было очень смешно слушать. Затем они говорили о высоком уровне жизни в Германии и Чехословакии и т. д. и т. д.
Еще одно, что вызвало у меня шок, так это удивительная суеверность этих женщин: с виду культурная, и вдруг начинает рассказывать тебе о том, кто кого «сглазил» в ее семье, как кто-то заболел, кто-то умер, как нельзя во время беременности ходить на похороны, а длинная пуповина бывает тогда, когда переступаешь через веревки, как нужно сплюнуть через плечо, если гость говорит что-то, – ты не представляешь».
Я хотела как можно скорее вернуться в наш «дом», в общежитие, но врачи отказывались выписать из-за плохих результатов анализов. Поэтому я продолжала писать письма и ждала ответов. Они прекрасно передают атмосферу этого прибежища, социального среза и межличностных отношений. Когда стало ясно, что я студентка, мои соседки по палате начали меня сильно жалеть – как я справлюсь с учебой, ребенком, а еще мужа надо обслужить, постирать, приготовить. Меня тогда удивило такое отношение к мужчинам – не только в больнице. С Ренэ мы с удивлением наблюдали, что всю тяжелую работу выполняют здесь женщины в ватниках и валенках: ремонтные работы, даже сверление тяжелой дрелью с упором в живот. А мужчины сидят в учреждениях, за письменными столами, они контролируют, руководят… Они были, с одной стороны, милые, сострадательные, а с другой – могли проявить невероятную жестокость.
7 февраля 1952 года я писала: «Знаешь, была и до сих пор являюсь свидетелем совершенно чудовищной истории. В нашей палате лежит калека, двадцатитрехлетняя Люба-Любочка; она родила девочку, она – эпилептик, наполовину парализованная. Уже один вид ее вызывает жалость и ужас. (…) Она ненормальная, живет в условиях, судя по тому, что она говорит, не самых лучших. Конечно, ребенок незаконнорожденный, неизвестно чей. И Люба придумала целую историю о том, что у нее есть муж – майор в Севастополе, что пишет, что скоро ее заберет. Все вокруг умирают со смеху, задают ей сотни вопросов, и она с радостью отвечает, не замечая, что они так безжалостно насмехаются над ней. (…) Я и не думала, что бабы могут быть такими жестокими. „Мужа ей захотелось, ладно бы еще придумала, что рабочий, так нет майор – вишь, что удумала” – такие фразы я слышу постоянно. (…) Но это еще не все, теперь ей некуда деться с ребенком, ее мать не хочет и не может взять: она сама тяжело работает, и здесь нужно присматривать и за Любой, и за ребенком. (…) В доме инвалидов нет места для ребенка. (…) Вчера привезли двух маленьких девочек (десять и двенадцать лет – что-то в этом роде) – будут им делать „аборт”. Ужасная история – я не слышала ее целиком. Это, видимо, не в первый раз».
Хватит этих больничных историй…
Наконец настал день возвращения в общежитие. Дальше все пошло нормально. То один, то другой из нас чувствует себя хуже или лучше. Только Бамбо вечно доволен и ни в чем нам не мешает. Когда мы учимся, он просто хочет быть в коляске, рядом с лампой. Лежит, сучит ножками и не знает, что его привезенные из Польши пеленки и подгузники кипятятся на примусе, а затем будут тщательно выглажены. Гигиена! Однажды эти подгузники с пеленками, кипящие в большом алюминиевом тазу (мой вклад в приданое малыша) на соседней кухне, взлетели буквально на воздух. Видимо, примус забился и произошел взрыв, к счастью, рядом никого не было. Нам досталось лишь много уборки, вокруг было полно сажи, пролитой мыльной воды и пеленок. Пришлось быстро купить новый и приступить к дальнейшему кипячению…
В любое время, когда это было необходимо, но часто и по собственной инициативе, к нам приходила врач. Когда Ренэ заболел ангиной (изначально подозревали даже дифтерию), она приносила какие-то лекарства, что было нелегко, и говорила постоянно мыть руки. Она была нашим добрым духом, ее забота тронула нас, и с тех пор мы прониклись любовью к русским. Действительно, не раз они проявляли в отношении нас свою доброту – со временем все большую.
Пять месяцев нашей жизни втроем пролетело незаметно. Мне пришлось сдать еще два экзамена – политэкономию и историю СССР. Ренэ готовился к своим. Бамбо, как я уже сказала, совсем не мешал нам – он лежал рядом в своей коляске из Риги и смеялся, когда мы бросали в него подгузником.
* * *
Время от времени мы готовили на электрической машинке грибной суп с пельменями и сметаной (таким образом, мы совершали одно из преступлений – мы вкручивали так называемый «жулик»). Иногда я один ел в соседней столовой, а молодой маме приносил то, что мне советовали официантки. Они относились к нам, не знаю почему, с большой симпатией и давали нам самое лучшее. Студенческий ребенок был всегда в хорошем настроении, ничего не боялся, а качали его под мелодию частушки с рефреном «Моя мама боевая и папаша боевой». Его можно было разбудить посреди ночи, и он сразу был готов к веселью. Поэтому мы брали Бамбу с собой в поездки, плавали с ним вместе на пароходике, чтобы всем вместе любоваться белыми ночами, гуляли в польско-русской компании со знаменитой коляской из Риги, увековеченной на одной из фотографий.
Наконец мы сдали все экзамены, получили зачеты и могли вернуться в Польшу. Остались только билеты, сборы вещей всех троих – и в путь…
Мы вернулись в Варшаву самолетом через Москву; прямого сообщения еще не было. А после каникул, которые прошли в Мрозы в Мазурии в обществе целой сдвоенной семьи, насчитывающей теперь вместе с Богусем, племянником «бабуси Зоси», одиннадцать человек. Мы оставили семимесячного ребенка в Белостоке под присмотром бабушки с дедушкой и теток (самой младшей и самой заботливой было шесть лет!). Варшавские бабушка с дедушкой и дядя Дудек обещали финансовую и другую помощь. Сдержали свои обещания. Извращенцы-родители уехали заканчивать последний год обучения.
До этого – во время этих и предыдущих каникул – мы выливали на головы наших отцов целые ведра критических замечаний и рассказов о худших впечатлениях от Москвы и Ленинграда. Дедушке Леону делали комплименты за участие в войне с большевиками в 1920 году; мы хвалили его за то, что он пошел добровольцем и получил награду, и даже за то, что получил участок земли в Подолии; он, правда, не захотел стать осадником (колонистом) и уехал во Францию. Но благодаря таким людям, как он, Польша не стала семнадцатой республикой! Дедушку Юзефа мы расспрашивали про его отношение к московским процессам и культу Сталина, который у нас вызывал особенное омерзение. Дедушка Леон не хотел ничего слышать, а дедушка Юзеф попытался охладить наши горячие головы, говоря, что у нас есть возможность учиться, получать стипендии, а им это было недоступно, то есть что мы должны принять во внимание одно и другое. Он явно боялся, что нас занесет, и нас выгонят из института. Этого и мы боялись, поэтому мы как улитки прятались в домик и молчали. Мы осознавали весь оппортунизм и испытывали чувство отвращения. Однако оно нас не очень сильно беспокоило.
71
Наш ровесник Бамбо / В Африке живёт. / Чернокожий Бамбо / С солнышком встаёт. / Он уходит в школу / Рано, на заре. / Он уже читает / Буквы в букваре. Пер. В. Приходько. Прим. пер.