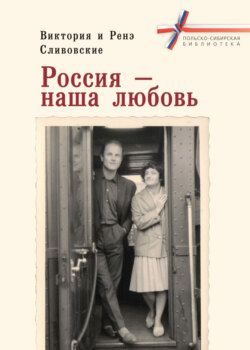Читать книгу Россия – наша любовь - Виктория Сливовская - Страница 6
Во Франции и в Польше (1930–1949 гг.)
Моя Франция
Вторая встреча
ОглавлениеЧерез какое-то время директора уведомили о том, что маршал Петен будет проезжать на поезде через наш городок. Его следовало достойно поприветствовать всей школой. В тот день, которого все с нетерпением ждали, мы выдвинулись в два ряда к воротам станции и там расположились вдоль ажурной ограды. Ожидание затянулось. Мы строили разные догадки. Может быть, поезд остановится, и маршал выглянет в окно или выйдет на платформу и поблагодарит одного из нас лично за его рисунок? Может… Наконец вдали из-за поворота появился паровоз. Но поезд не замедлил ход, и мы едва пришли в себя, обнаружив, что он промелькнул мимо нас как молния. Вот так мы увиделись с маршалом. Некоторые, правда, утверждали, что видели, как он стоял у окна и махал рукой, но я не могу этим похвастаться.
Мы жили под властью Виши, в неоккупированной Франции, но немцы то и дело крутились в нашем свободном Фёр.
Помню, как сейчас, их первое появление в городке. Они разместились со своими грузовиками по двум параллельным аллеям, вдоль которых росли мои любимые платаны. На них побежали глядеть – в основном женщины, в том числе моя мать с какой-то француженкой. «Mais ils sont gentils, ces Allemands» («А ведь они вежливы, эти немцы»), – сказала она моей матери, на что та ответила на своем слабом, но всегда выражавшем суть французском: «Жанти, жанти, были бы вы сейчас в Польше, увидели бы, насколько они жанти».
Эти молодые немцы, высокие и красивые, были действительно «gentils»: милые, улыбающиеся, поющие, постоянно занимавшиеся чисткой и без того сверкавшего оружия. Впрочем, у меня с них был доход. Увидев, что я с товарищем пялюсь на них, они подозвали нас и, протянув деньги, попросили «zwei faschen limonade». Товарищ не понял, что происходит, и я вспомнил несколько слов из старого учебника, по которому отец учил меня изредка в свободное время. Когда мы возвращались с бутылками, они обычно не брали сдачу. Конечно, я делился с товарищем, но, как мне помнится, поскольку я считал себя знатоком немецкого, то не совсем справедливо.
Однажды вечером, когда мы сидели на кухне за ужином, раздался громкий стук в дверь. Вошли трое или четверо немцев. И встали молча. Я испугался, помня ужасные рассказы о том, что они вытворяли в Польше. Но мой отец вскочил со словами: «Сразу видно польские морды!». Действительно, это были силезцы, которые искали соотечественников. Их часть некоторое время находилась в Фёр. Мне нравились их визиты, особенно потому что они всегда приносили с собой какие-то угощения. Один из них приходил даже днем, когда отец был на фабрике, которая, впрочем, была рядом.
Вскоре эта фабрика начала работать в силу необходимости на немцев, то есть перерабатывать целые вагоны (с польскими надписями) сахара в какой-то мед, необходимый для изготовления пряников для армии. Я, возможно, что-то путаю, но совершенно точно в нескольких шагах от нашего дома находились целые горы сахара, который под покровом ночи рабочие, в основном поляки, выносили всеми возможными способами: в карманах, в специально сшитых мешочках, которые незаметно прятали под рабочими комбинезонами… Кто-то настолько разошелся, что попытался вынести целый мешок, но был пойман. Отец был солидарен с теми, кто выносил, но сохранял умеренность.
К тому времени я уже закончил школу, и директор порекомендовал меня одному из трех аптекарей в нашем городке, месье Динэ, на место предыдущего помощника, который утонул в Луаре (потому что, как говорили ребята, переел персиков). Название должности было помпезным «aide-préparateur», что в переводе звучит не менее громко: помощник провизора. Чего только не было в этой аптеке! Вкусные леденцы от кашля, шоколад, вино для повышения аппетита, а также замечательные ароматные сиропы от всевозможных недугов. В углу стояла большая коробка полная картинок и игр, предлагаемых постоянным клиентам в рекламных целях. Поскольку они казались мне никому ненужными, я приносил их домой моим младшим сестрам. Видя это, мой отец однажды сказал мне: «Мы выносим сахар с завода, потому что немцы украли его в Польше. Впрочем, месье Нигай и так на это закрывает глаза. Но ты не должен этого делать, потому что это уже воровство». Эти слова запомнились мне на всю жизнь.
Этот тайно выносимый сахар был для нашей семьи настоящим благословением, особенно для меня. Раньше я должен был объезжать местных фермеров и буквально умолять их продать несколько яиц или кусочек масла. Хозяйки чаще всего отказывали вежливо, но решительно. Деньги не имели значения. Теперь же я диктовал условия, я больше не был попрошайкой, а обладателем твердой валюты – сахара, которому сладко улыбались. Я мог добыть почти все, чего не хватало в городке.
Кроме того, у нас был большой участок земли, который владелец фабрики сдавал рабочим в аренду за символическую плату. Мы выращивали там все, что могли: кроме картошки – овощи, а также замечательную клубнику. Еще там росло чудесное цветущее розовыми цветами персиковое дерево, позднее усыпанное сочными плодами. Мы также разводили там кроликов, которым я должен был приносить мешки с травой и сорняками, что было нелегко в жаркие военные годы. Отец продавал кроликов, потому что не мог есть милых животных, за которыми ухаживал. (Шутя, конечно, годы спустя, перефразируя Чехова, я говорил, что кролики съели мое детство, но это высказывание ужасно раздражало мою маму). Каждую субботу родственники из Фирмини приезжали за всеми этими сокровищами и уезжали из Фёр перегруженными.
Я тогда окончил среднюю школу… Эти слова нуждаются в уточнении. Дело в том, что после сдачи выпускных экзаменов (на которые в здание нашей школы съехались ученики со всего кантона, т. е. области) и получения свидетельства, я все равно мог еще посещать дополнительный класс, который как раз был создан. Он был чем-то вроде первого гимназического. Его вел молодой человек, который был намного моложе других наших учителей, и который только появился в нашем городе. Кажется, отец объяснил мне, что это был француз из Парижа, чье «неарийское» происхождение заставило его покинуть столицу. К моему счастью, он попал в Фёр. Я говорю «счастье», потому что этот год стал для меня чередой радостных событий. Его манера ведения уроков, мышления, ведения бесед с нами или, вернее, общения с нами, была настоящим откровением. Нас осталось в классе человек двадцать или около того, что также способствовало установлению связи. Ему никогда не приходилось нас дисциплинировать, мы впитывали каждое его слово. Закончилась зубрежка ненавистных «résumés», хотя приходилось серьезно заниматься французской классической литературой, в том числе уча наизусть большое количество фрагментов. Но это была хорошая школа, в дополнение дававшая возможность вести дискуссии, высказывать собственное мнение, обучавшая критическому отношению к прочитанным текстам. Он рассказывал нам о культурной жизни Парижа и заставлял нас смеяться до слез, пародируя монологи трагических авторов (особенно Корнеля) со сцены. Это было нечто большее, чем школа, оно выходило за рамки нашего провинциального мира, стимулировало воображение.
К моей радости, он увеличил количество уроков рисования. Тут то я расправил крылья, потому что наконец для меня закончилось механическое перерисовывание. Кроме того, новый учитель умел говорить о живописи, он знал и любил ее. Как я был горд, когда 1 мая – в День труда – он организовал выставку лучших сочинений и рисунков и пригласил родителей в школу. Конечно, пришел и мой отец. И он был горд тем, что мои литературные и художественные произведения лежат в витринах и висят на стенах класса.
Наши успехи теперь оценивались по шкале от нуля до двадцати. Можно было даже иметь ноль по какому-нибудь предмету, главное было соответствовать обязательному общему среднему баллу. В начале года мы получили светло-зеленое свидетельство – сложенную пополам карточку, где на одной стороне наш учитель рядом с каждым предметом должен был вписывать баллы (кстати, я до сих пор ума не приложу, как он подсчитал, что по истории я заслуживаю тринадцать и три четверти балла!), а с другой – свои комментарии об ученике. После первой четверти я, гордый как павлин, показываю отцу свое свидетельство со следующим замечанием: «Doué. Pourrait mieux faire en travaillant davantage» («Одаренный. Может достичь большего, если будет больше трудиться»). Я обратил внимание на первую часть записи, а отец – на вторую, и, к моему удивлению, он снова разозлился на меня, но на этот раз только на словах: «Будь ты усерднее, добился бы большего!».
В какую-то среду учитель дал нам задание на пятницу: «Commentez ce vers de Lamartine: „Objets innanimés, avez-vous donc une âme qui s’attache à notre âme et la force d’aimer?”». («Прокомментируйте это стихотворение Ламартина: „Неодушевленные предметы, у вас, стало быть, есть душа, которая привязывается к нашей душе и заставляет ее любить?”»). Я понятия не имел, что писать, но и опозориться я не желал, потому что очень хотел, чтобы обо мне были хорошего мнения. Как вдруг на следующий день, в четверг, как по заказу, произошла авария, взволновавшая весь город – партизаны пустили под откос целый товарный поезд, перевозивший в Германию огромное количество всякого добра: от шампанского и табака до тюков с различными видами текстиля и прочим. Когда я, что было сил, прибежал на место происшествия, то увидел, как местные жители выносят из вагонов все, что только возможно. Какой-то мужик пил шампанское из горла, открыв бутылку ударом о рельсы. Незабываемо! Грязный машинист стоял в раздумье у перевернутого на бок паровоза. Именно его образ дал мне идею для сочинения: отчаявшийся машинист, оплакивающий свой неодушевленный предмет, к которому он привязался всей душой… За эту трудную работу я получил восемнадцать баллов – лучшую оценку в классе.
Однако счастье было недолгим. Я закончил этот класс. Война также закончилась. Любимый учитель отправился в свой любимый Париж. В Фёр не было возможности дальнейшего обучения. Как я уже сказал, я попал в аптеку.
Теперь я щеголял в сшитом моей матерью белом фартуке в расположенной на главной улице аптеке, принадлежащей месье Динэ. Я практически делал здесь все: утром я открывал аптеку, то есть открывал огромные деревянные складные двери на железных болтах, а вечером закрывал их, проводил уборку, мыл банки после различных мазей, перемывал бутылки и склянки, которые клиенты в качестве «consignées», то есть залога, старательно возвращали, я делал суппозитории, распределял порошок по маленьким бумажкам, которые затем складывал в конверты; раскладывал травяные сборы по бумажным кулечкам… Сперва я полностью потерялся во всем этом, поэтому мой непосредственный начальник, провизор месье Дюссу, мужчина средних лет, но уже обремененный десятью детьми, велел мне каждый раз громко спрашивать, где что находится. Поэтому я спрашивал, а он отвечал из-за своего старомодного письменного стола, на котором лежала большая книга. Он записывал в нее то, что местные врачи прописали по рецептам. Однажды я громко спросил: «Monsieur Dussult, où sont les préservatifs?» («Месье Дюссу, где презервативы?» – потому что именно это шепотом попросил клиент); я понятия не имел, что это. К моему изумлению, мой начальник вскочил со своего места, затащил меня обратно в лабораторию и яростно завизжал в самое ухо: «Tu pourrais pas parler plus bas, imbécile?!» («Ты не можешь говорить тише, идиот?!»). Это был самый серьезный промах в моей почти двухлетней фармацевтической карьере. (Кстати, навык чтения рецептов пригодился мне позже, когда пришлось иметь дело с неразборчиво написанными источниками!).
С месье Дюссу меня связывала не только работа. В свободные минуты, случавшиеся не часто, мы умирали со смеху, когда я читал ему фрагменты «Les gaités de l’escadron» («Забавы эскадрона») Куртелина с ужасно смешными сценами из французской казарменной жизни. Кроме того, мы вели ожесточенные «идеологические споры». Под влиянием отца, заядлого атеиста (вероятно, это ускорило его отъезд из Польши), в библиотеке которого было много книг об инквизициях и папской нечестивости и который смог с успехом заложить в меня рациональное зерно, в особенности потому, что на собственном примере доказывал, что можно быть честным и благородным без веры в Высшее Существо, я выдвигал существенные, по моему мнению, доказательства небытия Бога. Месье Дюссу – наоборот. Однако, меня несколько озадачили где-то вычитанные размышления Жан-Жака Руссо о звездном небе: «Plus j’y pense, et moins je puis y songer, que cette horloge existe et n’a point d’horloger» («Чем больше я думаю об этом, тем чаще посещает меня мысль, что раз эти часы существуют, то у них должен быть часовщик»[16]). Но я не дал себе завладеть этой мыслью, хотя она мне действительно нравилась.
Я был типичным наивным агностиком, но мне нравился невероятно милый молодой «abbé» – аббат, благодаря которому я провел несколько дней в Альпах с целой группой товарищей из моей школы (поездка была за счет приходского дома, иначе я бы в то время так и не увидел горы). Перед отъездом у меня были сомнения, о которых я рассказал отцу: что делать, когда все пойдут в церковь? (Потому что ходили, правда, не слишком часто). Мой отец посоветовал мне вести себя естественно, то есть не притворяться, что я молюсь, не становиться на колени, потому что это был бы худший из вариантов, в конце концов, все знают, что я неверующий, просто быть в церкви без показухи, либо подождать всех у церкви. Я так и сделал. Священник ни разу не обратил на меня никакого внимания, но я почувствовал, что он относился ко мне с особой добротой.
Здесь я должен вновь вернуться на мгновение к теме школы. В Фёр их было четыре: две государственные, светские (мужская и женская) и – по аналогии – две частные, так называемые «écoles libres» под руководством священников. В этих двух, конечно, в классах на стенах висели кресты, и сразу на месте преподавалась религия. Дети из нашей школы посещали занятия по религии в соседней церкви. В полдень ученики из каждого класса становились парами и в сопровождении учителя отправлялись туда на час. Я этот час проводил, как хотел. Характерно то, что городок был небольшой, и все про всех все знали. И никто никогда не попрекнул меня тем, что я не хожу на занятия по религии, и даже не пытаюсь как-то соответствовать. Меня также приняли на работу в аптеку – а желающих было немало! – несмотря на эти обстоятельства. Странно, верно? А если смотреть на эту ситуацию с нашей польской перспективы, наверное, даже очень…
Но, тем не менее, за мной приглядывали.
Однажды месье Динэ сказал мне, что виделся со священником, и тот приглашает меня в свой дом после работы. Удивленный и обескураженный я пришел туда около восьми. Сейчас мне жаль, что я не запомнил более точно ход беседы с тем священником, который, расспросив меня о том о сем, перешел к сути вопроса. Его интересовало, почему я не верю. Я выдвигал различные – возможно, наивные – аргументы. Священник в ответ серьезно полемизировал, приводил свои аргументы, но почему-то они меня не убеждали. В какой-то момент он спросил меня (а это было сразу после победы союзников), знаю ли я, куда сразу направился генерал де Голль, когда прибыл в Москву. Почему-то я не знал, хотя об этом визите много писалось в газетах. «На священную мессу в католический собор, – гордо заявил он и добавил: «А как ты думаешь, генерал де Голль – мудрый человек?». Меня пригвоздили этим аргументом.
Интересно, чем бы закончились эти попытки спасти мою душу, если бы не наш довольно неожиданный отъезд из этого города? Моему отцу предложили работу учителя польского языка в шахтерском поселке, и он не преминул этим предложением воспользоваться. Буквально через несколько дней мы оказались в еще более крохотном городке в департаменте Мен и Луара, в Нуаян, насчитывавшим около 1500 человек. Здесь было куда больше поляков. Отец снова стал учителем польских детей, в основном из шахтерских семей.
Мы поселились в шахтерском поселке – вновь это был ряд домов под общей крышей, правда, теперь у нас уже было две комнаты с кухней, одна на первом этаже, вторая – на верху, и достаточно большие. Но что тут говорить – с Фёр нельзя было и сравнивать. Окрестности мрачноватые, Луара фигурировала лишь в названии департамента. Единственным местом развлечений было «café-restaurant», но что с того?
В Фёр – кроме Луары и Луаз – был еще кинотеатр! Каждое воскресенье я мог посмотреть фильм в «Ciné-Téâtre» месье Гарана, аскетичного и похожего на Бастера Китона. На самом деле это был большой театральный зал, но актеры были в нем редкими гостями, хотя время от времени здесь проводились школьные представления. Именно здесь однажды я сыграл роль месье Tabourin вместе с моей подругой Флёри из соседней женской школы. Я ничего не помню, кроме ужасного страха перед сценой, огромного количества пар глаз, направленных на меня после того, как раздвинули занавес, среди них мать с сестрами и друзьями, сидевшие в первом ряду, и кроме проблем с поиском подходящего для роли костюма. Спас меня мой товарищ, сосед Жюльен Горжере, одолжив свой темно-синий костюм, купленный для причастия. Это было мое первое и последнее выступление на сцене.
Этот зал в качестве кинотеатра оказался превосходным. Я не пропускал ни одного показа фильмов, если только они были не разрешены для молодежи, таких как «Жена пекаря» Марселя Паньола, с моим любимейшим Ремю в главной роли (но мама мне потом все подробно рассказала). Репертуар был очень разнообразным и совсем не плохим, как я теперь понимаю. Иногда мы ходили туда всей школой в будний день, что было особенно увлекательно, потому что часть уроков благодаря этому отменялась. Разумеется, перед началом фильма пускали киножурнал при неполном освещении, чтобы охранники могли сразу увидеть возможного протестующего против лжи тогдашней пропаганды, что иногда случалась на воскресных показах. Однажды при первых кадрах зазвучала прекрасная, неизвестная мне мелодия, и я услышал слова песни на неизвестном мне языке: «Полюшко, поле, / Полюшко, широко поле…»[17], французский перевод появился в нижней части экрана: «Plaine, oh ma plaine / Plaine, oh mon immense plaine…». Спустя годы, во время обучения в Ленинграде (сегодня вновь Петербурге) я сделал «открытие», которое странным образом шокировало меня. Ведь это была известная русская песня, исполнявшаяся многочисленными советскими хорами, в том числе и Красной Армией. Тогда она послужила музыкальным фоном для немецкого документального фильма о советских преступлениях в Катыни. Волнующие фотографии и волнующая, запоминающаяся мелодия… Я запомнил и одно, и другое сразу на всю жизнь. О том, что я увидел, я рассказал отцу, но – как и многие в то время – он не поверил: «Наверняка эти бандиты сами это сделали, а теперь обвиняют русских».
В тот день у меня было шикарное место в партере. В нашем «Ciné-Téâtre» все еще были – как и положено зрительному залу в театре – бенуары и ложи и так называемый «poulailler», буквально курятник, то есть парадиз, или галерка. Когда в воскресенье мы ходили в кино всей семьей, мы теснились именно там, потому что так было дешевле. Теснота была ужасная, т. к. места не нумеровались. Здесь мы все смотрели фильм с участием Кепуры в главной роли. Мать сидела рядом с Рикардо, итальянцем, местным коммунистом, как говорили о нем, обремененным невероятным количеством вечно сопливых детей, жавшихся в одной комнатке домика у железнодорожной станции, и известного своей любовью к выпивке. Все было хорошо, пока Кепура не начал петь. К сожалению, он пел по-итальянски. Ссора была на французском языке, но смысл был примерно таким:
– Сразу видно, что итальянец, – начал кичиться Рикардо.
– Какой итальянец, это поляк, – возмутилась мать.
– Какой же он поляк, когда поет по-итальянски?
– Ну и что с того, что поет по-итальянски? Он поляк, я знаю, что говорю.
– Итальянец.
– Поляк.
– Итальянец.
– Поляк.
Спор становился все громче и громче, рядом началось ворчание, стали оборачиваться в нашу сторону, а в свете прожектора нас было хорошо видно. Перепалку прекратил твердый голос отца: «Нина, успокойся».
К счастью, дальше Кепура больше не пел по-итальянски. Но ссора продолжалась по пути домой при молчаливом неодобрении со стороны отца.
В Нуаян развлечения, подобного кинотеатру месье Гарана, не было, поэтому воскресные дни были особенно унылыми. Несмотря на это, шахтеры – помимо тяжелой работы – вели довольно интенсивный образ жили, не только в социальном, но и в эмоциональном плане. Это было связано с тоской по родной стране, куда они из-за своего финансового положения не могли вернуться и по той же причине не могли навестить родных. В целом чувство идентичности и национального достоинства в среде польских эмигрантов в то время было чрезвычайно сильным. И это находило выражение не только в такой карикатурной форме, как спор о Кепуре. Я помню постоянное материнское «Когда мы вернемся…» (например: «Когда мы вернемся, не сможешь больше обращаться ко мне на ты…»). Это «мы вернемся» действительно было главным лейтмотивом их духовной жизни, часто проявлялось в исполняемых песнях, как в этой: «Одна у нас судьба, одна у нас боль / Одна у нас тоска по этим лесам, по этим полям… / Мы вернемся туда…». Поляки глубоко верили, что они заработают денег и, в конце концов, снова окажутся на родине. В большинстве своем они не воспользовались возможностью получить французское гражданство для себя и детей (что, в конечном счете, давало определенные привилегии, хотя бы в виде семейного пособия). Спустя годы это изменится…
Между тем они с энтузиазмом участвовали в многочисленных благотворительных акциях «для родины», хотя ни одна из этих рабочих семей не жила в достатке. Они находили возможность собрать немного денег и передать то жертвам наводнения, то для других целей. Организовывались балы в арендованном местном и уже упоминавшемся кафе-ресторане. Я сам там был в роли официанта, разносившего напитки и пончики, получая признание польской общины: «Сын учителя, не отказывается помочь». Французы туда приходили толпами: оркестр был польским, угощение – экзотические для них пончики, дрожжевые кексы, стоившие сравнительно дешево, потому что их пекли жены шахтеров. Душой этих мероприятий была организация «Помощь родине», правление которой состояло из трех человек: пана Стопы, Ноги и Колена (это не шутка, а забавное совпадение).
Одним словом, независимо от режима в стране, они чувствовали связь с Польшей. Они гордились своей родиной, ее историей и современностью. Были готовы забыть, почему им пришлось ее покинуть. Мой отец – и не только он – заботливо хранил и дополнял записанные аккуратным каллиграфическим почерком тетради со стихами и польскими песнями (они у меня сохранились); мать пела дворовые баллады, зачастую китчевые, рассчитанные на то, чтобы прошибить слезу, а также народные фривольные песенки. Иногда этот аутентичный патриотизм принимал забавные формы. Я помню ужасное возмущение местной польской диаспоры, когда крестьянина из обветшавшей белорусской деревни, который щеголял на велосипеде в кальсонах, соседи французы осмелились назвать поляком. Вспоминаю, как у меня возник спор с группой «французиков» в Фёр – я ретировался домой, чтобы пожаловаться, и мама дала мне совет: «А ты скажи им, что один поляк стоит больше, чем десять французов!». Я побежал вниз по лестнице и бросил им вслед эти мстивые слова. Они удивленно обернулись, а я – на всякий случай – бросился обратно наверх.
Вся эта атмосфера и мне, родившемуся во Франции, каким-то образом передавалась. У меня не было причин тосковать, ну, возможно, работая в аптеке, я чувствовал какую-то неудовлетворенность, неопределенное желание заниматься не только мытьем склянок и продажей лекарств, но и чем-то совершенно другим, более интересным… Постоянные разговоры о неизвестной мне родной стране сильно повлияли на мое воображение. Неудивительно, что я тоже хотел туда поехать.
Тем временем я отправился в менее отдаленный Париж. Мой отец, узнав, что в Париже появилась польская школа, поехал туда со мной. Эту польскую школу – курсы рисования и выпускной класс (может быть, два, уже не помню) – организовал Польский Красный Крест. Она находилась вместе с интернатом не в самом Париже, а в городке Уй, в одной остановке от теперь уже исторического Мезон-Лаффит (если ехать из Парижа по направлению к Гавру).
Обучение проходило в адском темпе. Сначала я не успевал практически ничего по всем предметам. С польским у меня были еще нелады. Говорить я, конечно, говорил, но с правописанием… Я, вероятно, делал больше ошибок, чем сам Бонапарт, как любил говаривать один из моих учителей в Фёр.
После окончания курсов рисования меня перевели в гимназию. Здесь было легче, хотя и не совсем.
У нас были очень хорошие бытовые условия, сытная и вкусная еда, и нам никогда не отказывали в добавке. Зато старались свести к минимуму наши поездки в Париж. Моих товарищей, которые были гораздо старше меня, освобожденных из немецких лагерей или с принудительных работ у бауэров, не собиравшихся возвращаться в «новую» Польшу, тянуло туда не только из-за достопримечательностей… Мои карманные деньги не позволяли впасть в раж (зарплаты учителя моего отца еле хватало, чтобы содержать семью; шахтеры знали об этом и поддерживали нас углем, и даже давали какие-то продукты). Но мне было достаточно просто бродить по Парижу, полному достопримечательностей или даже просто зрелищ – известная вещь. Однако, помня об этом запрете, означавшем, что в Париж следовало ездить как можно реже, я, как проштрафившийся, всегда возвращался оттуда с тревогой: не заметит ли меня один из учителей?
Навел на меня страх Аллан Коско, который в то время учил нас латыни и жил, как и некоторые другие учителя, в нашей школе-интернате. В поисках инструмента для глажки своих единственных, видавших виды брюк он заглянул в нашу комнату (я в то время жил с замечательнейшим Павлом Бейлиным, который, хотя и был намного старше, не относился ко мне как к сопляку, общался со мной на равных, что очень льстило мне). В те давние времена я заботился о стрелках на брюках и был владельцем собственного утюга. Аллан Коско хотел выполнить эту операцию сам, но я (обрадованный в дополнение ко всему, что его визиту я обязан не своей очередной поездкой в грешный город) счел целесообразным выручить его. Он снял брюки и уселся на край моей кровати в одних льняных подштанниках до середины бедер. Я придавил утюгом намоченную тряпку, чтобы она немного подсохла, прежде чем можно будет нормально гладить. Наблюдая за моими действиями, он вдруг спросил: «А ты не ездишь?». «Вот тебе на, – подумал я, – он видел, как я сегодня выходил из поезда». Но, прежде чем я успел начать переживать, он добавил: «Я-то езжу» – и скользящим движением руки показал, как он ездит утюгом по брюкам и не прижимает его к ним (наверно, он вообще никогда эту тряпочку не мочил, поэтому штанины у его брюк и напоминали две тонкие трубочки). Тогда я и подумать не мог, что мне выпала честь гладить брюки выдающегося польского поэта, с которым я много лет спустя встретился в Париже.
В первом классе гимназии, расположенной уже в самом Париже, на авеню де Ваграм, куда школа была переведена в 1946/1947 годах, таких чудаков уже не было.
Зато был Париж.
В то время Париж был грязным, черным, фасады Лувра, Нотр-Дама и прочих зданий годами не ремонтировались. Но при этом он казался красочным и невероятно очаровательным. На его улицах и площадях всегда происходило что-то впечатляющее: кто-то что-то продавал, призывал не упустить какую-то уникальную возможность покупки, пел, играл… Кроме того, ему всегда было, что предложить в области искусства в широком смысле этого слова. Опера стала для меня настоящим откровением. Внезапно на сцене я увидел то, что знал только по радио. Конечно, я сидел на галерке, поэтому на «Фаусте» я видел только половину сцены, естественно, нижнюю. После «Тоски», длившейся довольно долго, была поставлена сюрреалистическая драма «Груди Тиресия» Аполлинера. Что тогда началось в театре! Аудитория разделилась на два враждебных лагеря: сторонников и противников этого произведения (по сцене летали ночные горшки и, Бог знает, что еще, а от всей пьесы в моей голове остались лишь слова: «Et faites des enfants, vous qui n’en faites guère!», то есть «Плодите же детей, те, кто их мало плодит!»). Возможно, дошло бы даже до рукоприкладства, но жандармы, стоявшие до этого времени у входа, начали усмирять нарушителей порядка и растаскивать наиболее вспыльчивых. У такого провинциала как я аж дух захватило от происходящего.
И совершенно ошеломила меня, меня всегда увлекавшегося рисованием и живописью, большая ретроспективная выставка импрессионистов (1946 г. (?)) в музее Оранжери. Бесконечное восхищение ею я выразил в своем сочинении, которое получило одобрение нашей учительницы польского языка (что было очень важно для меня, поскольку, как я уже упоминал, с польским у меня были нелады). Одним словом, я могу с уверенностью сказать, что не столько польское прибежище стало для меня школой, сколько, и прежде всего, этот замечательный город, о котором я столько слышал и читал (в детстве я был с родителями на знаменитой Всемирной выставке, но, конечно, ничего не запомнил из того, что потом неоднократно повторяли родители). Теперь же этот город становился для меня все ближе.
Этот близкий контакт с Парижем и увлечение им продолжалось недолго. В письмах отец сообщал, что движение по репатриации поляков набирает силу. Многие уже уехали, пора и нам об этом подумать. Вскоре мой отец предпринял соответствующие шаги. Он верил, что нам будет лучше в новой Польше. По его настоянию я то и дело ходил в какое-то министерство или контору, чтобы узнать, что с нашим отъездом. Как вдруг однажды мне сообщили, что соответствующие документы уже готовы. Можно ехать. Как раз заканчивался учебный год. Я получил свидетельство, собрал чемодан, в котором, помимо моей одежды, нескольких книг и подарков для сестер, были еще купленные по просьбе отца для «выездного» знамени амарантовое полотно, золотая бахрома и баночка с серебряной краской из галереи «Лафайет». Накануне отъезда из Нуаян мы будем всю ночь шить, раскрашивать Орла и соответствующую моменту надпись.
Поездка должна была состояться в сентябре. Каникулы я провел с отцом в шахтерской кассе выплат. Не знаю, сам ли отец нашел работу или кто-то предложил ему ее, но каждый день на рассвете я вставал и полусонный с отцом тащился к автобусу, полному веселых, шутящих шахтеров, и мы все вместе ехали к находившейся в нескольких километрах от Нуаян шахте. Шахтеры спускались вниз, а мы шли в контору. Что-то мы с отцом заработали на дорогу, правда я сомневаюсь, что от нашей работы была какая-то польза: мы оба часами считали длинные столбцы чисел в бухгалтерских книгах, но суммы никогда не сходились. Мы начинали снова, и каждый раз выходило что-то иное. По ночам эти подсчеты и суммы преследовали меня. Французские бухгалтеры моментально, водя вниз-вверх пальцем в книге, производили подсчеты и не ошибались, они также очень хорошо знали, насколько жалкими были результаты наших усилий. Может быть, это была менее оскорбительная форма помощи для уезжавшего польского учителя?
Наконец наступил долгожданный день. Из какого-то дальнего уголка Франции приехал попрощаться дядя Юзек. Мои родители все еще что-то упаковывали, дядя Юзек, прекрасно зная, что его старший брат – прирожденный абстинент – не только не держит крепких напитков в доме, но что у него не найти и капли вина, предложил мне прогуляться по городу. Под городом имелся в виду кафе-ресторан, где я недавно продемонстрировал свое мастерство официанта. Мой дебют дегустатора белых вин закончился плачевно; я пришел на голодный желудок, а дядя Юзек щедро заказывал бокал за бокалом… Последствия можно себе представить.
За зданием вокзала нас ждал поезд – товарный поезд, очень длинный (на поворотах не было видно ни паровоза, ни последнего вагона). Длинный потому, что он должен был везти имущество многих польских фермеров: рабочие инструменты, всевозможные машины, крупный рогатый скот, мебель… Нас как-то подвезли к нему. Затем с помощью дяди Юзека мы внесли в вагон наш скарб, который мы без труда поместили в одном из углов. Наш багаж был поводом для многих шуток. «Ну, видишь, Леон, – говорил дядя Юзек, – ты читаешь и читаешь всю свою жизнь, учишься и учишься, и ничего с этого не имеешь. Я не учился и тоже ничего не имею». Золотые слова.
Дядя Юзек – человек простой, и в то же время прямолинейный, честный, добрый, по-своему смешной, нравившийся людям, бескорыстный. Все, что зарабатывал, сразу раздавал направо и налево. При этом он отличался смелостью. Когда в 1939 году французские власти передали лагерь Кеткидам (Бретань) польским воинским частям, формировавшимся во Франции, он немедленно присоединился к ним. Затем он попал в шталаг под фамилией Шабри, где его поместили среди французов. Там нацисты безжалостно изувечили его в ответ на оскорбительные слова в их адрес. Он потерял один глаз тогда; а потом с удовольствием показывал мне свой искусственный глаз, который он вынимал перочинным ножом из глазницы, что вызывало у меня настоящий ужас.
А теперь дядя Юзек стоит на перроне и ждет. Почему он не едет с нами? По всей видимости, у него были свои причины. Он вернется в Польшу при Гереке[18], чтобы здесь сложить свои кости. А тем временем, он стоит и ждет, когда тронется поезд.
Наконец, поезд медленно начал движение вперед. Я, прилипнув к окну вагона, едва вижу дядю Юзека. Его скрывает от меня стена слез.
16
Выражение чаще приписываемое Вольтеру. Уподобление Бога часовщику восходит к Цицерону. Прим. пер.
17
Здесь и во многих местах далее в книге Авторы приводят цитаты сразу по-русски, они выделяются курсивом. Прим. пер.
18
Эдвард Герек возглавлял Польскую народную республику (ПНР) в 1970-1980 гг. в качестве первого секретаря ЦК Польской объединенной рабочей партии (ПОРП). Прим. пер.