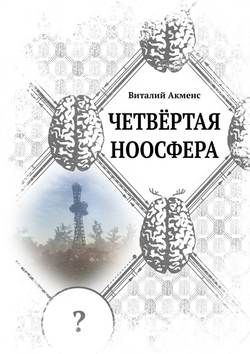Читать книгу Четвёртая ноосфера - Виталий Акменс - Страница 7
День третий
Сохранность 78%
ОглавлениеЯ лежу, заложив руки за голову, и пускаю мысли, словно воздушные змеи, за пределы черепного свода. Подо мной проплывают египетские пирамиды, ветшающие со скоростью один век в секунду. Я поскальзываюсь и царапаюсь о чешуйчатые купола деревянных церквей и азиатские башни, уходящие в облака. Из облаков вырастают отпечатки человеческих рук на стенах пещеры. Картина древним пигментом сменяется картиной маслом, кисти европейца Джона Кольера. Я задерживаю взгляд, опускаюсь чуть ниже довольной мордочки змея, но опять поскальзываюсь и влетаю в какой-то тучный орбитальный склад времён позднего СРаМа. Склад унылый и аполитичный, но и здесь висят плакаты про бдительность и агентов Щепи, прям как у нас в шараге: «Следи за своим уГЭ!» На складе есть двери, но я не могу вообразить, что за ними – не пускают. Я размазываюсь по стенке и падаю назад. Я рисую по глазам французский гербовый fleur-de-lys, и он сминается волнами ускоренного времени, обзаводясь ещё двумя отростками, снова принимая вид пятипалой человеческой руки. На этот раз не менее гербовой. Люди есть пальцы…
А потом всё проваливается в отчаянную духоту. Подо мной разверзается жуткий беспозвоночный рот, состоящий из сотен и тысяч пушистых червей. Рот снова готов поглотить меня, стереть, приласкать, защекотать в порошок. Но мне всё равно. Я ничего не хочу. Драгоценная пыль вырывается из меня как огонь, и правильно, я не заслуживаю даже пыли. Я шлак. Я падаю вниз, в эссенцию тьмы, в кисель, растворяющий желания, мысли, жизни и даже их отсутствие.
Что за пылкэтык?! Открываю глаза. Закрываю рот. А мне казалось, что у меня бессонница.
Душно. Вот в чём дело. Видать, какая-то стандартная реакция ношика на духоту. Надо будет разобраться, перенастроить. Если возможно. Если по карману. Но это днём. Сейчас голова не варит. Сама чуть не сварилась. Да остынь же ты! Похоже, моя спальня взбесилась. Ну да, на улице, наверно, дубак, но это не повод устраивать тут Африку.
Всё-таки не спится – неверный диагноз. Мне очень даже спалось. Снов не стоит бояться, ведь сны выполняются в защищённой среде и легко забываются. Похоже, мои милые ночные кошмары этим нагло пользуются. Как там было? Плыви на буй? Б-р-р-р. Даже темнота начинает качаться в глазах и напоминать пену. Спасибо, верная память. Теперь даже заснуть не посмею. Однако же, подавлять смертельный холод во сне смертельной духотой наяву – это уже слишком.
Надо продышаться. Когда ещё эта комната остынет?
Встаю, как на пружинке, не чувствуя сонности. Даже веки не смыкаются. Голова немного ватная, но в теле бодрость и ясность. Не надо было так долго спать прошлой ночью. И днём тоже. На занятиях. Сейчас бы дрых без задних ног и исподних кошмаров.
Замечаю тёмное пятно у подушки. Это мой хвостик-амулет. Видимо, сорвал, пока в кошмаре метался. Духота даже милые вещи превращает в компоненты душегубки. Хватаю на ощупь. Встаю. Всё, держи меня разум, а то сейчас до леса добегу.
«Вы вспоминали: „Горячая смерть“. К сожалению, воспоминание требуемой глубины невозможно. Это может быть связано с нарушениями, осуществлёнными из вашего бассейна мяти (см. историю нарушений). Напоминаем, что понятия, не связанные с воспоминаниями, должны быть забыты, поскольку являются катализатором ГЭ…»
Да сгинь же ты! Не до тебя. Я же забывал тебя вечером, откуда ты опять вылезло?!
«…Всегда ваш, Орден одминов».
Всегда не ваш, Турбослав Рось.
«…Вспоминали горячее? Новые обогреватели по специальной цене! Забудьте про перерасход калорий…»
Да, да, только вас не хватало.
Вытираю пот со лба.
Перекладываю несколько деревяшек. Вот старая одежда без опознавательных знаков, какой-то строительный хлам, куски отработанной гущи, сетка, ёмкость с метанолом, теннисный пячик, облезлая мягкая игрушка в форме кошки из коллекции милой сестры…
Гырголвагыргын, какого гыргына я припёрся в кладовую?
Ах да, вектыри ищу. Привычка. А вектырей нет. Кончились. И вообще, зачем мне вектыри? Я просто хотел попить. И продышаться. Совсем мозги сварились. Крадусь обратно. Не разбудить бы никого.
Воздух! Настоящий воздух! Хочется отрастить себе ещё десяток лёгких и вдохнуть ими всеми разом эту свежесть, эту тьму, это кислородное безумие. Расставляю руки и запрокидываю голову. Серое небо устлано дымкой, и звёзд почти не видно. Только самые яркие. Над головой, почти в зените какая-то мерцает, прямо фонарь иного мира, даже гало заметно. Если долго смотреть, гало превращается в воронку, по которой катится и кружится голова. Теряю равновесие и падаю на колени. Ладонь загребает росы, роса холодная, но я всё равно смотрю в небо. Звезда затмевается самую малость моим собственным паром, продуктом носа и рта, тускло подсвеченным силами ближайшего уличного фонаря. Красивая реальность. Ничего лишнего. ГЭ на уровне фона.
Подхожу к калитке. Пустая улица. Никаких лишних контекстов. Фонарь хорошо виден, чего нельзя сказать о столбе, на котором он закреплён. Не застать смену цветов. Фонарь старомодный, но его свет решительно вселяет чувство сонности. Калитка кряхтит под моим отяжелевшим локтем. Отворяю её. Теперь видно ещё несколько фонарей, но я больше не смотрю на звёзды. На земле спокойнее. Чувствуешь себя застывшим на дороге не пространства, а времени, вспоминая несколько фонарей из прошлого и додумывая столько же на будущее. Зачем спать? Можно отдыхать здесь, между «фо» и «нарь», и не тратить нервы на секунды и секунды на нервы. Сюда никто не доберётся. Разве что одмины… уже.
Съёживаюсь и начинаю крутиться как танцор, оглядывая всё, что противопоказано себе выдумывать. Холод отступает, и даже раскаляются отдельные части лица. Но никого нет. Может быть, даже на самом деле. Просто есть вещи, которые не хотят забываться. Вот, например, пятачок земли, на котором позавчера я нарвался на разговор. А где-то там, «в стороне прошлого», они увели Белышева. А может, не увели. Может, до сих пор стоят все трое. Что поделать, нет у меня дорогого навигатора, а стандартный не видит тех, кто не хочет быть видимым. Или не может.
Неустойчивые мысли. Уровень ГЭ поднимается. Делаю глубокий вдох, но это мало помогает. Кажется, уют родной улицы безнадёжно подорван и не оживёт за эту ночь. Но спать по-прежнему не хочется. Более того, уже почти не холодно. Как ни тупа досада и злость на самого себя, а кровь эти чувства ускоряют на славу. И пальцы греют. Особенно, если последние в составе кулаков.
Надо двигаться. Движение – это жизнь. А жизнь – это свобода.
Ноги шуршат, трескают валежником и хлюпают влагой, бодро и ритмично, успешно отгоняя пока ещё не собачий холод. Узнаю родное. Ещё даже не совсем осень, а духота кажется красивой легендой. Уже и пальцы мёрзнут, даже в кулаках, мечтают о варежках и невольно тянутся к кулону-хвостику, который я снова с радостью надел. Он уже согрелся на груди как настоящий пушной зверёк. Мягкая шёрстка, тёплый матовый набалдашник и цепочка замысловатого плетения. Как интересно: он что, воду поглощает? У меня же пальцы были мокрые. Да нет, мех вроде обычный, даже немного отсырел, а вот оправа хороша. Интересно, откуда материал? Надо будет у Алеси спросить.
Всё, веки уже тяжёлые, и глаза лучше не закрывать. А то накроет.
Оглядываюсь, скорее чтобы размять шею, потому что всё равно ничего не видно. Я не какая-нибудь киска, которых так любит моя сестра, и в темноте вижу темноту и не сильно больше. Зато на ощупь хорошо ориентируюсь. И помню хорошо. Память вообще творит чудеса. Вот, например, знакомое дерево. Сколько наших ног оно выдержало! Сколько веток мы нечаянно сломали, а оно всё живо и помирать не собирается. Провожаю взглядом ствол до самого зенита. Знакомый рисунок ветвей едва колышется на фоне серого неба и белой, прядь её, звезды. Звезда даже лучики протягивает.
А это ещё что? Ветка сломанная?
Или моё бревно с вектырем?
Расталкивая сомнения, я хватаюсь за ствол и, кряхтя, поднимаю себя на полметра вверх. На следующем этапе кряхтеть не требуется. В считанные минуты я достигаю пятиметровой высоты и уже в нелукавом ракурсе вижу объект. Вижу обломанную верхушку ствола, которая легла на ветки под таким углом, что кажется прямой снизу.
Облом.
А надо было не расталкивать сомнения, а соединиться с вектырем. И задать себе вопрос, почему он не соединяется, раз висит так близко. Ведь он должен был остаться включённым.
Потому что вектыря здесь нет и никогда не было.
А, в сущности, почему облом? Я покорил высоту непокорного детства, не поскользнувшись, не замёрзнув и не устав до изнеможения. Я обновил старые навыки, откачал хаос из тела, согрелся и размотал целое измерение памяти. Какой там вектырь? Вот он я, а вот Мэмыл в трёх метрах книзу соревнуется в вокале с трещащей веткой; а вот Пашок, намутил трос да так и завис, перепутал, но разве признается? Где же вы сейчас?
Молчат. Ни слова, ни образа, ни общей гостиной. Даже кабинет моего неспящего сознания, со всеми экранами, со всей своей навигацией ничего не показывает. А ведь сейчас у них день, и спать они не могут. Опять заняты? Коты Шрёдингера. Вы же не могли оба сдохнуть – одмины сказали «смерть», а не «смерти». Вы что, скрываетесь от закона?
Помню, как Мэмыл предложил намутить термоядерную катастрофу, чтобы прославить наш городок и привлечь новых людей. Мы ему тогда отсоветовали ещё раз рыгать на уроке, а то две термоядерные катастрофы город не переживёт. Эх, были времена! Пять лет назад – это же так мало! А кажется, что… впрочем, нет, уже не пять, уже целых семь.
А Пашок? «Занят. Буду». Ни где, ни когда, ни во сколько… ты смотри, лаконичный, сегодня ты полжизни в двух словах, а завтра сам станешь одним лишь словом на устах даже не себя, а чужого человека. Кто же это сказал? Неважно. С тобой мы ещё поговорим. А вот Мэмыл, хрюндель, даже на приглашение не отписался. Ну и что с ним делать? Вычеркнул бы, но откуда вычёркивать? Из памяти? Не выйдет. Это не Клуб геополитиков, это моя личная голова, неподвластная ни одминам, ни самому себе. И потом, сто раз побывавшего в белой комнате не сотрёшь даже одминскими костылями.
Белая комната? Что ж, это, конечно, выход. Чувствую, гостиную мне всё равно не замутить за эти двадцать минут, пока я ещё бодрый и не замёрзший. Придётся кое-кого пощекотать. Вообще, говорят, нехорошо использовать белую комнату, если человека несколько месяцев не видел. В смысле, не очень надёжно. Но что делать? И не притворяйся, Мэмыл, что забыл, как в эту комнату входить. Помнишь, как мы обыгрывали весь город? Во всё, что только можно, от футбола до шахмат. Втроём, как один. Причём один за десятерых. Такая связка, что даже беглая речь казалась черепашьей почтой. А ведь это тяжело, и голова кипит, и жрать потом охота вне плана. Но оно того стоило. У нас раньше всех появились белые комнаты. А может, и не раньше. Просто друзьями были хорошими. Сколько уже, полгода прошло? Меньше. Значит, ещё не стёрлись образы. Не должны. Конечно, у вас там житуха поинтереснее, и люди как люди, а не раки отмороженные. Ну ничего, зато я тебя помню. Я всего тебя помню, ты понял? Твои хитрые глазки, твою харю, твоё рыгание… да ты у меня в мозгу как доппельгангер, да я тебя сейчас за уши в канал затащу!
Но белая комната пуста. Она пуста уже давно, и в этом нет ничего зазорного. Это по гостиным ходят разнообразные не те, не говоря о прихожей, а в белой комнате белизна – залог устойчивости. Но не до такой же степени! Я воображаю знакомый лик во всех деталях и ракурсах, но образ не фокусируется. Не помогают ни ярость, ни мысленный крик: «Я помню!» Нет. Я не помню. Не хватает данных. Связь не может быть установлена. Как будто время суток и одиночество влияет на самую великую систему во Вселенной.
Настроение опускается вместе с телом. Всё ближе к земле, всё толще ветки, всё безопасней и скучнее. Так, значит? Друзья, называется.
Хватаюсь поудобнее, но силы иссякают, и я вновь повисаю ленивцем, на этот раз в метре от земли. Грусть, она не тяжёлая, если её признать и принять радушно. Даже как будто распластываешься по темноте, и темнота обретает подъёмную силу. Подъёмная сила зовётся меланхолия.
Интересно, а как там Эля? Соединиться с ней через белую комнату? Можно не мечтать. У меня и раньше не получалось. И я так и не спросил, почему. Почему я вообще так мало у неё спрашивал? Ведь нам было о чём поговорить. Нормально поговорить, без издёвок и дёрганий за волосы. Интересно, она до сих пор считает меня психом, недоноском и прочими товарищами? Вряд ли. В наше время забыть человека – это форма благодарности. И вообще, какой недоносок? Я всего на семь месяцев младше.
Она не ответит. И дело не только во мне. Все, кто уезжал из домена в домен, рано или поздно сознают, что переплыть океан, даже в тазике, несложно. Сложнее переключить себя, соединить заново. Оптимизировать бассейн мяти, отгрузив подорожавшие, осточертевшие привязанности в пользу новых, низкокалорийных, ближних. Даже время тут болельщик, лоббист, но не лекарь. Сколько уже, год прошёл? Это много – для сильных. Но не для неё. Она улетела, освоилась, пообтёрлась на чужих воспоминаниях, но так и не вышла из домена. Она сама виновата. В её памяти кто-то остался. Кто-то тянул её назад. Держал на привязи. До последнего. Одмины ищут беду среди местных, а беда…
Нет, не думать об этом! Эля жива. Жива, жива, жива! И счастлива. Разумеется, не со мной.
Она не ответит. Этот ли факт так возбуждает? Я вспоминаю её и не могу остановиться. Создаю из темноты, из пены, из кости, из ребра, из тройки сакральных букв… Эля, Эля, Эля! Эля в периоде. Электричество по нервам. Глаза от египетской богини. Кожа – золотое сечение света и цвета. Застенчивая улыбка рождает целую вселенную намёков, вопросов и ответов, возникающих и исчезающих быстрее, чем до них успеваешь додуматься. Видит меня – улыбка сменяется влекущим раздражением. Глубокий вздох, грудь подымается, подчёркивая талию, и без того подчёркнутую. Какая фигура! Пятнадцать лет, а хоть обводи во всех ракурсах да посрамляй художников прошлого и приматов будущего. Она давно такая. Она созревала раньше остальных девчонок, я помню – очень изящно, плавно, без гормональных перекосов и косметической придури – в свои тринадцать она выглядела на миниатюрные семнадцать. А сейчас-то какова? Ну иди же, иди сюда. Я подтягиваю негодницу за талию. Одной рукой… нет, гибче, без локтей – одним щупальцем. Другим обвиваю вокруг шеи и вниз, за пороги ключиц, по долине чего-то там и… ух какие выросли! Нет, тут нужны ещё два щупальца. Это как минимум.
«Что я делаю? Она может почувствовать!»
Спасибо, стыд, мы тебя ждали, а ты опоздал. Ноосфера может меня выдать, но вероятность ничтожно мала. Узлы хорошо изолированы. Порой даже лучше, чем наши тела. Если нет доступа на уровне гостиной, то что говорить о белых комнатах и прочих изысках?
Но если она всё же почувствует что-то от кого-то… значит, «кто-то» доставит ей «что-то» по высшему разряду.
Да что я стесняюсь, у неё же сестра есть!
И как её зовут? Вот ведь тормоз, так и не узнал.
Какая разница? Пусть будет… Лиля. Красивое имя. Эля и Лиля. Эля помладше, Лиля постарше – лет восемнадцать, и ростом чуть выше. А в остальном копия сестры. Такие же волосы… хотя нет, покороче. И причёска более свободная. А глаза, носик, губки – всё то же совершенство. Только подвижнее. Потому что… как они сказали? У Эли голова на плечах… в отличие от её сестры. Вот оно что! Эля застенчивая, лёгкая, загадочная, но по-своему правильная. А Лиля не такая. Лиля безбашенная! Горячая, страстная, в ротик щупик не клади… хотя почему не клади? Как раз… ух, сколько щупиков-то надо!
Я уже чувствую, как вибрирует древесина от ударов моего сердца. Сердце правильно делает. Больше крови, больше обмена веществ, больше воображения. Сама ноосфера помогает. Несмотря на балансировку, по ночам у нас всегда есть небольшой излишек мяти. Люди отдыхают скромно, не хапая ресурсы под яркие сны. Чудные, не иначе. И я чудной. Трачу халяву на вымышленный мир. Два мира. Сестрички пятятся в конец воображаемой комнатки, а я хватаю обеих и придвигаю к себе своими самыми мясистыми щупальцами. В этих щупальцах больше творческой искры, чем у одноголовых художников из слепых времён. Щупальца «видят» кожу, тонус мышц, волны крови в артериях и многое другое. Эля отпирается, сыплет мольбой, но хватает меня за шею более чем интересно. Лиля смеётся мило, неповторимо, злорадно, снимая с меня… ух, что вы делаете? Прекратите. Я же сейчас рухну. Дайте хоть слезть. Лёлё мне в аё, я же сейчас с деревом согрешу. Лиля, ну ты-то постыдись, ты вообще не существуешь. Лиля! Ы-ы-ы… гырголвагыргын, что же с вами делать? Подожди, подожди, я закрыл свои комнаты? Вы-то, конечно, не почувствуете, а вот меня могут застать за непотребством.
Да нет, вроде закрыл. А белую? Сейчас. Вдыхаю холодного воздуха, насколько хватает лёгких, и голова начинает кружиться, словно по резьбе вверх, к сиянию чистого разума… так, чуть-чуть, на пол-оборота. Белая комната, белая комната… о чём это я? Ах да, белая комната. Эта свалка чистоты и одиночества… Подожди-ка. Она не пустая. В ней кто-то есть.
Я лежу на спине, дёргаю ногами и рву клоки мха. Шея болит, но не от удара, а от резких поворотов головой. Сердце взрывается дважды в секунду. Лёгкие вообще не понимают, кого дышать, куда и сколько. Только сырость обычная. Жгучая тёрка. Что-то явно случилось. Но что?
Просто упал на землю. Рухнул со смехотворной высоты, даже не поранившись. Но откуда, откуда, прядь вашу, такая боль?!
Слух осваивает тишину неуклюже, волнами, как после взрыва. Сырость не щадит даже теплокровного млекопитающего меня. Один, два, три… десять… тридцать. Кто здесь? Я здесь. Как минимум. Кабинет молчит, однако шорохи явно не мои. И не ветра. Кто-то приближается ко мне лёгкими прыжками. Темнота разрождается образом, неясным, ничем не подтверждённым, вдобавок весьма скромным по размерам. Малюсенькое тельце запрыгивает на корень у основания ствола. Гибкое, пушистое, с довольно длинным хвостом. Белочка?
Вы издеваетесь? Что вообще случилось? Я упал. А до этого? Белая комната. И в ней…
Вздрагиваю, как никогда не вздрогнул бы от холода. Память, бывший ком в горле, пронзает пищевод оставшейся сотней игл – повтор программы – после чего сминается и катится дальше, в желудок, не оставляя послевкусия. Только боль и обиду. Как же так?! Что со мной?
Тем временем белочка наглеет. Прыгает вокруг моих ног, приближается и тут же боком отскакивает. Какая-то она странная. Исхудавшая что ль? Тоже мне символ перемен. Рановато они пришли. Оттепель кончилась. Все дупла помёрзнут. Только и останется, что спуститься на землю и превратиться в суслика, толстого, одинокого и мнящего себя разумным. Эволюция, мять её.
Но я всё же не ленюсь. Я наблюдаю за зверьком, стараясь не упустить его из виду. Это нелегко, но это помогает. Рассудок встаёт с колен. А встав с колен, рассудок говорит мне следующее: твоя белая комната в порядке, просто в неё кто-то провалился с улицы. Скажешь, не бывает такого? Горячей смерти тоже не бывает. Только горячая смерть – это беда из прошлого, а белая комната – просто небрежность настоящего, самая молодая, спорная и неотлаженная часть дополненного сознания. Сам ведь порой заглядывался на красотку в окне и мечтал залезть к ней в белую комнату. Потому что знал, что такое возможно. И если это произойдёт, оба узла уже не будут прежними, не смогут забыть друг друга, прогнать, потерять или отречься…
…Разумеется, если сама белая комната не вытошнит тебя так, что одмины будут выхаживать, дозволяя вспоминать по слову в день.
Поднимаюсь на колени. Осматриваю пальцы. Они грязные, но целые. Ни кровинки. Их пять на каждой из рук, а вместе никак не меньше десяти; и это хорошо. Созерцание собственных пальцев порой не хуже ритуала здравого смысла. Особенно, когда память не исключает того, что их изрубило в клочья.
Белочка наблюдает за мной. Не нравится мне всё это.
Ладно, в белой комнате что-то есть. Скажем мягче: в белой комнате что-то было. Но есть ли оно там сейчас? Стены белеют в конце тоннеля, и ничто их не застит. Вот шаг. Вот ещё один. Разум преобразует себя знакомой тропой, отдаляясь от уютного кабинета, где дважды два тоже четыре, но требуется секунда, чтобы вдоволь это осознать. Просто остановлюсь на пороге. Затаюсь и рвану обратно при малейших симптомах «чего-то не того». Свет разгорается, обнажаются новые участки чистых, незапятнанных стен. Холсты, которым неймётся без красок. Пора притормозить. Какой стыд, бояться собственной головы, ну уж нет! Пусто здесь. Визуализация одиночества в чистом виде. Что это за тень?
– За что?! – ору в голос. Валюсь на спину и корчусь, корчусь и ещё раз корчусь. Дую на пальцы. Разминаю кожу, изумляясь, что она не сорвана как кожура с апельсина. Как же туго настоящее осязание отменяет химеру смертельной боли! Да за что, прядь твою?! Кто ты?
Белочка разворачивается и уходит. Она пришла не ко мне. И не за мной. Почему же так жалко?
«Ах ты, гад! Я же тебя найду, ты слышишь? Я тебя урою! Откуда у тебя мой образ?! Кто тебя подослал?!»
Наивные, колючие мысли. Как младенец, бьющий по рукам матери с усилием робкого массажиста. «Не хочу на процедуры! Хочу в кроватку!» Визг ещё рвётся в бой, но последние мышцы расслабляются и тонут в ноющей боли, словно плыл всю ночь. В кислоте. Проще заснуть прямо здесь, замёрзнуть, зато никогда больше не выходить за стены уютного маленького кабинета. Может быть, даже будут заморозки. Впрочем, слезы по щекам ещё вполне горячие. Глаза жмурятся, и весь я тоже сожмуриваюсь до объёма щёлки между век. Здесь тепло, в щёлке. Здесь целый мир. Здесь пустыня, пальмы и уютный слабый ветерок. Здесь суровые люди, не привыкшие сдаваться ни СРаМу, ни ГЭ, ни волосатым одминам, какие бы комнаты те ни сулили. Две обворожительные сестры замедляют танец живота и бросаются ко мне. Они падают на колени и обнимают мою голову, жмурясь от слёз, лаская, стирая кровь и осколки черепа. Они просят прощения. А я даже не могу убедить их, что они не виноваты ни в чём. Боги не виноваты в засухе. Да и люди не всегда.