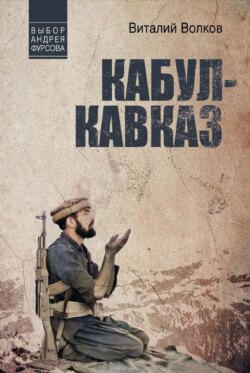Читать книгу Кабул – Кавказ - Виталий Волков - Страница 24
1979 год. Афганистан
Топор против ножа
Оглавление– Господа офицеры, равняйсь, смирно! – заорал появившийся в дверях голый по пояс Вася Кошкин. Находящиеся во дворе люди на миг замерли и обернулись. Лишь один мужчина, сухой и жилистый, как старый вяз, остался глух к этой команде и с неожиданной силой метнул топор в прислоненную к камню толстую доску. Оружие, совершив в воздухе несколько оборотов, врезалось в деревяшку верхней частью топорища и отскочило на добрый метр.
– Хорош голосить! У нас из-за тебя, чудака, топоров не останется, – обрел слух человек-дерево и пошел за орудием труда.
– Ты возьми лучше саперную лопатку. Она хоть падает тише. А то скоро на твои гимнастики весь Кабул соберется смотреть, – откликнулся Кошкин, потирая голый живот, на котором широкой полосой багровел внушительный шрам.
– Да он уже битый час эту скамейку мучает. По родине скучает, – вставил слово полноватый, округлый дядька. Он говорил негромко, но голос его звучал из глубины чрева тоже округло и уверенно, столь же уверенно, как держалось сбитое тело на коротеньких кривых ногах. Не стоило удивляться, что товарищи называли его когда Михалычем, а когда и просто Топтыгиным.
– То-то я эту тоску по родине за версту слышу. Думал, вы где-то дровами разжились, решили в пионерский лагерь поиграть, костерок развести на Кабульщине… А тут мужичок с ноготок по родине, значит, тоскует.
– Иди попробуй, красавчик, – позвал насмешника человек-дерево.
Кошкин не спеша взял из его рук томагавк чисто российского образца, подкинул на ладони и опустил на землю.
– Нет, это для Голливуда штучка. Что я тебе, Джеймс Бонд? Дядька Долматов этой ерунде не учил. Вот в селе Кукуеве метать такое железо хорошо, особливо спьяну. В какого-нибудь ревнивца-механизатора пулять, нагонять с получки жути. А я человек городской, как в доброй песне поется. Я лучше так, по простому городскому обычаю… – Кошкин извлек нож и сделал короткое движение. Нож, распоров пространство, с глухим стуком вошел в доску на добрые два пальца.
– Вот такой пристеночек у нас, городских, наблюдается.
Наблюдавшие за разговором «зенитовцы» удовлетворенно покачали головами. Лишь человек-дерево присвистнул и проворчал недовольно:
– Ну, удивил. Ножичками и дети в песочнице шпыняют.
Кошкин усмехнулся и схватил маленького ворчуна крепкой рукой за шею, желая пригнуть к теплой земле. Казалось, что багровая шея вот-вот хрустнет и переломится, но ее обладатель вдруг ловко нырнул в сторону, выскользнул, рванув кисть и предплечье нападавшего, резко развернулся и, припадая всем телом вперед и вниз, намертво взял руку соперника на залом. У Кошкина вена на лбу вздулась римской пятеркой, трицепс набух бугром, сопротивляясь нажиму, но, продержавшись несколько секунд, ножеметатель рухнул головой в пыль.
– Ты, псих, пусти, сустав вырвешь! – выдавил он.
Его притеснитель не спешил отпускать добычу. Он намертво прижал плечо соперника коленом к земле, так что Кошкин беспомощно распластался, будто безжизненный брусок, плотно прибитый к полу тремя гвоздями.
– Не теряй бдительности, Вася. Чекист должен быть начеку.
– Не учи ученого. Тоже мне, Харлампиев выискался. Руку пусти.
– Геолог Шарифулин, отпустите геолога Кошкина. – В проеме двери появился Алексеич. Он прикрывал ладонью глаза от яркого солнца и был похож на тертого маремана, озирающего бурлящий простор с капитанского мостика.
Раф Шарифулин нехотя поднялся с колена и отступил на шаг, держа Кошкина в прицеле своих щелочек-глаз. Алексеичу нравился Шариф, нравился своим сдержанным цинизмом – не интеллигентским, снобистским, ненавистным Куркову и пугавшим его пуще «империализма», а цинизмом практическим, что ли, сельским – так определил его для себя Алексеич, обязанный глубоко разбираться во вверенных ему людях. Да что там во вверенных! В своих! В тех, на кого в критической ситуации придется рассчитывать и даже полагаться. Надо было разбираться, потому как даже среди этих кремень-людей, среди этих офицеров-внештатников, забавляющихся, как игрушками, топориками да ножичками в ожидании неведомого им пока дела, – даже среди этих специально отобранных и заточенных под опасности и испытания гвоздиков истории такой чистый, освобожденный от иронии, от комплекса всемирной ответственности цинизм был редок, как изумруд, и потому ценился людоведом Курковым особо, дороже пороха. Только настоящий циник, только истинный, лишенный патриотического идиотизма реалист-авантюрист мог пройти обеспеченные родной партией и не менее родным правительством огонь и воду и не погибнуть глупо, возвращая, или, как это чудно повелось оборачивать в речи, выполняя чей-то очередной долг в очередном Вьетнаме, Йемене, Лаосе. Или теперь вот в Афганистане.
Курков не хотел гибнуть и очень не хотел, чтобы гибли, возвращая эти долги, его люди. Он часто ловил себя на мысли о том, что если на одну чашу весов положить жизни этих посланных за смертью мужиков, а на другую собрать все остальное воинство, всех этих приземистых, стелющихся за тобой взглядами гэрэушников, кичливых голубеньких десантников, угрюмых и медлительных землекопов-пехотинцев, приобретающих все большее сходство со стройбатовцами, ушастых танкистов, хрипатых пушкарей, то весы без колебаний вознесли бы всю эту Красную армию в небо. Видимо, это и есть честь мундира. Честь мундира геолога.
– Раф, ну-ка попробуй меня так же крутануть. – Алексеич приблизился к человеку-дереву и так же, как неудачник Кошкин, прихватил того за шею. Так, да не так, не всей горстью ладони, а хитрей, средним пальцем, словно когтем, глубоко зацепившись за мышцу, прикрывающую сонную артерию. Шарифулин постарался повторить проворот, но коготь лишь глубже проник в мягкое пространство меж мышцей и кадыком, буравя скважину в челюсть. В горле защекотало, острая боль заставила прервать движение. Курков отпустил Шарифа и хлопнул его по плечу.
– Вот так, Василий! Не лапой надо хватать, как медведь. Надо цепко, как кошка. У тебя на то и фамилия соответствующая. Фамилии – они ведь не случайно нам приданы.
Хотя Куркову нравилось, когда офицеры обращались к нему «Алексеич», сам он не любил называть людей по прозвищам. Мать часто говорила ему: «Что там у тебя за Петьки да Жорки? Вы, чай, не попугаи. А у людей, Алексей, имена есть, по святцам дадены!»
Единственным в отряде, кого он порой исключал из этого правила, был Лев Михалыч Медведев – к нему, вопреки всем святцам, Топтыгин подходил куда больше, чем просто Лев. Медведева Курков знал давно, он был с ним в приятной, запомнившейся командировке в Чехословакию в шестьдесят восьмом, но все же и Топтыгиным называл его весьма редко, изрядно выпив и с глазу на глаз. А вот Михалычем – доводилось. Медведев был хорошим примером соответствия фамилии человеческой сути, его тотемный зверь жил в его походке, жестах, в крадущихся за собеседником словах. «Борец борца видит издалека».
– Алексей Алексеич, вам по вашей фамилии вообще лапать не полагается. Только стрелять. Как тетка в поле видимости попадает, так немедленно спускать курок. Длинной очередью. – Кошкин отряхнулся от пыли и снова приобрел вид человека, довольного жизнью и готового к бою. Худое дело – копить по-деревенски злобу. Хуже, чем по-городскому забывать в суете зло.
Он поднял с земли топор и, прицелившись, непривычно, не сверху, а сбоку, плоско, будто подав волейбольный мяч, несильно зашвырнул его в скамью. Оружие не спеша, по-деловому облетело двор и беззлобно ткнулось в дерево «головой». Но, вопреки кажущейся беспомощности слепого полета, лезвие топорища углом вошло в доску чуть ниже ножа, который испуганно вздрогнул от неожиданного соседства.
– Надо ж получилось как. Чего с косых глаз не сотворишь! Вот бы Долматов порадовался! – Снайпер отряхнул руки и пошел в дом, по пути все же не удержав снисходительного взгляда в сторону Шарифулина. Но тот свел веки в щелки и упрямо отправился за топором.
– Слушай, Андрей, знаешь, кого мне напоминают наши «геологи»? – сказал Медведев Куркову.
– Кого? Физиков-лириков?
– Почти. Помнишь «Джентльменов удачи»? Да ну тебя, ты вообще, что ли, за искусством не следишь? Да, где шлем украли. Хмырь с Крамаровым на даче там у археолога сидели, английский учили, «йес, йес, обэхээс»! Вспомнил? Тоже на вилле, как мы, хоронились. И свой косой имеется… – Михалыч кивнул на Шарифа.
Курков сделал вид, что не расслышал, и отвернулся от собеседника. Топтыгин особым тактом не отличался – не за такт его тут держали. Но «косых» в их отряде не было. Не было, и все. Косые все там остались. Во всей стране могли быть кривые, косые, чукчи, чурки, чучмеки, но здесь, в их маленьком мире, таковых не было. Ни по злобе, ни со скуки, ни всерьез, ни в шутку. Не было, даже если «геологи», томясь на вилле в ожидании ясного дела, и впрямь недвусмысленно напоминали джентльменов удачи.
За сутки, безвылазно проведенные на вилле, у Куркова нашлось достаточно времени для размышлений о самых разных предметах. Но почему-то эти самые «разные предметы» ему в голову и не шли. Пока Боря Суворов бредил афганками и то и дело требовал от Михалыча повторения политинформации о свободных женщинах Востока, с которых сняли чадру – слава великому Тараки, пока Вася Кошкин подсчитывал, сколько анекдотов он помнит про Брежнева, а Григорий Иванович Барсов то и дело просматривал взятый им разговорник «Русский – дари», Алексеичу думалось о музыке. Мысли были бессвязными и жалкими.
«Одному дано петь, другому – горшки тереть. Ирке дано, а мне нет. Вася Кошкин соловьем заливается, точно как геолог, а мне словно Михалыч на ухо наступил. Справедливо это? Справедливо. Люди не могут быть одинаковыми. Даже северный морской штиль только кажется всегда одинаковым». Вспомнилось, как в далеком детстве мать по осени отвела его в Дом пионеров. Петь. Даже не в Дом, а во Дворец. И он пел два месяца, в охотку пел со своим дружком Антохой по прозвищу Аполлон. Только длинный, как жердь, Аполлон возвышался над последним рядом, а Алеша голосил в самой первой хоровой шеренге. К новогодней елке выгнали их обоих, с сухим треском. Антохе-Аполлону сказали, что поет он не плохо, но больно уж тихо, Куркову же посоветовали – не со зла, а так, по-товарищески: лучше бы ты, парень, брал пример с Антоши, пел бы так же тихо. А если как рыба – совсем бы хорошо. И зачем только столь энергичным людям Бог такую глотку дает? Им бы полками командовать, а не в филармониях петь! Обидели тогда Куркова. В душу плюнули.
Вот, оказывается, зачем: кабы не эта глотка, хрен бы в Йемене ребята откопали его из завала, когда свои же доблестные авиаторы щедро угостили его блиндаж бомбой. Да, Бог дал голос, но забыл про слух. В спешке, видать, раздавал.
А еще выглядывало из-за спины острым, что битое стекло, краешком другое воспоминание из его быстрой молодости. Уж о чем он вовсе не думал после своего музыкального фиаско – так это оказаться в филармонии. Какая там музыка! Науки дробил, честно на память брал, как вес на грудь. А уж борцовский ковер спортклуба «Трудовые резервы» роднее кровати стал. Потом барышни пошли. Барышень было вокруг много, страха перед ними курсант не испытывал, но все они, те, кто в его вкусе были, теперь позабылись, а вот одна, совсем не его поля ягодка, проросла в памяти, как спелая одинокая земляничина в ровной зелени травы. Острые коленки, губы, будто приколотые друг к другу с одного уголка, забранные набок волосы, даже припухлый шрамчик от ожога на руке помнил – махонькая была, совсем не по нему, а вот надо же, даже в филармонию за ней таскался.
– Ты темный. Как не в столице живешь. Сейчас для города памяти и знания мало уже, вкус требуется. Вкус надо тебе развивать. – Она не жалела ухажера, и тот обижался, поскольку книжки глотал, словно кот рыбешку, с хвостом, но терпел притеснения, чуя правоту в словах добровольной наставницы.
И потел в театрах, щупал ладонями холодные камни домов – ампир, бидермейер, модерн, – насыщал свою бездонную, казалось, чашу любопытства золотым вином Эрмитажа, Павловска, Царского Села. Так насыщал, что даже целоваться в Летнем саду стало как-то неинтересно, не в радость, что ли. Но больше всего молодого Куркова поразила музыка. Музыка Баха.
Рождественская оратория, исполненная Ленинградской капеллой, сперва прижала его к земле, а потом вытянула ввысь, как чародей-стеклодув, выдувая из его горячей расплавленной массы хрупкий и звонкий сосуд, способный к созвучию. Сосуд, в котором душа, как арабский джинн в кувшине, казалось, могла существовать вечно. Так казалось тогда… И Алексей испугался. Испугался выскочить из себя, из своей крепкой глиняной посудины и остаться таким вот хрупким, беззащитным, не поспевшим за Бахом и зависшим меж небом и землей птенчиком. Он больше не ходил слушать капеллу, и как-то само собой вышло, что все меньше и меньше влекло его к девушке Рите с худенькими ножками и влажными, как у лошади, еврейскими глазами.
Многое уходило и ушло из его жизни, а та музыка осталась. Она спряталась в подполе, и, как только засыпала рысь-жизнь, зорко подстерегающая его минутные слабости, музыка тут же выбиралась на волю и разливалась по сосудам, наполняя его «небытие» ощущением хоть и мгновенной, хоть и касательной, но все же причастности к другому, более общему и менее случайному бытию.
Из окна второго этажа виллы не были видны песочные башенки дворца Дар-уль-Аман, но они, подпирающие прозрачное, почти бесцветное от раскаленного солнечного света небо, словно угадывались в зудящем воздухе. Башенки, дрожащее бризом восточное небо над головой, чужие резкие крики, доносящиеся из окна, – в этом постороннем мире звучащее высотой небо Баха, проснувшееся внутри, и было сегодня Куркову родиной.
– Алексеич, вы о чем думу думаете? Все равно всего не просчитаете, тут уж как откликнется, так нам и аукнется. Слышали, что Михалыч говорил? Они социализм за пятилетку построить хотят. А мы уже шестой десяток потеем. Так что вы лишнего не думайте, умников без нас хватает, – отвлек Куркова Суворов, но Алексей Алексеевич только покачал головой, а в разговор вступать не стал.
«Вот-вот, – продолжал он про себя вытягивать начатую им мысль, – социализм, коммунизм… Все равны. А зачем? Зачем афганцам коммунизм? Им не коммунизм нужен, и даже не земля им нужна. Им бы пока меж собой, меж племенами договориться. Им Бах больше коммунизма сейчас требуется. И он им – что собаке пятая нога! Потому что, слава богу, все разные, у каждого своя родина. Или родины». Куркова удивляло, что человек живет несколько разных жизней, которые матрешками уложены друг в дружку. (Вот словечко странное – «дружка» – с намеком.) У каждой из них есть своя родина, или, по крайней мере, своя мать, которая легко сойдет за родину. И никакого социализма.