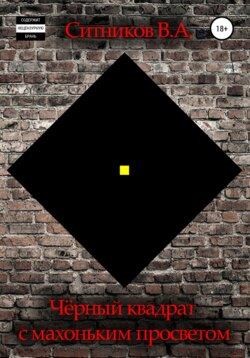Читать книгу Чёрный квадрат с махоньким просветом - Владимир Арсентьевич Ситников - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Малевич – маляревич
ОглавлениеВ СИЗО Антон пережил самые тяжкие дни и ночи, полные угрызений совести, стыда и душевных мук: «Такой позор!» Закусив зубами сгиб правого указательного пальца, он лежал на шканке и думал о том, что теперь ничего ему не остаётся, кроме как повеситься или, бросившись с высокого этажа, разбиться подобно чашке, упавшей на мостовую. Тогда все муки кончатся. На Мишкины утешения, что ничего страшного не произошло и они в свои девятнадцать ещё не раз сумеют всё исправить, только вздыхал и отворачивался к стене. На стене в наплывах серой краски угадывались какие-то противные безобразные рожи. Ничего утешительного не виделось и тут.
Мать писала успокоительные письма, Николай Осипович бодрил: «Главное – не падать духом», а от Светки не было ни строчки, хотя он писал ей наполненные любовью и тоской послания. На бумажный лист, адресованный Николаю Осиповичу, попали слова, которые обеспокоили и мать, и учителя. «Здесь говорят: небо в клеточку, а для меня оно превратилось в сплошной чёрный квадрат без просвета», – отчаивался он.
«Не убивайся, Антошенька, – писала мать, – будет тягостно поначалу, а потом появится махонький просвет в черноте, а после этого и срок кончится».
Николай Осипович считал, что Антону нельзя забывать о своём призвании художника. «Не считай себя изломанным навек. Тебе ещё двадцати нет. Впереди много времени, чтобы всё устроить ладом. Будь хозяином своей судьбы, а не подневольным. При любой возможности рисуй, чтоб не утратить навык».
А теперь у Антона ныло колено. Ударился о стойку кровати. Потёр. Наверное, синяк будет. Вот это беспокоит, а о рисовании думать не хотелось.
Послал Николай Осипович карандаши и пачку твёрдой ватмановской бумаги. Не для писем ведь. Антон о рисовании в письмах не сообщал. Рисовать не хотелось. А Николай Осипович продолжал твердить одно и то же: рисуй, рисуй, рисуй!» Даже раздражать это стало. Наверное, думает учитель, что тут у него, как на пленэре можно расположиться с этюдником.
А тут теснота, спёртый воздух, расшатанные нары-шканки и напрасно бездарно потраченное время. Всё это выхолащивает душу, лишает желания сделать что-то полезное, не говоря уже о значительном и нужном.
Мишка Хаджи-Мурат нашёл себе утешение. Перекидывался в карты с лишившимся всех зубов Лёнькой Афониным, из младенческого рта у которого вылетали матерки, словно он не знал обычных обиходных слов. Хаджи-Мурат, морща лоб над картами, озадачивал Лёньку:
– А вот скажи мне, почему камбала плоская?
– А хрен её знает, – махал рукой Лёнька, пуча глаза в карты.
– Так в море такая толща воды, – предполагал очень прилично одетый бородатый олигарх Дубовцев, ждавший суда за какие-то спиртоводочные дела.
– И это неверно, – радостно кричал Хаджи-Мурат. – Камбала плоская, потому что переночевала с китом.
Камера усмехалась. Хаджи-Мурат ржал довольный.
– Большинство врачей считают алкоголизм болезнью, но ни один не выписал больничный лист. Безобразие!– подбрасывал Мишка Хаджи-Мурат новую хохму.
Вовочка из детского сада приносит чужую игрушечную машинку. Отец спрашивает:
– Откуда у тебя машинка?
– Это мы с Петей поменялись.
– А ты что ему дал?
Вовочка:
– В глаз.
Озадачил всю камеру Мишка Хаджи-Мурат, когда ответил на Лёнькину подначку.
– Ух, какой ты говорок, из норы таскал творог, – подъел Лёнька, проиграв в очко. – Откуль взялся?
– Из КГБ я. Я чекист, – ответил Мишка и оглядел всех с гордостью во взгляде. Лёнька даже поперхнулся. Такое признание!
– Ну, блин. Я так и думал.
– А чего удивительного, чекист я и есть – чеки отбиваю в КГБ – Крутогорской городской бане.
Все, конечно, заржали, поняв, что у Мишки хорошо подвешенный язык и ловко он КГБ в баню переделал. Мишка ещё выдал совет:
– Если хочешь быть здоровым, ешь один и в темноте, – сопроводив совет вновь изобретённым ругательством, – едрит твою в инновацию.
Олигарх Дубовцев от Мишкиной болтовни морщился, а один раз даже припечатал такую оценку:
– Словесный понос от незрелых мыслей.
Мишка обиделся, но ненадолго, потому что Дубовцев на Мишкину оптимистическую фразу: «Во всяком разе с земного шара не сбросили» покрутил головой и произнёс:
– Похоже, что хотят сбросить.
Наверное, отвечал сам себе на свои раздумья.
Что происходило с этим человеком и за какие прегрешения попал он сюда, Антон так и не узнал. Дубовцеву чаще других приносили передачи. Наверное, сизовский режим шёл на поблажку. Сегодня великий Дубовцев сидит, а завтра выйдет и припомнит свои лихие дни. Небрежно осмотрев свёртки, Дубовцев выбирал что-то себе, остальное шло на общекамерное поедание. Первыми устремлялись к дармовщине, конечно, шакалы вроде Лёньки Афонина и Хаджи-Мурата. Антон не подходил. Стыдно было да и вовсе не об этом думалось.
– Оставьте Малевичу, – как-то бросил Дубовцев, и Мишка стал приносить Антону то яблоко, то пару печенюшек. Не мог же он ослушаться самого Дубовцева, о котором с почтением говорят даже прожжённые ворюги, имеющие по три и даже четыре ходки. «Откуда Дубовцев узнал, что я из худучилища?» – недоумевал он.
Олигарх, видимо, проникся к нему доверием, потому что однажды сказал:
– Не вижу разницы между больничной и газетной «уткой».
Видимо, обидела его какая-то газета, написав не то и не так, как думал о себе олигарх.
Когда олигарха вызывали к следователю, Мишка объявлял:
– И богатые тоже плачут. Давайте, парни, в «муху» сыграем.
Эта «муха» слегка скрашивали жизнь. Заключалась игра в том, что водящий вставал, приняв прочную позу, просовывал подмышку ладонь. По ладони били участники игры. Угадаешь, кто бил, водить будет тот, кого угадали. Старались бить присадисто, чтоб горела ладонь. А Лёнька Афонин норовил ударить не только по ладони, но и по боку, чтоб человека шатнуло. Из-за этого его безошибочно угадывали.
– Сила есть ума не надо, – говорил дальнобойщик Зверев, – Лёнька, конечно, бил.
– Не я, – отпирался тот.
– Как это не ты? – басил могутный дальнобойщик Демид Зверев, который любил, чтоб всё было по справедливости. Беззубый вставал с вытянутой ладонью. Теперь Зверев ему врежет так, что не устоишь а ногах. Антон тоже присоединялся к играющим. Хоть размяться немного.
А ещё можно было сыграть в чехарду. Но тут трое на трое. Сначала их тройка встаёт, пригнувшись друг к другу, а другая с разбегу прыгает на них. «Осёдланные» везут до противоположной стены. Хорошо, если в команду попадёт Демид Зверев. Он и один может троих увезти.
Такая разминка оживляла всех, и Антон ненадолго отвлекался от горестных дум.
Возвращался от следователя мрачный олигарх. Видать, с пристрастием допрашивали его, потому что он мрачный ходил по камере, наводя уныние.
А Лёнька спешил выдать страшилку о том, как «следак»-следователь при первой ходке ещё держал его в противогазе.
– Я чуть не задохнулся. Во как было! – кричал он.
– Они умеют, – подтверждал Демид Зверев.
В письмах домой и Вике Мишка на целой тетрадной странице перечислял, что ему надо в следующей передаче. Лерка послушно всё исполняла.
– Шмара у меня, что надо, – хвалился Мишка. Он уже усвоил тюремный быт и, видать, тот не сильно его тяготил.
Антон ждал писем от матери, от Николая Осиповича, и, конечно, от Светки. Она должна написать ответ на его горестные послания.
Николай Осипович в своих нечастых письмах по-прежнему напоминал Антону, что тот – будущий художник. «Художнику, как пианисту, нельзя без тренировок. Этим-то в камере можно, наверное, заниматься». Если в первой передаче была пачка твёрдой ватмановской бумаги и карандаши, то во второй картонки и фломастеры. Но и это воспринял Антон, как насмешку и бесполезное желание отвлечь его от горестных раздумий.
Николай Осипович ещё деловые приписки делал в письме: «Не стесняйся работать на людях. Ведь только тогда ты сможешь брать сюжеты из жизни. Многие из них могут стать материалом для будущих картин. Помнишь, как Репин искал типажи для «Запорожцев, пишущих письмо турецкому султану», а как Суриков искал прототипа для портрета юродивого к картине «Боярыня Морозова», и для «Утра стрелецкой казни»?
Всё Антон помнил, но рисовать боялся.
Лёвку Утробина из пригородной деревни Садаки, попавшегося на ограблении садовых участков, тоже мучило раскаяние и он хотел попросить прощения у матери, но слов таких не мог найти и уговаривал Антона написать для него ласковое и покаянное послание.
– Так ведь все поймут, что это не ты писал, – пытался вразумить его Антон.
– Но ведь я так думаю, – оправдывался Лёвка. – А ты напиши. Я за тебя камеру помою, когда ты будешь дежурить.
Садился Антон за покаянное письмо Лёвкиной матери.
Колебался Антон, как начать рисовать. Все станут над ним изгаляться. Но пишут же здесь письма домой. Вот и он решил, что сядет будто за письма, а сам сделает набросок. Конечно, для начала нарисовал Лёвку, потом Мишку Хаджи-Мурата. Мишкин портрет давался легко: острый жёсткий взгляд, зубы наголо.
Как в «Колыбельной» у Лермонтова: «Злой чечен ползёт на берег, баюшки-баю». Мишке портрет понравился. Он ещё три заказал: матери, деду и Лерке.
А потом набросал Антон портрет олигарха и передал ему. Может, понравится тому.
– Ты смотри, Малевич, – усмехнулся олигарх. – Есть что-то похожее на меня.
А потом поговорили о «Чёрном квадрате». Слыхал и о нём олигарх.
– Ты Малевич, а я вот стал нерукопожатным, – посетовал он.
– Ну, на Малевича мне долго надо учиться, – сказал Антон. – Да и вряд ли выучусь. Я пока Маляревич. Маляр. Хотите ещё вас нарисую?
– Пожалуй, нет. Вид у меня пока не товарный, – отказался тот.
Написал об этом Николаю Осиповичу.
– Ну, попал ты в «Чёрный квадрат», так что из этого? И в чёрном бывают просветы. Я уверен, что всё будет хорошо. Главное – не унывай».
Больше всего огорчало Антона то, что не было писем о Светки.
Ах, как хотелось прочитать её слова, а ещё лучше на свиданке увидеть её. Лерка на свиданку к Мишке пришла, а Светка, видимо, куда-то уехала. Фотку бы ему Светкину. «Опустела без тебя земля, если можешь, прилетай ко мне», – напоминал он ей в письмах. Набросал её портретик по памяти. Тайно любовался, но никому не показывал. Начнут расспрашивать, насмешничать. А что он скажет? Ещё чего-нибудь сморозят насчёт её красоты.
Когда набрасывал карандашом очередной портрет сидельцев, сокамерники подходили.
– Смотри-ка, похож, – удивлялись они, заглядывая из-за чёрных спин на Антошкину руку.
– Меня нарисуй, – скинув чёрную робу, попросил Лёнька Афонин, обнажил покрытую татуировкой грудь. За три ходки накопилось наколок уйма. Чего там только не наплетено: и змея какая-то, и орёл, и всякие клятвенные слова. Лёньке хотелось, чтоб он был на портретике не только похожим, но и могучим, и чтоб не было видно беззубый рот.
– Неужели такой урод? Не похож, – возмутился он, увидев себя. И даже подбирался порвать бумагу, но его остановил Мишка:
– Как не похож, похож! Будто в зеркале. Ты просто себя давно не рассматривал. Тюрьма не красит, – успокаивал Афонина Хаджи-Мурат.
Кому-то хотелось выслать Антонову работу домой и те просили, чтоб лица у них были бодрыми. Обитатели в камере менялись часто. Одних уводили, чтоб отправить в колонию, на их место приводили других. А с теми, кто был «долгожителем», признакомился Антон. Об этих знал, кто на чём попался, кто-то сам открывался, похваляясь своей «доблестью» в воровстве и грабежах, а кто-то стыдился этого. Прилипло к ним с Мишкой прозвище «угонщики», хотя олигарх продолжал назвать его Малевичем.
Поскольку был Лёнька Афонин постоянным сидельцем, знали многие всю его подноготную. Первый раз сесть должен был Лёня ещё в 17 лет, поскольку провинился тогда. Позвали его с матерью к соседу на свадьбу. Пришёл, выпил и забузил Лёнька. Его выставили за дверь, чтоб не мешал веселью. Тот обиделся, застучал в окошко, чтоб пустили. Мать жениха приблизилась к тёмному ночному окошку, чтоб рассмотреть, кто стучит, а Лёнька взял да и лупанул палкой по стеклу. Осколок попал хозяйке в глаз. Надо было Лёню судить, но вину взяла на себя его мать Маруся, боявшаяся, что пропадёт сын в тюряге. Отсидела четыре года Маруся за сына, а потом уже Лёня самостоятельно стал садиться за свои провинности. В основном за воровство, потому что, пожалуй, ничего, кроме как воровать, он делать не умел да и воровал, пожалуй, не так искусно, как иные. В основном лазил по садовым домикам, забирал железо ну и, конечно, припасы, не увезённые вовремя.
Одному воровать несподручно, вот и подбил Лёня однодеревенца Лёвку Утробина, совсем ещё мальчишку. Совершенно беззубый дылда Афонин в тюрьме был своим человеком, так как садился регулярно после полугода вольной жизни. По дому не тосковал, перед женой раскаиваться считал лишним. Играя в карты, жульничал и поэтому не хватало у него двух десятков зубов. Вставлять искусственные протезы не хватало времени – снова забирали в отсидку. А на этот раз попался за то, что придумал новую «специализацию» – стал выколачивать деньги из соседок-пенсионерок.
– Зачем старухе деньги? – удивлялся он.
Был ещё мечтатель Альберт Конкин, который занимался поиском кладов, ходил по урочищам – местам бывших деревень с прибором, который определял лежащий в земле металл. Иной раз попадётся алтын, а иной раз ржавая подкова. А проштрафился Конкин тем, что нашёл клад у соседа в подполье, когда прокладывал водопровод. Россыпь монет, выкатившихся под ноги, счёл своим достоянием и даже избил хозяина подполья, который считал, что эти деньги по закону принадлежат ему, так как его дед их зарыл в подполье. Теперь суд разбирался не в том, чей клад, а зачем Конкин избил соседа.
Эта троица любила мечтать о свободе в сослагательном наклонении: «вот если бы» и припоминала легенды о том, как когда-то какой-то студент смастерил из бензопилы вертолёт, чтоб подняться над зоной, и поднялся на вертушке, но был расстрелян автоматчиком. И, конечно, восхищал их недавний побег из вологодской, кажется, колонии, когда зек заказал вертолёт. Тот появился над колонией с болтающимся тросом. Зек успел схватиться за трос, затащили его в вертолёт, но воспользоваться свободой он не сумел, так как рано принялся отмечать удачу у своей подружки, заказавшей «вертушку».
Хвалили наперебой того жулика из Карелии, что вкопал в лесу пограничный столб и водил будто бы на границу с Финляндией заезжих туристов. Конечно, не бесплатно. Обещал через границу переправить.
– Жалко, что наша область далеко от границ, а то бы, – сожалел Хаджи-Мурат.
Демид Зверев, могучий богатырь, оказавшись рядом с Антоном, долго исповедовался, признаваясь в содеянном.
– Чего надо было? Всё было: хата – богата, супруга – упруга, а меня чёрт дёрнул. Поначалу-то не хотел отставать от других, тоже бизнес завёл. Рвал свою пятую точку – перегонял авто из Германии через Польшу. Надо успеть заработать. Мчишься – голову закидывает. Без сна. Жрал только кубики «Галина Бланка». Всякие таможни, платные дороги. Все тебя норовят обобрать. Все видят, когда шофёр пьёт, а когда слёзы льёт, им до фени. Надоело. Бросил. Пошёл в дальнобойщики. Сколько областей изъездил, а по дурости погорел у себя дома.
Выяснилось, что у Демида Зверева в приусадебном саду нет веранды или беседки, как у соседей. Супруга-упруга просила соорудить такую для отдыха. А когда ему ставить беседку, если он всё время на колёсах? Однажды сообразил, что проблему решить легко, если спилить одно или пару придорожных остановочных укрытий. Ехал как-то безлюдной белой ночью домой из Костромы. Машина порожняя, вот и загрузил снятую с дороги покрытую профнастилом остановку. Разохотился и ещё одну погрузил. Думал, никто в ночь-полночь не заметит. А нашёлся какой-то глазастый шоферюга, номер записал и сообщил куда надо. Навестили полицейские Демида и под белы руки сопроводили в СИЗО. Смех и грех и стыд, конечно. На что польстился.
Запомнился ещё один сиделец – вылитый бомж, которого сторонились и презирали.
– Мужик волосат, могуч и вонюч, – ощерив рот, издевался над ним Лёнька Афонин.
– Как в этой чёртовой жизни своё место найти? – терзался бомж. – Квартиры нет, еду в мусорках ищу.
Он решил, что существует единственный выход в его положении – что-нибудь украсть и по мелкому сесть в тюрьму. Пусть ненадолго, хотя бы на зиму. В тюрьме хоть кормят. Вырвал у женщины сумку, но не побежал, а не смеша пошёл, чтоб успела женщина догнать. Она и догнала.
– Ты чо, лешак тебя дери, чужую сумку взял? – кричала она.
– Это моя, – стал доказывать бомж, не выпуская сумку. Женщина принялась дубасить его по спине.
– Отдай, моя.
– Нет, моя, – настаивал бомж.
Подошёл полицейский.
Удивил Антона олигарх, сказавший однажды:
– Жалко мне их. Бессмысленное существование. У Горького есть в легенде о Марко такие слова:
«А вы на земле проживёте,
Как черви слепые живут.
Ни сказок о вас не расскажут,
Ни песен о вас не споют».
Антону хотелось, чтобы мать выслала свою фотографию, а ещё сходила к Светке Выдриной и попросила её фотку для него. Но не удалось попасть Тосе на свиданку. После суда выдернули Антона на этап и попал он в колонию.
Раскаяние и вина по-прежнему обуревали его и он в письме матери каялся в том, как виноват перед ней:
«Мамочка, дорогая, здравствуй. Хочу попросить у тебя прощения за все страдания, которые я тебе принёс. Смогу ли я когда-нибудь искупить свою вину перед тобой? Только я виноват в том, что так всё вышло. И что суд решил не в мою пользу. А у меня нервы сдали. Не смог взять себя в руки и сказать хоть что-нибудь в своё оправдание».
Адвокат заявила на суде:
– Я считаю, что вина Антона Зимина не доказана. Как минимум необходимо доследование, а пока подследственный должен находиться на свободе.
Но судья объявила:
– На основании 166-й статьи за участие в угоне автомашины полтора года лишения свободы.