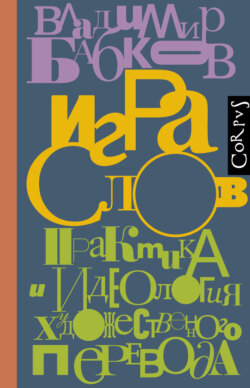Читать книгу Игра слов. Практика и идеология художественного перевода - Владимир Бабков - Страница 4
I. Подход
Проба пера
ОглавлениеИзучая иностранный язык в школе или институте, мы часто заносим в тетрадку новые слова с их русскими эквивалентами, но редко выписываем целые предложения. Оно и понятно: слова надо запоминать, а к чему запоминать отдельные фразы, если это не пословицы и не ходовые разговорные обороты? Так что слова мы переводим на бумаге (и то не всегда), а текст – в уме. Отыскав незнакомые слова в словаре и пустив в ход свое знание чужой грамматики, мы понимаем смысл очередной фразы и переходим к следующей. Да и учителю, проверяющему, хорошо ли мы выполнили задание, обычно бывает достаточно услышать от нас вольный пересказ прочитанного. Поэтому, впервые начав записывать переведенные про себя фразы, мы нередко сталкиваемся с неожиданностями.
Человек, который перевел название песни I saw her standing there как “Я видел ее, стоящую (или стоящей, чтобы избавиться от запятой) там” и записал этот перевод, испытывает легкое недоумение. Поразмыслив, он может заменить “видел” на “увидел” и подивиться тому, что англичане не отличают совершенный вид глагола от несовершенного. Как же тогда они отличают друг от друга на письме соответствующие ситуации? Но даже если отвлечься от этой досадной неопределенности, перевод выглядит, мягко говоря, странно (хотя в грамматическом отношении он безупречен). То же самое происходит и с многими другими английскими фразами: если перевести по порядку слова, из которых они сложены, а потом кое-как склеить эти слова друг с дружкой по правилам русской грамматики, выходит что-то откровенно нерусское – то, что называют подстрочником. И возиться с этим подстрочником, чтобы превратить его в нормально звучащую русскую фразу, – дело очень трудоемкое, поскольку строгих алгоритмов для проведения такой операции, годных на все случаи жизни, не существует.