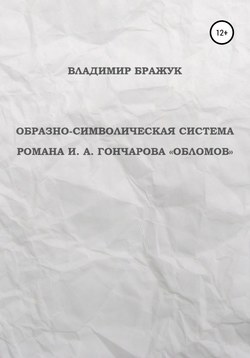Читать книгу Образно-символическая система романа И. А. Гончарова «Обломов» - Владимир Бражук - Страница 2
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ОБРАЗА ОБЛОМОВА
Проблема интерпретации образа Обломова
ОглавлениеРоман И. А. Гончарова «Обломов» остаётся в центре научного внимания уже почти 150 лет. Споры, возникшие с появлением романа, не угасают. Спорят прежде всего о своеобразии главного героя романа: положительный он или отрицательный, а если положительный и отрицательный одновременно, то в чём причина этой двойственности. Критики не могут определиться, к какому литературному типу отнести протагониста романа: то ли это тип помещика, подобный гоголевским помещикам из «Мёртвых душ» (много общих черт находят у Обломова и Манилова); то ли это тип "лишнего человека", замыкающий галерею Онегин, Печорин, Бельтов, Рудин; то ли это национальный, всероссийский тип, схожий с персонажем русских народных сказок Емелей и с героем былин Ильёй Муромцем; то ли это общечеловеческий тип, близкий Дон Кихоту, Гамлету, князю Мышкину (и здесь речь уже идёт не о схожести, не о типическом персонаже, а о символичности героя и романа в целом). Отсюда исходит и неопределённость понятия "обломовщина": то ли это местное, национальное, русское явление, то ли – мировое, общечеловеческое; то ли оно ограничено временными рамками русской жизни периода крепостного права, то ли это вневременное явление, и тогда речь идёт о национальном архетипе.
Некоторые критики, вслед за В. Г. Белинским и Н. А. Добролюбовым, выделяют такую особенность Гончарова-писателя, как отсутствие явного авторского отношения к изображаемому миру: «Г-н Гончаров рисует свои фигуры, характеры, сцены прежде всего для того, чтобы удовлетворить своей потребности и насладиться своею способностью рисовать; говорить и судить и извлекать из них нравственные следствия ему надо предоставить своим читателям» [13, с.312]; И. А. Гончаров «не даёт и, по-видимому, не хочет дать никаких выводов» [32, с.36]. Отсутствие эксплицитного авторского отношения к героям и событиям приводит к разноплановым трактовкам романа. Так, М. В. Отрадин отмечает: «Вопрос: в чём причина апатии Обломова, его скепсиса по отношению к «внешней» жизни? – ставился вновь и вновь. Ответы на него, предлагавшиеся русской критикой, располагались в различных плоскостях: социологической, философской, нравственно-психологической или даже сугубо физиологической» [105, с.11].
Статья Н. А. Добролюбова «Что такое обломовщина?» (1859) является важным этапом в критическом осмыслении романа Гончарова. На протяжении XIX и XX веков читатель воспринимал «Обломова» по Н. А. Добролюбову, который увидел в романе изображение распада крепостнической Руси, а в главном герое – «коренной народный наш тип» [32, с.41], олицетворяющий лень, бездействие и застой крепостнической системы. Н. А. Добролюбова интересует прежде всего "обломовщина", поэтому критик акцентирует внимание не на индивидуальных, а на типических чертах героя; социальное здесь важнее личностного. Обломов прежде всего "барин", и именно барство, то есть жизнь за счёт других, привело героя к безволию, к бездеятельности, к беспомощности и к апатии, что сближает Обломова с предшествующими "лишними" героями русской литературы: Онегиным, Печориным, Бельтовым, Рудиным, которые «не видят цели в жизни и не находят себе приличной деятельности» [32, с.47]. "Обломовщина", то есть барская бездеятельность и мечтательность, по мнению Н. А. Добролюбова, «кладёт неизгладимую печать бездельничества, дармоедства и совершенной ненужности на свете» [32, с.61] на Онегина, Печорина, Бельтова, Рудина, Обломова. Поэтому критик призывает к "суду беспощадному", к снятию "ореола избранничества" с "лишних людей" и к утверждению в качестве идеала "типа деятеля".
Объединяя всех "обломовых" по внешним признакам: лень, пустословие, бездельничество, апатия, – Н. А. Добролюбов не говорит о внутреннем мире героя, что и отличает Обломова от других, делает его одним из немногих, на это и обращает внимание резко разошедшийся с Н. А. Добролюбовым критик А. В. Дружинин, написавший в том же 1859 году статью «"Обломов", роман И. А. Гончарова», где, в частности, указал, что «невозможно узнать Обломова и не полюбить его глубоко…» [34, с.112]. А. В. Дружинин увидел "плохого" Обломова, "почти гадкого", лежащего на диване, бранящегося с Захаром – в первой части романа, и "хорошего" Обломова, "трогательного", "глубокого", "симпатичного", "влюблённого", плачущего "над обломками своего счастья" – во второй части. А. В. Дружинину важна не социальная суть обломовщины, а связанные воедино в романе истинная живая поэзия и народная жизнь. В обломовщине критик выделяет как негативное, так и поэтическое, комическое, грустное. Н. А. Добролюбов категорически отказывался замечать в Обломове что-либо, кроме "решительной дрянности", для Н. А. Добролюбова Илья Ильич – «противен в своей ничтожности» [34, с.58]. А. В. Дружинину Обломов дорог как "чудак" и "ребёнок", не подготовленный к взрослой практической жизни: «…Нехорошо на той земле, где нет добрых и неспособных на зло чудаков в роде Обломова!.. Такие люди иногда вредны, но очень часто симпатичны и даже разумны…» [34, с.122]. Обломов «…дорог нам как человек своего края и своего времени, как незлобный и нежный ребёнок, …он любезен нам как чудак, который в нашу эпоху себялюбия, ухищрений и неправды мирно покончил свой век не обидевши ни одного человека, не обманувши ни одного человека и не научивши ни одного человека чему-нибудь скверному» [34, с.125]. Точка зрения А. В. Дружинина на роман и главного героя не пользовалась такой популярностью в XIX веке, как трактовка романа Н. А. Добролюбовым.
Д. И. Писарев в статье «"Обломов". Роман И. А. Гончарова» (1859) подчёркивал, что роман "принадлежит всем векам и народам", но особенно значим для русского общества. Критик увидел в апатии героя нечто схожее с байронизмом, но особо выделил то, что Обломов – это человек переходной эпохи, который не может решительно шагнуть из старорусской жизни в европейскую. В новой же европейской жизни, по мысли Д. И. Писарева, не будет места мечтателю Обломову, это будет мир мысли и труда, мир Штольца и Ольги. В статьях, написанных двумя годами позже, Д. И. Писарев негативно выскажется о романе «Обломов», назвав его клеветой на русскую жизнь. Изменение мнения Д. И. Писарева связано с резкой отрицательной оценкой И. А. Гончарова и его романа А. И. Герценым, который в статье «Лишние люди и желчевики» (1860) не согласился с Н. А. Добролюбовым, отказавшись включить Обломова в галерею настоящих, истинных "лишних людей", к которым причислял себя и своих товарищей, лучших людей 30-40-х годов XIX века, не реализовавших себя из-за политической реакции. Об этом же писал и М. А. Протопопов в статье «Гончаров» (1891): «Для Онегина, Печорина, Бельтова и Рудина… в невольном бездействии и заключалось проклятие их жизни, тогда как Обломов в бездействии и полагал всё своё счастье… Нельзя ставить рядом людей, идеалы счастья которых диаметрально противоположны. Обломов, умирающий на трёх перинах от паралича, постигнувшего его от обжорства и неподвижности, и, например, Рудин, умирающий со знаменем в руке на мостовой Парижа…» [118, с.195].
Критик Н. Д. Ахшарумов в статье «"Обломов". Роман Гончарова» (1860) отметил, что между трудами Штольца и бездеятельностью Обломова нет существенной разницы, потому что Штольц работает для личного блага и приходит к той же обломовщине. Н. Д. Ахшарумов делает вывод, что такая "европейская" "штольцевская" жизнь, как она представлена в романе, не может привлечь русского человека.
Ап. Григорьеву близко было мнение М. Ф. Де-Пуле о том, что Обломов – это поэт и притом народный, если б не был поэтом, не погиб [29, с.335]. Для Ап. Григорьева важным в Обломове является связь с народной почвой и то, что Обломовка есть художественное воплощение национальных начал русской жизни, дающих силы любить, жить и мыслить [29, с.327].
Почвеннические идеи отразились и в статье Ю. Н. Говорухи-Отрока «И. А. Гончаров» (1892). Обломовка понимается критиком как страна "преданий", где нет духовного движения, но есть духовная жизнь. Благодаря народным и христианским началам в Обломове есть любовь и душевная красота, «но душа его не разбужена, она томится потребностью деятельной любви – и не знает, где найти удовлетворение этой потребности» [23, с.209]. Для «правильного понимания типа Обломова» Ю. Н. Говоруха-Отрок предлагает «исправить Гончарова…, совершенно устранить в созданном им (Гончаровым) лице черту физической болезни» [23, с.206].
На основании того, что герой живёт мечтами, поэтическими переживаниями, а не повседневной реальной жизнью, не раз и в XIX и XX столетии высказывалась мысль, что Обломов просто душевнобольной, психически нездоровый человек, что И. А. Гончаров создаёт почти клиническую картину невропатичности Обломова. [См. об этом 105; 112; 126].
Иннокентий Анненский в статье «Гончаров и его Обломов» (1892) призывает не «останавливаться на вопросе, какой тип Обломов? Отрицательный или положительный?» [4, с.226]. Критик относит данный вопрос к числу школьно-рыночных, с "приклеиванием ярлыков" на героев произведений по бросающейся в глаза черте. И. Ф. Анненский полагает, что устоявшееся в школьной практике определение "тип ленивца – Обломов" не затрагивает и не раскрывает художественный образ Обломова. Исследователю Обломов симпатичен: «Отчего его (Обломова) пассивность не производит на нас ни впечатления горечи, ни впечатления стыда? Посмотрите, что противопоставляется обломовской лени: карьера, светская суета, мелкое сутяжничество или культурно-коммерческая деятельность Штольца. Не чувствуется ли в обломовском халате и диване отрицание всех этих попыток разрешить вопрос о жизни» [4, с.227-228]. Анализируя текст, критик выделяет такие качества Обломова, как честность, человечность, доброта, порядочность. В Штольце же И. Ф. Анненский видит не "деятеля" русской жизни, а "дельца". Такая оценка деятельности Штольца к концу XIX века становится привычной: «Практичность без идеального элемента, без идейной основы, есть та же чичиковщина, сколь бы её эстетически не окрашивали» [118, с.203]. Отрицательно высказывался о Штольце А. П. Чехов: «Штольц не внушает мне никакого доверия. Автор говорит, что это великолепный малый, а я не верю. Это продувная бестия, думающая о себе очень хорошо и собою довольная» [166, с.201-202]. В дневниковой записи 1921 года М. М. Пришвин рассматривает противостояние Штольца и Обломова как нравственно-философскую проблему национального масштаба: «Никакая "положительная" деятельность в России не может выдержать критики Обломова: его покой таит в себе запрос на высшую ценность, на такую деятельность, из-за которой стоило бы лишиться покоя. Иначе и быть не может в стране, где всякая деятельность, направленная на улучшение своего существования, сопровождается чувством неправоты, и только деятельность, в которой личное совершенно сливается с делом для других, может быть противопоставлена обломовскому покою» [117, с.233-234].
На рубеже XIX и XX веков критики проявили интерес к Гончарову-художнику, к вопросам его романной поэтики. Ин. Анненский выделяет такие особенности поэтики автора «Обломова», как преобладание живописных, зрительных элементов над слуховыми, музыкальными, описания над повествованием. Отсюда исключительная образность гончаровского слова [4, с.211-212]. Д. С. Мережковский один из первых в статье «Начала нового идеализма в произведениях Тургенева, Гончарова, Достоевского, Л. Толстого» назвал И. А. Гончарова художником-символистом, обратив внимание на символичность его реализма: «Гончаров из всех наших писателей обладает вместе с Гоголем наибольшей способностью символизма. Каждое его произведение – художественная система образов, под которыми скрыта вдохновенная мысль. Характеры только часть целого, …только ряд символов, нужных поэту, чтобы возвысить читателя от созерцания частного явления к созерцанию вечного… Противоположность таких типов… как мечтательный Обломов и деятельный Штольц – разве это не чистейший и, притом, непроизвольный, глубоко реальный символизм» [89, с.542]. Здесь термин "символизм" можно трактовать по-разному. Во-первых, как нарочитое стремление скрыть в художественном образе идею, мысль автора, во-вторых, как художественное направление, в-третьих, как возможность передать в словах, формах, конструкциях особый смысл, нуждающийся в реализации, раскрытии при чтении произведения.
О склонности Гончарова к образам-символам писали также в этот период В. Е. Максимов, В. И. Чуйко, В. Г. Короленко [См. 105]. Таким образом, в И. А. Гончарове перестали видеть лишь выдающегося бытописателя. В Обломове выделяли не только черты, свойственные русским людям, но и черты типов общечеловеческих, таких, как Гамлет и Дон Кихот, тем более, что эти параллели были предложены в романе самим И. А. Гончаровым. Смысл судьбы Обломова приобретал универсальные черты, не ограничиваясь конкретно-историческими рамками.
О силе художественного обобщения И. Гончарова сказал в «Первой речи в память Достоевского» (1881) Владимир Соловьёв: «Отличительная особенность Гончарова – это сила художественного обобщения, благодаря которой он мог создать такой всероссийский тип, как Обломов, равного которому по широте мы не находим ни у одного из русских писателей». В сноске В. С. Соловьёв конкретизировал свою мысль: «В сравнении с Обломовым и Фамусовы и Молчалины, Онегины и Печорины, Маниловы и Собакевичи, не говоря уже о героях Островского, все имеют лишь специальное значение» [145, с.170].
Не все критики рассматривают Обломова как общенациональный тип, олицетворяющий русскую ментальность. Так, К. Ф. Головин противопоставил Обломову Петра I, считая, что волевой Пётр является более верным представителем своего народа, нежели ленивый Обломов [105, с.19]. Но все-таки чаще Обломов рассматривался как национальный тип, тем более, как известно, сам И. А. Гончаров считал, что его роман будет более понятен русскому человеку, так как в нём затронуты чисто русские проблемы [См. 26, с.471]. В. В. Розанов в год 25-летия со дня смерти Гончарова писал: «Нельзя о русском человеке упомянуть, не припомнив Обломова… Та "русская суть", которая называется русскою душою, русскою стихиею… получила под пером Гончарова одно из величайших осознаний себя, обрисований себя, истолкований себя, размышлений о себе… "Вот наш ум", "вот наш характер", "вот резюме русской истории"» [105, с.19].
Диаметрально противоположные трактовки Обломова и обломовщины сохранились и в веке XX. На сломе эпох, в период мировых войн и революций, на фоне апокалиптических мрачных пророчеств патриархальная Обломовка казалась апологией мира, покоя и неизменной стабильности.
В советский период российской истории точка зрения Н. А. Добролюбова доминировала. Литературный персонаж Обломов всё больше становился нарицательной фигурой, олицетворяющей лень и бездействие. Но были и работы, в которых говорилось о том, что нельзя упрощать образ Обломова. Например, Н. И. Пруцков в книге «Мастерство Гончарова-романиста» (1962) показал преемственность гоголевской школы в творчестве Гончарова и заметил, что при комическом изображении Обломова раскрывается трагическое лицо.
В годы, именуемые "застойными", точка зрения А. В. Дружинина на роман вновь стала актуальной. Илья Ильич воспринимался как "положительно прекрасный человек", выразивший своей жизненной позицией и судьбой «кредо недеяния в условиях скверной действительности» [54, с.151]. «За бездействием Обломова, – писала Е. Краснощёкова, – не только природная лень, воспитанное с детства иждивенчество, но и апатия – итог разочарования умного и честного человека в самой возможности настоящей деятельности» [54, с.38-39]. По Е. А. Краснощёковой: «В Обломове Гончаров обличает, вслед за Гоголем, не столько личность, сколько человеческий тип» [54, с.11]. Критик увидела в Обломове "внешнего человека" (первая часть романа) и "внутреннего человека", маску и лицо, "плохое" и "хорошее", за обликом "пошлого человека" скрытую "живую душу".
Сентиментальную трактовку центрального образа романа И. А. Гончарова в 70-е годы представил в фильме «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» Никита Михалков. Уже в самом названии картины, указывая инициалы героя, режиссёр акцентирует внимание на том, что у Обломова есть имя, что он личность, тем самым разрушается устоявшееся восприятие: "Обломов – обломовщина". В фильме нет сцен прихода гостей к Обломову, также опущена линия жизни героя у Агафьи Пшеницыной. Для Н. С.Михалкова важно было показать чистую, честную, добрую душу русского человека, широта которой соотносится с необъятными просторами патриархальной России, не поспевающей за миром моды, прогресса, цивилизации, но сохраняющей в традициях и культуре народа нравственные законы бытия. Сторонники точки зрения Н. А. Добролюбова обвинили Н. С. Михалкова в том, что он опоэтизировал крепостника Обломова, и заметили: в фильме преобладает немотивированное любование героем, декоративность и неправда, красивость, противостоящая красоте [См. 128].
Настоящую апологию "несовершенному", но прекрасному и живому человеку Обломову и беззащитной, обаятельной, идиллической Обломовке находим в книге Ю. М. Лошица «Гончаров» (1977). Критик определяет метод Гончарова как мифологический реализм, выделяя следующие пласты в «Обломове»: сказочно-фольклорный (русский эпос), древнекнижный (библейские сказания) и собственно литературный (параллели с «Фаустом», «Дон Кихотом» и «Гамлетом»). Обломов, по Ю. М. Лошицу, это и Емеля, и Илья Муромец, и Дон Кихот, и Гамлет. Штольц же это чёрт-искуситель, Мефистофель, представляющий активность «мёртво-деятельных» накопителей и суетность жизни, разрушающей эдем Обломовки [См. 75, с.168-193].
Критик В. А. Недзвецкий продолжает линию Е. А. Краснощёковой и Ю. М. Лошица, считая, что мнение автора «Обломова» о главном герое выражено в словах Штольца: «Это хрустальная, прозрачная душа; таких людей мало; они редки; это перлы в толпе» [98, с.30]. В. А. Недзвецкий определяет «Обломова» как роман о разных видах любви. Критик пишет, что «…любовь для Гончарова – главное начало бытия, причём не только индивидуального, но и семейно-общественного, даже природно-космического» [98, с.31], «…любовь не замыкается только счастьем любящих, но гуманизирует и иные отношения людей, вплоть до сословно-классовых» [98, с.32]. Союз Ольги и Штольца именно потому обречён, что «замкнут собой и лишён гуманизирующих общественных идеалов» [98, с.34]. Критик приходит к выводу о том, что «с развитием произведения сама надежда Гончарова создать образ гармоничного человека и такой же любви на материале современной действительности была утопией… Главная причина изображённой в романе драмы переносится с Ильи Ильича, в конце концов, предпочетшего идиллический покой вечному движению, на бездуховную и бездушную общественную реальность, которая "никуда не годится"» [98, с.34].
Исследователь В. И. Мельник в работе «Реализм И. А. Гончарова» (1985) оспорил точку зрения, высказанную Е. А. Краснощёковой, Ю. М. Лошицем и В. А. Недзвецким. Он полагает, что нельзя рассматривать И. А. Гончарова как писателя, идеализирующего Обломова, и при этом проблему «обломовщины» отводить на второй план, как не значащую в оценке героя и, следовательно, не влияющую на определение всей проблематики романа, «в противном случае, недолго прийти к неверному одностороннему выводу, к оправданию Обломова, к апологетизации духовных ценностей якобы идиллической Обломовки» [83, с.11]. В. И. Мельник определяет метод Гончарова как "синтетический", то есть в романах писателя он видит органичную взаимосвязь вечного и современного, философского и бытового, нравственного и социального: «Сила реализма Гончарова как раз и состоит в диалектическом подходе к предмету изображения, основанном на историзме в показе того, как сложно, противоречиво, иногда драматично, но всегда неразрывно, взаимопроникновенно переплетается в человеческой личности "вечное", "природное" – и социально определённое» [83, с.10]; «…романист поднимается до постановки "вечных" нравственных вопросов, исходя из современных ему общественных проблем; социальное и нравственное в этом произведении неразрывно связано, взаимообусловлено» [83, с.13]. В своей работе В. И. Мельник пытается показать "механизм" этого взаимодействия в художественной ткани романа «Обломов», останавливаясь на философских мотивах и генезисе художественных образов в творчестве Гончарова (от типа "лишнего человека" до Гамлета и Дон Кихота).
В разгар "перестройки" была опубликована статья В. Кантора «Долгий навык к сну» (1989), где автор критиковал Ю. М. Лошица и Н. С. Михалкова за апологию Обломова, обличая "воспитание и образ жизни", погубившие "благородного человека" Обломова. Идиллия Обломовки, по В. Кантору, паразитарна, это культ мёртвых. Из-за привычки к сну и отказа от душевного труда человек обречён, «Обломов» – это роман-предостережение для России. В Штольце В. Кантор видит "нового человека", призванного гарантировать отрадную будущность России [См. 44].
В. Н. Криволапов в статье «Ещё раз об "обломовщине"» (1994) продолжил идеи В. И. Мельника, отметив, что достоинства и недостатки Ильи Ильича живут только в единстве, что И. А. Гончаров «смог разглядеть в "обломовщине" и то, что достойно поэтизации, и то, что заслуживает обличения. И не только разглядеть, но и художественно претворить, так что одно у него попросту не живёт без другого» [57, с.47]. Выделим мысль критика о том, что сама идея без её художественного преломления не имеет смысла в литературе.
В XXI веке споры не прекратились, по-прежнему одни защищают, другие критикуют Обломова. В. И. Холкин в статье «Русский человек Обломов» (2000) определяет роман И. А. Гончарова как произведение чувственно-философское; «в нём действуют не типы и характеры, а живут душа, ум и плоть; он доверху полон исповеданием любви» [161, с.27]. А. В. Романова видит в бездействии Обломова поступок, противостоящий наступающему прогрессу (в его бесчеловечной ипостаси) [132, с.70]. А. Разумихин в статье «"Обломов". Опыт современного прочтения» (2004), напротив, ставит "больному" Обломову клинический диагноз – невротик. Человек может позволить себе не действовать, а человечество нет: «Книга о том, что ждёт народ, не желающий проснуться» [126]. Разумихин сравнивает Обломова с Митрофанушкой, который не желал ни учиться, ни работать, но при этом жил за счёт других: «Как удобно ничего не знать, и не видеть, что от волнений, беготни, упрашиванья по лавочкам, бессонницы Агафья Матвеевна похудела, и у неё впали глаза. Как назвать такое: святой простотой, или махровым эгоизмом?» [126]. А. Ранчин в статье «Что такое Обломовка?» (2006) доводит критику Обломова до апогея, говоря о том, что «Обломову присущи были не только леность и барственность, но и необъяснимая, немотивированная жестокость» [127, с.30], приводит пример, как Обломов-ребёнок убил стрекозу, паука и муху. По мнению А. Ранчина, идиллия Обломовки не поэтична, а пародийна и уродлива.
Суммируя приведённые точки зрения, приходим к выводу: интерпретация романа Гончарова «Обломов», в особенности главного героя, представляется наиболее спорной. Обломов – это цельный художественный образ, однозначное толкование которого ведёт к упрощению смысла романа. Можно согласиться с мнением В. Н. Криволапова, который писал: «Когда речь заходила об образе Обломова, то усилия критиков, направленные к постижению его структуры, неизбежно уклонялись в сторону её упрощения. Постижение явления осуществлялось на путях его спрямления. Цели при этом преследовались разные (либо развенчать Обломова, либо возвеличить), инструментарий использовался тоже различный (от категорического объявления "неправдой" всего положительного в Обломове до расчленения его на двух героев, а романа – на две части), но основной метод оставался единым – спрямление и упрощение, замена многозначности однозначностью» [57, с.30].
Выстраивая повествование с помощью художественных образов, автор выражает свою точку зрения по отношению к изображаемому, тем самым раскрывается идея произведения. При всех разногласиях критиков относительно романа «Обломов» единственное, в чём они сходились, это в признании художественного мастерства И. А. Гончарова. Так, В. Г. Белинский отмечал, что И. А. Гончаров увлекается своим умением рисовать. Н. А. Добролюбов видит силу таланта писателя в «умении охватить полный образ предмета, отчеканить, изваять его», «спокойствие и полноту поэтического миросозерцания» [32, с.35]. А. В. Дружинин проводит параллель между талантом Гончарова и талантами первоклассных живописцев фламандской школы [34, с.108], где художники, используя различные выразительные средства, наполняют сочными красками формы обычных вещей, заставляя ощутить их цвет, вкус, запах. Для А. П. Милюкова автор «Обломова» – мастер, подтверждением чего служит "верность рисунка", "поразительная живость красок", "природа", "отчётливость форм", но при этом герои, идеи, понимание русской жизни у И. А. Гончарова А. П. Милюков считает неправдой [См. 91]. Как мы уже отмечали, по Ин. Анненскому, особенности поэтики И. Гончарова заключаются в преобладании живых зрительных элементов над слуховыми, музыкальными, описания над повествованиям, отсюда исключительная образность [4, с.211-212]. Н. И. Пруцков писал, что «Гончаров – мастер точного и пластического воспроизведения предметов домашнего быта, всякого рода деталей, поз, взгляда, жеста, фигур, обстановки» [119, с.93]. В. А. Недзвецкий: «В "Обломове" ярко проявилась способность Гончарова с живописной пластичностью и осязаемостью рисовать русский быт» [98, с.38]. И. Сухих говорит о том, что И. А Гончаров принадлежит к числу объективных, пластических писателей, для которых изображение (образ-персонаж, пейзаж, предмет, деталь) значит больше, чем философия, мысль или собственно идея [151, с.225].
Отметим, что единство мнений относительно живописного, мастерского создания Гончаровым художественных образов не отражается на едином мнении по поводу главного героя романа «Обломов». Идеи, мысли о сущности показанных событий и характеров в художественном произведении могут быть переданы только, или по преимуществу, в художественных образах, в их связях и взаимодействиях. Следовательно, когда критики по-разному трактуют Обломова, они зачастую выделяют в образе те черты, которые подтверждают их идейную приверженность. Так, для революционера-демократа Н. А. Добролюбова Обломов является барином-паразитом, а для славянофила Ап. Григорьева – народным поэтом. Если образы мастерски написаны, они должны полно выражать авторские идеи. В высказывании И. Сухих о том, что для И. А. Гончарова изображение значит больше, чем идея, есть определённое противоречие. Как образ может значить больше, чем идея? В художественном тексте идея, философия, мысль выражены через художественные образы. И. А. Гончарова задевало то, что в нём видели только блестящего бытописателя: «Эти похвалы имели бы для меня гораздо более цены, если бы в моей живописи, за которую меня особенно хвалили, найдены были те идеи и вообще всё то, что… укладывалось в написанные мною образы, картины и простые несложные события. Иные не находили или не хотели находить в моих образах и картинах ничего, кроме более или менее живо нарисованных портретов, пейзажей, может быть, живых копий с нравов – и только» [26, с.102]. Точным является суждение Н. И. Пруцкова об особенностях творческой манеры И. А. Гончарова: «Каждая мелочь в художественной системе романиста становится поэтически ощутимой. Она получает свой образ и гармонически входит в ткань романа, служит раскрытию идеи и характеров» [119, с.93].
Собственный метод создания художественного образа сам И. А. Гончаров подробно разъясняет в своих критических статьях. Так, в статье «Лучше поздно, чем никогда» И. А. Гончаров разделяет и противопоставляет творчество сознательное и бессознательное: «Художник мыслит образами, – сказал Белинский, – и мы видим это на каждом шагу… Но как он мыслит… Одни говорят – сознательно, другие – бессознательно. Я думаю, и так и этак: смотря по тому, что преобладает в художнике, ум или фантазия и так называемое сердце. Он работает сознательно, если ум его тонок, наблюдателен и превозмогает фантазию и сердце. Тогда идея нередко высказывается помимо образа. И если талант не силён, он заслоняет образ и является тенденциею. У таких сознательных писателей ум досказывает, чего не договаривает образ – и их создания бывают нередко сухи, неполны; они говорят уму читателя, мало говоря воображению и чувству. Они убеждают, учат, уверяют, тем самым, мало трогая. И наоборот – при избытке фантазии и при – относительно меньшем против таланта – уме образ поглощает в себе значение, идею; картина говорит сама за себя…» [26, с.104-105]. Заметим важность последней мысли писателя для трактовки его творчества.
И. А. Гончаров относит себя к "бессознательным" художникам, которые "пишут инстинктом", фантазией, более сердцем, чем умом. Споря с неореалистами, призывавшими отказаться от фантазии в искусстве и «делать снимки с природы и жизни "умом"», И. А. Гончаров замечает: «Эти снимки никогда не заменят картин, освещённых лучами фантазии, полных огня, трепета и горячего дыхания. Писать художественные произведения только умом – всё равно, что требовать от солнца, чтобы оно давало лишь свет, но не играло лучами – в воздухе, на деревьях, на водах, не давало бы тех красок, тонов и переливов света, которые сообщают красоту и блеск природе! Разве это реально? И что такое ум в искусстве? Это уменье создать образ. Следовательно, в художественном произведении один образ умён – и чем он строже, тем умнее. Одним умом в десяти томах не скажешь того, что сказано десятком лиц в каком-нибудь "Ревизоре"!». [26, с.141].
Образ приоритетен для И. А. Гончарова, это первоэлемент в поэтике писателя, более важный, чем сюжет и архитектоника произведения. Гончаров отмечает: «Рисуя, я редко знаю в ту минуту, что значит мой образ, портрет, характер: я только вижу его живым перед собою и смотрю, верно ли я рисую, вижу его в действии с другими – следовательно, вижу сцены и рисую тут этих других, иногда далеко впереди, по плану романа, не предвидя ещё вполне, как вместе свяжутся все пока разбросанные в голове части целого… У меня всегда есть один образ и вместе главный мотив: он-то и ведёт меня вперёд – и по дороге я нечаянно захватываю, что попадается под руку, то есть что близко относится к нему» [26, с.105]. Поскольку И. А. Гончаров причисляет себя к типу "бессознательных" художников, утверждая, что у него "всегда есть один образ", следовательно, именно образ у Гончарова, то, как он сам это понимал, "поглощает в себе значение, идею".
Основой художественного образа принято считать способ изображения человеческой жизни, представленный в индивидуализированной форме, но в то же время заключающий в себе обобщенное начало, за которым угадываются те закономерности жизненного процесса, которые формируют людей именно такого типа. Другими словами, при создании художественных образов-персонажей на первый план выдвигаются категории типа и характера. Если тип – это проявление общего в индивидуальном, то характер – это, прежде всего, индивидуальное: «Тип – это понятие социальное или сословное. Его формирование определяется историческими условиями, классовыми взаимоотношениями, бытовыми обстоятельствами (тип помещика у Гоголя, тип купца у Островского). Но каждый тип имеет свои многочисленные разновидности – характеры, то есть более индивидуальные оформленности психики человека, зависящие от его внутренних качеств. Гоголь и Островский делали упор на изображение типов; Тургенев и Толстой – на изображении характеров» [120, с.111].
При выделении и разграничении категорий тип и характер следует учитывать и основные положения работы М. М. Бахтина «Автор и герой в эстетической деятельности». М. Бахтин отмечает: «Герой с самого начала дан как целое <…> все воспринимается как момент характеристики героя, несет характерологическую функцию, все сводится и служит ответу на вопрос: кто он» [12, с.151]. «Если характер устанавливается по отношению к последним ценностям мировоззрения <…> выражает познавательно-этическую установку человека в мире <…>, то тип далек от границ мира и выражает установку человека по отношению к уже конкретизованным и ограниченным эпохой и средой ценностям, к благам, т. е. к смыслу, уже ставшему бытием (в поступке характера смысл еще впервые становится бытием). Характер в прошлом, тип в настоящем; окружение характера несколько символизованно, предметный мир вокруг типа инвентарен. Тип – пассивная позиция коллективной личности» [12, c.159]. «Тип не только резко сплетен с окружающим его миром (предметным окружением), но изображается как обусловленный им во всех своих моментах, тип – необходимый момент некоторого окружения (не целое, а только часть целого). <…> Тип предполагает превосходство автора над героем и полную ценностную непричастность его миру героя; отсюда автор бывает совершенно критичен. Самостоятельность героя в типе значительно понижена…» [12, с.160].
Главный персонаж романа «Обломов» следует рассматривать и исследовать как цельный художественный образ, совмещающий черты типа и характера в равной мере. Нельзя ограничиваться лишь выделением общего социального типа ("психологии барина-помещика" или "лишнего человека"), что сделал Н. А. Добролюбов и его последователи; либо определять только индивидуальные черты характера (живую душу, сердце, совесть), что предпочёл А. В. Дружинин и его последователи. При таком подходе своеобразие образа Обломова интерпретируется несколько односторонне, поскольку художественное выражение достоинств и недостатков Ильи Ильича возможно только в единстве: человеческая драма, с одной стороны, предопределена социальным положением героя, его воспитанием и поведением помещика, а с другой стороны, – нравственными, философскими поисками Обломовым ответа на вечные вопросы о смысле бытия.
Г. М. Фридлендер подчёркивает, что «Обломов в романе Гончарова… тип бытовой, но одновременно и социальный, и психологический. И вместе с тем жизненная история Обломова имеет философский смысл, она ставит перед читателем определённые большие и важные нравственные и исторические вопросы. Другими словами, быт и психология, с одной стороны, история, социология, философия – с другой, нераздельны в предмете изображения, с которым имеет дело художник реалист» [158, с.345]. Именно при целостном подходе к образу возможно раскрыть идею художественного произведения и авторскую позицию, проследить и показать единство в романе И. А. Гончарова вечного и современного, философского и бытового, трагического и комического, нравственного и социального: «…через образ, соединяющий субъективное с объективным, сущностное с реальным, вырабатывается согласие всех этих противостоящих друг другу сфер бытия, их всеобъемлющая гармония» [169, с.252].
В художественном образе проявляется не только типическое и индивидуальное, но и идеал писателя. Вымысел усиливает обобщённое значение художественного образа, неотделимое от представления писателя об идеале, подчёркивает в нём то, что помогает утверждению этого идеала или противоречит ему. Интересны два высказывания И. А. Гончарова об идеале. Так, в письме И. И. Льховскому 1857 года он отмечает: «Меня иногда пугает, что у меня нет ни одного типа, а всё идеалы: годится ли это? Между тем для выражения моей идеи мне типов не нужно, они бы вели меня в сторону от цели» [26, с.244]. В письме к С. А. Никитенко 1866 года читаем: «Скажу Вам, наконец, вот что, чего никому не говорил: с той самой минуты, когда я начал писать для печати…, у меня был один артистический идеал: это изображение честной, доброй, симпатичной натуры, в высшей степени идеалиста, всю жизнь борющегося, ищущего правды, встречающего ложь на каждом шагу, обманывающегося и, наконец, окончательно охлаждающегося и впадающего в апатию и бессилие от сознания слабости своей и чужой, то есть вообще человеческой натуры… Но тема эта слишком обширна, я бы не совладал с нею, и притом отрицательное направление до того охватило всё общество и литературу (начиная с Белинского и Гоголя), что и я поддался этому направлению; вместо серьёзной человеческой фигуры стал чертить частные типы, уловляя только уродливые и смешные стороны. Не только моего, но и никакого таланта не хватило бы на это. Один Шекспир создал Гамлета – да Сервантес – Дон Кихота – и эти два гиганта поглотили в себе почти всё, что есть комического и трагического в человеческой природе. А мы, пигмеи, не сладим с своими идеями – и оттого у нас есть только намёки» [26, с.318-319].
Казалось бы, в высказываниях И. А. Гончарова наблюдается противоречие: то он говорит, что у него типов нет, а всё идеалы; то – что всегда стремился изобразить честного, доброго, симпатичного человека, ищущего правды и разочаровавшегося; то – что вместо характера он писал частные типы. На наш взгляд, здесь нет никакого противоречия: органично совместив в художественном образе Обломова характер (индивидуальное), тип (исторически и социально детерминированное обобщение) и идеал (вневременное, универсальное обобщение, что иногда в литературоведении называют сверхтипом, вечным образом), Гончаров тем самым и высказал свои социальные, исторические, философские, психологические идеи. Вот почему Гончаров, с одной стороны, восторженно принимая статью Н. А. Добролюбова о романе «Обломов», писал, что «мне прежде всего бросался в глаза ленивый образ Обломова» [26, с.106], что «Обломов был цельным, ничем не разбавленным выражением массы, покоившейся в долгом и непробудном сне и застое» [26, с.117], а с другой стороны, в письме к П. Г. Ганзену 1878 года отмечал: «…в Обломове… с любовью выражается всё то, что есть хорошего в русском человеке» [26, с.461].
Конечно, желание художника при создании образа может полностью не реализоваться в произведении. И. А. Гончаров сам о себе говорит, что у него только "намёки": «На глубину я не претендую, поспешаю заметить: и современная критика уже замечала печатно, что я неглубок» [26, с.107]. Поэтому одни критики полагают, что типическое в образе Обломова преобладает над индивидуальным, а другие, напротив, видят в Обломове «живую душу», и не тип, а идеал, близкий к сверхтипам, к вечным образам Гамлета и Дон Кихота. Несмотря на то, что И. А. Гончарову, как любому настоящему художнику, свойственно сомневаться в силе своего таланта, отметим, что автор «Обломова» "глубок", и нельзя согласиться с критиками, идущими по пути обособления в образе Обломова какой-то одной доминирующей составляющей. Стремление ограничиться при анализе текста лишь абстрактной социальной сущностью героя ведёт к схематизму, к нивелировке и обесцвечиванию художественного образа, выхолащиванию из него индивидуального богатства и своеобразия. И, напротив, акцентирование внимания только на индивидуальных чертах героя приводит к потере в трактовке образа исторической, социальной, временной составляющих, что также является важным в художественном образе. «Цель образа – пре-обра-зить вещь, превратить её в нечто иное – сложное в простое, простое в сложное, но в любом случае достичь между двумя полюсами наивысшего смыслового напряжения, раскрыть взаимопроникновение самых различных планов бытия» [169, с.252]. В данной монографии на фактическом текстовом материале рассматривается единство и взаимообусловленность всех элементов художественного образа Обломова, тем самым демонстрируется, что акцентирование внимания только на одном из элементов образа Обломова превращает художественный образ в схему, искажает авторскую позицию, ведёт к обеднению художественного смысла и идеи произведения в целом.