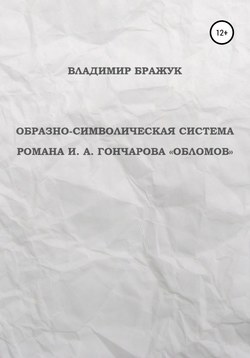Читать книгу Образно-символическая система романа И. А. Гончарова «Обломов» - Владимир Бражук - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ОБРАЗА ОБЛОМОВА
Единство "типа" и "характера" в структуре образа Обломова
ОглавлениеДля того чтобы показать единство "типа" и "характера" в структуре образа Обломова, необходимо рассмотреть художественные приёмы, которые использует автор для создания образа. Один из доминирующих приёмов в романе – это антитеза. У И. А. Гончарова антитеза многоступенчатая: в романе всё построено на со- и противопоставлениях. Особенность антитезы заключается в том, что она передаёт не тотальное разъединение и несовпадение, а парадоксальным образом выражает синтез, единство.
С первых страниц романа при описании портрета Обломова автор уходит от однозначной трактовки своего героя, используя модальные слова "будто", "казалось", "может быть", отрицательные частицы "не", "ни". Он не настаивает на каких-то определённых чертах героя, а обстоятельно, неторопливо, иронично и лирично характеризует Обломова. Описание протагониста романа строится на контрасте, на противопоставлении внешнего и внутреннего: с одной стороны, тёмно-серые глаза, отсутствие идеи в чертах лица, выражение усталости и скуки во взгляде, с другой – мысль, гуляющая вольной птицей по лицу, мягкость – господствующее и основное выражение не только лица, а всей души, которая открыто и ясно светится в глазах, в улыбке, в движениях.
Герой не живёт в большом доме по улице Гороховой, а лежит: «В Гороховой улице, в одном из больших домов… лежал утром в постели, на своей квартире, Илья Ильич Обломов» [25, с.3]. Причём лежанье является нормой: «Лежанье у Ильи Ильича не было ни необходимостью, как у больного или как у человека, который хочет спать, ни случайностью, как у того, кто устал, ни наслаждением, как у лентяя: это было его нормальным состоянием. Когда он был дома – а он был почти всегда дома, – он все лежал, и все постоянно в одной комнате» [25, с.4]. И в этом случае нет определённости: он не болен, он не устал, он не лентяй, но он лежит, это образ его существования. Лексико-семантический повтор (лежал, лежанье) подчёркивает его "нормальное состояние". Усилительно-выделительная повторяющаяся частица "всё" (он всё лежал, и всё постоянно в одной комнате) актуализирует непрерывность действия. Но если герой не болен и не лентяй, почему же он лежит? Почему для него является нормой то, что по мнению других неестественно?
Уже на первой странице романа представлены два возможных взгляда на героя, которые выражены посредством смысловой оппозиции ("поверхностно наблюдательный, холодный человек" / "человек поглубже и посимпатичнее") – приём контраста: «И поверхностно наблюдательный, холодный человек, взглянув мимоходом на Обломова, сказал бы: "Добряк должен быть, простота!" Человек поглубже и посимпатичнее, долго вглядываясь в лицо его, отошел бы в приятном раздумье, с улыбкой» [25, с.3]. Обратим внимание на определения двух людей, смотрящих на Обломова. Один, человек холодный, что свидетельствует о его бездушности, опирающийся только на факты, наблюдения, но наблюдения эти поверхностны, то есть замечает то, что явно бросается в глаза. Это прежде всего типические черты барина-помещика, лентяя, не желающего заниматься делами своего имения, обрюзгшего не по летам, который живёт в грязи и пыли и сам уподобляется вещи, как гоголевские помещики: не случайно использование существительного "складки" в описании халата и лба героя, халат мягок и гибок, как и сам герой. Употребление деепричастия совершенного вида "взглянув", выражающего значение кратковременности и законченности действия с наречием "мимоходом" подчёркивает поверхностность взгляда: мимо-ходом означает – проходя мимо, не останавливаясь, чтобы разобраться и проникнуть в суть, "холодный человек" (читатель) делает выводы. При описании другого человека используется деепричастие несовершенного вида, выражающее значение незаконченности, длительности действия, с наречием "долго", а значит, внимательно, поэтому при определении второго человека автор употребляет не сухое, близкое к научному термину слово "наблюдательный", а метафору "человек поглубже". Иными словами, второй человек смотрит долго, соответственно и проникает в сущность глубже. У "человека поглубже" есть и второе определение "посимпатичнее". Что здесь имеется в виду? Для кого он симпатичнее: для автора, для рассказчика, для читателя? И почему он симпатичнее первого? По всей вероятности, употребление этих несогласованных определений с эмоционально-экспрессивной коннотацией (поглубже, посимпатичнее) выражает авторское отношение к герою. Поскольку он способен сквозь грязь, пыль и паутину разглядеть не только лежащего на диване "человека-халата", но и мягкость лица Обломова, свет души, "грацию лени".
Человек "холодный" высказывает своё мнение о герое: «Добряк должен быть, простота!», где само слово "простота" подсказывает, что для поверхностно наблюдающего человека Обломов не сложный, не трудный, легко доступный пониманию, глупый герой. "Человек поглубже и посимпатичнее" не даёт определений протагонисту, он не высказывает своего мнения, а отходит в "приятном раздумье, с улыбкой". Лексема "раздумье" говорит о том, что герой далеко не прост и нельзя однозначно трактовать его облик, тем более что раздумье это приятное, доставляющее радость, улыбку. Высказывание первого человека и молчание второго передают особенность построения художественного образа Обломова: всё, что на поверхности, что бросается в глаза, чаще относится к типическим чертам барина-помещика, к социальной проблематике романа; все, что скрыто в подтексте (в молчании), относится к сложности внутреннего мира героя, к "метафизической" стороне романа. «Воспроизводя полный образ жизни, романист стремится повернуть Обломова не одной только комической стороной. Эта сторона уравновешивается у Гончарова изображением трагической судьбы героя, его внутренних мук» [119, с.91]. Антитеза внешнего (тип) и внутреннего (характер) в структуре образа Обломова выражает единство образа, поскольку без какой-либо из сторон оппозиции исчезает сам образ Обломова.
В основе описания интерьера кабинета Обломова также лежит художественный приём контраста. Читатель видит кабинет с разных точек зрения. На первый взгляд: прекрасно убранная комната. Опытный же глаз видит соблюдение "неизбежных приличий, лишь бы отделаться от них". Самому хозяину убранство комнаты безразлично. При внимательном осмотре в глаза бросаются запущенность и небрежность: всё в пыли и паутине, ковры в пятнах, на столе «не убранная от вчерашнего ужина тарелка с солонкой и с обглоданной косточкой… хлебные крошки» [25, с.5]. Если бы не тарелка и не сам лежащий хозяин, можно было бы подумать, что «тут никто не живёт», нет «живых следов человеческого присутствия» [25, с.6]. Подобный способ изображения героя свойствен гоголевской манере ("натуральная школа"). Проявляются гоголевские реминисценции, касающиеся изображения интерьера Манилова: развёрнутые книги, покрывшиеся желтизной и пылью на открытой странице; валяющиеся газеты с прошлогодним номером; чернильница с вылетающей из неё испуганной мухой. Казалось бы, в описании интерьера прежде всего бросаются в глаза типические черты жизни барина-помещика, живущего за счёт других, запустившего своё жильё, ничем не интересующегося, безразличного ко всему, обленившегося до крайности. Однако следует обратить внимание на тот факт, что Обломов пытался соблюсти приличия в отделке квартиры, "лишь бы отделаться", поэтому смотрит на убранство комнаты холодно, а в остальные три комнаты, где мебель закрыта чехлами и спущены шторы, вообще не заходит. В этом отличие Обломова от Манилова, который не замечает пошлости в интерьере своего дома. Далее, когда мы познакомимся с идиллической мечтой Обломова о патриархальной жизни в родной Обломовке, на просторе полей и берёзовых рощ, нам станет понятно, почему герой безразличен к убранству своей комнаты. Как и при описании портрета, в интерьерной зарисовке критические, осуждающие образ жизни героя номинации смягчаются юмором, авторской иронией. Разговорно-просторечные слова в высказывании Обломова («Кто сюда натащил и наставил все это?») соседствуют с возвышенными, патетическими словами и официально-деловыми конструкциями: «От такого холодного воззрения Обломова на свою собственность, а может быть, и еще от более холодного воззрения на тот же предмет слуги его, Захара…» [25, с.5].
Кроме того, у Гоголя – сплошной комический фон при описании помещиков, возможно, даже – «…прямая, резкая, беспощадная сатира, разгадывание и определение в облике Манилова отрицательного, концентрация внимания художника исключительно на этом отрицательном, подчинение последнему всех других черт характера героя» [112, с.87]. Тогда как Гончаров стремится к многостороннему (а не только ироническому) изображению характера Обломова: «У Гончарова, беспристрастного, строгого, вдумчивого и гуманного судьи Обломова, видна глубокая симпатия, сердечное отношение к своему печально-смешному герою, снисходительность к нему, продиктованные ясным пониманием того общественного зла, которое его погубило» [119, с.89].
Автор (да и сам герой) стремится внушить читателю мысль, что Обломов – это не только тип помещика-лежебоки, но и индивидуальный характер. От начала и до конца романа герой противопоставлен массе, толпе, народонаселению, обществу; он является другим, не таким, как все. Имплицитно это следует из первого же предложения романа: «В Гороховой улице, в одном из больших домов, народонаселение которого стало бы на целый уездный город, лежал утром в постели, на своей квартире Илья Ильич Обломов» [25, с.3]. Дом уподобляется целому "уездному городу". Далее узнаём, что Обломова выселяют из дома, потому что хозяин, устраивая свадьбу детей, хочет сделать в доме ремонт. Свадьба и ремонт, а также место проживания (Гороховая улица – одна из центральных в Петербурге) – признаки того, что в "уездном городе" кипит жизнь, и только один Обломов не желает двинуться с места. Он один не суетится, а напротив, боится окружающей его суеты, пытается отстраниться от неё, убежать в сон, где всё тихо и спокойно.
Противопоставление "герой/общество" выражается и эксплицитно. Так, гости, навещающие Обломова, "дышат жизнью и движением", "блещут здоровьем и весельем", в отличие от героя, мирно лежащего на диване; но на поверку оказывается, что их движения (жизнь) – пустое, бессмысленное времяпрепровождение. В течение двух с половиной часов Обломов, пересев с дивана в кресло, принимает гостей, и с появлением каждого посетителя раскрываются неожиданные черты натуры, характера и мировоззрения Ильи Ильича.
Перед читателем является "весь Петербург" – светский, чиновничий, "культурный" и "массовый". Гончаров карикатурно типизирует гостей, наделяя каждого говорящей фамилией. В "блещущем здоровьем" двадцатилетнем Волкове подчёркивается суета жизни (волка ноги кормят), светский блеск, весёлая жизнь, следование моде ("ослеплял свежестью лица, белья, перчаток и фрака", глянцевитая шляпа, лакированные сапоги). Волков с весельем и восторгом описывает Обломову балы и торжественные обеды в роскошных салонах светских домов аристократического и чиновничьего Петербурга: дом Тюменева, дом Муссинских, дом Савиновых, дом Вязниковых, дом Маклашиных. Количество домов говорит о типичности образа жизни Волкова в светском Петербурге: визиты, обеды, танцы, охота, веселье – при духовной нищете и отсутствии труда. «Слава богу, у меня служба такая, что не нужно бывать в должности. Только два раза в неделю посижу да пообедаю у генерала, а потом поедешь с визитами, где давно не был» [25, с.18].
Для второго визитёра, чиновника Судьбинского, с которым Обломов вместе начинал служить, главное в жизни – карьера, вместо судьбы определяющей жизнь человека. «Дьявольская служба… Ни минуты нельзя располагать собой» [25, с.20]. Продвижение по карьерной лестнице не всегда связано с профессиональным ростом и действительно значимыми делами: «С таким человеком, как Фома Фомич, приятно служить: без наград не оставит; кто и ничего не делает, и тех не забудет» [25, с.21]. Делом становится «возведение при зданиях, принадлежащих… ведомству, собачьих конур для сбережения казённого имущества от расхищения» [25, с.23]. Умение жить, строить карьеру определяется возможностью использовать казённые средства в личных целях: «Летом отдохну: Фома Фомич обещает выдумать командировку нарочно для меня… вот, тут получу прогоны на пять лошадей, суточных рубля по три в сутки, а потом награду…» [25, с.22]. Для карьеры в женитьбе главное не любовь, а чин папы невесты: «Отец действительный статский советник; десять тысяч дает, квартира казенная. Он нам целую половину отвел, двенадцать комнат; мебель казенная, отопление, освещение тоже: можно жить…» [25, с.23].
Судьбинский не одинок, его типичность раскрывается через вереницу упоминаемых в беседе с Обломовым чиновников, живущих теми же интересами: Фома Фомич (реминисценция из пьесы А. Грибоедова: «Вот сам Фома Фомич, знаком он вам?.. При трёх министрах был начальник отделенья…»), Свинкин, Пересветов, Мурашин, Кузнецов, Васильев, Махов, Олешкин. Н. А. Николина обращает внимание на "говорящие" фамилии чиновников в романе, они откровенно характеризуют деятельность этих персонажей (гоголевская традиция): фамилия Махов сближается с глаголом "подмахнуть", фамилия Затёртый мотивируется глаголом "затереть" в значении "замять дело", а фамилия Вытягушин – устойчивым сочетанием "вытягивать душу". Фамилия Мухояров сближается со словом "мухрыга" – "продувной обманщик и плут", а также напоминает о мельтешении мух 100, с.198.
Третий посетитель Обломова – литератор Пенкин, всеядный журналист, стремящийся делать шум, говорящий штампами обличительной литературы 50-х годов XIX века. Фамилия Пенкин ассоциируется не только со словом "пена" и "пениться", но и с фразеологизмами "снимать пенки" и "с пеной у рта", а также «актуализирует образ пены с присущими ему признаками поверхностности и пустого брожения» [100, с.198]. Четвёртый собеседник Обломова Алексеев – человек без лица и имени, «неопределённых лет, с неопределённой физиономией… не красив и недурён, не высок и не низок ростом, не блондин и не брюнет» [25, с.29]. Алексеев – это обобщающий портрет обезличенного общества: «Его многие называли Иваном Иванычем, другие – Иваном Васильевичем, третьи Иваном Михайловичем. Фамилию его называли также различно: одни говорили, что он Иванов, другие звали Васильевым или Андреевым, третьи думали, что он Алексеев… Весь этот Алексеев, Васильев, Андреев, или как хотите, есть какой-то неполный безличный намёк на людскую массу, глухое отзвучие, неясный её отблеск» [25, с.29-30].
Гости зовут Обломова в Екатерингоф на гуляние. Главным аргументом в пользу того, что надо ехать, является формула "там все". Лексемы "все" и "всё", самые частотные в данной главе, заключают в себе некий знак общества с его интересами и потребностями: «Все!.. Они!.. Идёмте туда!.. К ним… Все так думают… Там обо всём говорят… Все это носят… Нам нужно… Тут всё…». «Первого мая в Екатерингофе не быть! Что вы, Илья Ильич! – с изумлением говорил Волков, – Да там все! – Ну, как все! Нет не все! – лениво заметил Обломов» [25, с.16]. «Откуда вы, Обломов? Не знает Дашеньки! Весь город без ума, как она танцует!» [25, с.17]. «Да там полгорода бывает… Это такой дом, где обо всем говорят… – Вот это-то и скучно, что обо всем, – сказал Обломов» [25, с.18]. Общество обезличено. Всё, что у общества вызывает интерес, для Обломова скучно и не приемлемо.
Посетители представляют уже пройденный этап в жизни Обломова, принесший ему разочарование и осуждённый им: «С первой минуты, когда я сознал себя, я почувствовал, что я уже гасну! Начал гаснуть я над писаньем бумаг в канцелярии; гаснул потом, вычитывая в книгах истины, с которыми не знал, что делать в жизни, гаснул с приятелями, слушая толки, сплетни, передразниванье, злую и холодную болтовню, пустоту, глядя на дружбу, поддерживаемую сходками без цели, без симпатии; …гаснул в унылом и ленивом хождении по Невскому проспекту, среди енотовых шуб и бобровых воротников; …гаснул и тратил по мелочи жизнь и ум, …определяя …всю жизнь – ленивой и покойной дремотой, как другие…» [25, с.191]. "Жизнь – горение" – традиционный метафорический архетип; "жизнь – погасание" – индивидуально-авторская метафора. Там, где "блестят" и "горят жизнью" Волковы, "гаснет" Обломов. Повторяющаяся лексема "гаснуть" подчёркивает неприятие героем жизни, в которой не работают книжные истины, в которой нет истинной дружбы и любви и где люди, обезличиваясь, превращаются в "енотовые шубы и бобровые воротники".
Каждому из гостей Обломов повторяет одну и ту же фразу: «Не подходите, не подходите: вы с холода», хотя время действия – весна (первое мая), и гости говорят, что день хорош, "на небе ни облачка". Лексема "холод" символизирует внешний мир, который находится в оппозиции к миру внутреннего пространства дома Обломова. На очередное предложение Алексеева ехать в Екатерингоф Обломов "с досадой отозвался": «Дался вам этот Екатерингоф, право!.. Не сидится вам здесь? Холодно, что ли, в комнате или пахнет нехорошо, что вы так и смотрите вон» [25, с.32]. Ни один из гостей не желает выслушать Обломова, когда тот заводит разговор о "двух несчастьях", внешний мир безразличен к проблемам героя, холоден. Каждого интересует в первую очередь он сам, гости забегают к Обломову – и исчезают. Здесь ассоциативно возникает образ «поверхностно наблюдательного, холодного человека», мимоходом взглянувшего на Обломова и давшего ему характеристику (на первой странице романа).
Отметим: оппозиция внешнего и внутреннего пространства усилена описанием одежды. Тесным фракам гостей противопоставлен широкий халат Обломова: «Обломов всегда ходил дома без галстука и без жилета, потому что любил простор и приволье» [25, с.4]. Замечание Волкова о том, что шлафрок Обломова давно вышел из моды, не волнует героя. Он лишь уточняет, что это не шлафрок, а халат, «с любовью кутаясь в широкие полы халата» [25, с.16]. Авторская ремарка раскрывает приоритеты Обломова, его жизненные предпочтения: любовь к свободе и простору, уход от обязанности в подчинении общественным нормам и предписаниям.
Обломову жалко своих гостей, несчастных, неугомонных, суетящихся, бегающих, растрачивающих человеческое достоинство по пустякам. «В десять мест в один день – несчастный! – думал Обломов. – И это жизнь! – Он сильно пожал плечами. Где же тут человек? На что он раздробляется и рассыпается… – несчастный! – заключил он, перевёртываясь на спину и радуясь, что нет у него таких пустых желаний и мыслей, что он не мыкается, и лежит вот тут, сохраняя своё человеческое достоинство и свой покой» [25 с.19]. Гости считают себя счастливыми людьми, Обломов же их жизнь расценивает как пустоту, "погасание". Хотя на первый взгляд именно жизнь Обломова представляется лишённой смысла.
Автор раскрывает философию обломовского покоя, позволяющего сохранить человека в человеке только вдали от суетящегося мира. Не случайно в монологах Обломова так часто встречается слово "человек", а в речах его гостей слово "все". Неприятие героем общества оттого и происходит, что общество обезличивает человека, превращает его во "всех". «У нас это называется тоже карьерой! А как мало тут человека-то нужно: ума его, воли, чувства – зачем это? Роскошь!» [25, с.24]. Поэтому и вступает Обломов в спор с Пенкиным, который пытается в своих литературных опусах охватить "всё", забывая при этом самое главное – человека. Человек не только представитель среды, но и её жертва, следовательно, по Обломову, его надо понимать и любить уже за одно то, что он есть человек, создание божье, высшее начало: «…изобрази вора, падшую женщину, надутого глупца, да и человека тут же не забудь. Где же человечность-то? Вы одной головой хотите писать! Вы думаете, что для мысли не надо сердца? Нет, она оплодотворяется любовью… Человека, человека давайте мне!» [25, с.27].
Каждый из посетителей иллюстрирует тезис Обломова о "дробности" человека, утратившего "цельность". Но заметим, что пафос обломовского "отрицания" какой бы то ни было "суеты" снижен авторской иронией. Да и сами "несуетные" "позы лежания" Ильи Ильича в какой-то мере обессмысливают его патетические речи. Это вновь говорит о невозможности односторонне трактовать суть образа героя: он возвышен и прекрасен и в то же время смешон и жалок. Причём каждая из этих характеристик не исключает друг друга, а взаимодополняет, раскрывая единство типа и характера в образе Обломова.
Ответ на вопрос, как и почему Обломов отходит от жизни в обществе и приходит к философии покоя, находим также в пятой и шестой главах первой части, в которых рассказывается о некоторых фактах биографии героя. Он был такой, как все: «…полон разных стремлений, всё чего-то надеялся, ждал многого и от судьбы и от самого себя, …думал и о роли в обществе; наконец, в отдалённой перспективе, …воображению его мелькало и улыбалось семейное счастье» [25, с.56], но всему этому не дано было осуществиться, потому что жизнь оказалась прозаичнее, чем представлялось в молодости.
Так, сослуживцы не были одной семьёй: «Он полагал, что чиновники одного места составляли между собой дружную, тесную семью, неусыпно пекущуюся о взаимном спокойствии и удовольствиях» [25, с.56]. А начальник не был "отцом" и лишь наводил страх да ужас на подчинённых: «О начальнике он слыхал у себя дома, что это отец подчиненных, и потому составил себе самое смеющееся, самое семейное понятие об этом лице. …Илья Ильич думал, что начальник до того входит в положение своего подчиненного, что заботливо расспросит его: каково он почивал ночью, отчего у него мутные глаза и не болит ли голова? Но он жестоко разочаровался в первый же день своей службы» [25, с.57] Приходилось притворяться и не быть естественным, таким, каков ты есть. «И Илья Ильич вдруг робел, сам не зная отчего, когда начальник входил в комнату, и у него стал пропадать свой голос и являлся какой-то другой, тоненький и гадкий, как скоро заговаривал с ним начальник» [25, с.58]. Реализуются два художественных смысла слова "голос": голос – звучание, голос – индивидуальность, личность. Нет ожидаемого сочетания "пропадал голос", вставлено изменяющее его смысл определение-местоимение "свой", и поясняемое им существительное "голос" употребляется не в прямом значении, получается, пропадал не только звук, но и, что самое главное, пропадала личность; а определение-местоимение "другой" усиливает переносный смысл высказывания смысловой оппозицией, негативная оценка возрастает благодаря уточняющим определениям-эпитетам – "тоненький и гадкий".
Илья Ильич же ждал теплоты, понимания, заботливости, которые привык получать с детства, живя в идиллической Обломовке: «Воспитанный в недрах провинции, среди кротких и теплых нравов и обычаев родины, переходя в течение двадцати лет из объятий в объятия родных, друзей и знакомых, он до того был проникнут семейным началом, что и будущая служба представлялась ему в виде какого-то семейного занятия, вроде, например, ленивого записывания в тетрадку прихода и расхода, как делывал его отец» [25, с.56]. С образом семьи связаны позитивные, важнейшие в жизни чувства – теплота, "обычаи родины". Семья, взаимопонимание и родственная поддержка были необходимы Обломову. Гончаров, однако, уходит от однозначного оправдания героя и от изображения возвышенных чувств, тут же употребляя соединительный союз "и", переходит к насмешке, иронии: излишняя забота семьи о маленьком Илюшеньке привела взрослого Обломова к боязни перед жизненными невзгодами.
Рефреном в сознании Обломова повторяется фраза: «Когда же жить?» [25, с.57]. Жизнь в труде не осмысливается героем как жизнь подлинная и настоящая. Ведь труд чиновников показан в романе как суета и бессмысленная беготня, и такой труд наводит на героя "страх и скуку великую": «Еще более призадумался Обломов, когда замелькали у него в глазах пакеты с надписью нужное и весьма нужное, когда его заставляли делать разные справки, выписки, рыться в делах, писать тетради в два пальца толщиной, которые, точно на смех, называли записками; притом всё требовали скоро, все куда-то торопились, ни на чем не останавливались: не успеют спустить с рук одно дело, как уж опять с яростью хватаются за другое, как будто в нем вся сила и есть, и, кончив, забудут его и кидаются на третье – и конца этому никогда нет!» [25, с.57]. Видно, что герой не по своей воле трудится, а его "заставляли", "требовали", "торопили". Всё в постоянном движении – "замелькали пакеты", нет времени вникнуть в суть дела, причём сами чиновники скорее напоминают мир зверей, где выживает сильнейший: "с яростью хватаются", "кидаются". Такому труду естественно противостоит обломовская идея мирного покоя. «Исстрадался Илья Ильич от страха и тоски на службе…» [25, с.58], оттого и «жизнь в его глазах разделялась на две половины: одна состояла из труда и скуки – это у него были синонимы; другая – из покоя и мирного веселья» [25, с.56]. Обломов уходит со службы, потому что отправил "какую-то нужную бумагу вместо Астрахани в Архангельск". Причём автор даёт важное для понимания характера героя пояснение: Обломов уходит не столько из-за страха, сколько из-за того, что «собственная совесть была гораздо строже выговора» [25, с.59]. Если в авторских описаниях чиновничьей жизни, где представлена и несобственно-прямая речь Обломова, осуждение суетной жизни, мы видим героя разным, и лентяем и философом, то в авторском повествовании о совести героя перед читателем однозначно предстаёт важная черта не типа, а характера, черта, о которой автор говорит уже без юмора и иронии.
Так и уходит постепенно Обломов от общественной деятельности в себя, в "халат", "в своё одиночество и уединение". «Он не привык к движению, к жизни, к многолюдству и суете. В тесной толпе ему было душно» [25, с.61], не устраивало его быть как все, трудно «…было платить взаимностью, принимать участие в том, что их интересовало; …всякий понимал жизнь по-своему, как не хотел понимать её Обломов, а они путали в неё и его: всё это не нравилось ему, отталкивало его, было ему не по душе» [25, с.61]. Нет поэзии и покоя в действительности, одна лишь суматоха.
При такой позиции Обломова закономерно поражение Штольца, который пытается вернуть Обломова к жизни, предлагая средством лечения то, от чего тот бежит, то есть общество. Штольц буквально силой вытягивает Обломова из замкнутого пространства комнаты, повторяя: «Скорей, скорей!». Приходится отказаться от любимого просторного халата и надеть тесный фрак. «Да куда это? Да зачем? – с тоской говорил Обломов. – Чего я там не видел? Отстал я, не хочется… Не нравится мне эта ваша петербургская жизнь!.. Всё, вечная беготня взапуски, вечная игра дрянных страстишек, особенно жадности, перебивания друг у друга дороги, сплетни, пересуды, щелчки друг другу… Скука, скука, скука!.. Где же тут человек? Где его целость? Куда он скрылся, как разменялся на всякую мелочь?» [25, с.179]. Петербургская жизнь (беготня, игры, сплетни) не приемлема для Обломова. Герой говорит, что это "ваша" жизнь, то есть "не моя". «Свет, общество! …Все это мертвецы, спящие люди, хуже меня, эти члены света и общества!» – «Ни у кого ясного, покойного взгляда, …все заражаются друг от друга какой-нибудь мучительной заботой, тоской, болезненно чего-то ищут. И добро бы истины, блага себе и другим – нет они бледнеют от успеха товарища». – «Что ж это за жизнь? Я не хочу её. Чему я там научусь, что извлеку?» [25, с.180-181]. За криками скучающих петербуржцев Обломов видит "непробудный сон", "болезнь" всего общества, сон ещё более отвратительный, чем его собственный: Обломов хотя бы не делает зла другим. В питерской жизни для Обломова нет природной нормы, нет идеала: «Я их не трогаю, ничего не ищу; я только не вижу