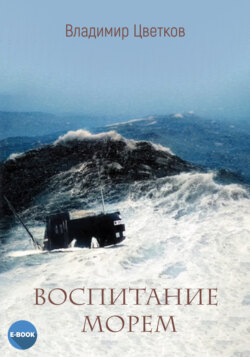Читать книгу Воспитание морем - Владимир Цветков - Страница 15
Курсантские годы
Учеба в училище
ОглавлениеСреди начальников кафедр и преподавателей также было много офицеров-подводников, прошедших войну: В. К. Коновалов, П. Д. Грищенко, М. С. Солдатов, С. П. Лисин, М. С. Калинин, Я. К. Иосселиани, В. Г. Стариков, А. М. Матиясевич, В. А. Полищук и другие подводники.
Заместителем начальника училища был любимец курсантов М. С. Солдатов. В годы войны дивизионный штурман Солдатов часто выходил в море на подводных лодках. Во время одного из таких походов в сентябре 1943 года подлодка Щ-407 подорвалась на мине. В этой обстановке, действуя решительно и грамотно, М. С. Солдатов помог командиру привести в базу лодку, лишенную перископа и ряда штурманских приборов, за что был награжден орденом Красной Звезды.
Легендой училища был капитан 1-го ранга в отставке Абрам Борисович Гейро. В 1934 году им была изобретена авиационная беспарашютная морская мина АМГ (авиационная мина Гейро), которая во время войны с успехом применялась авиацией флотов на всех морских театрах.
В годы Великой Отечественной войны Абрам Борисович занимался обезвреживанием немецких мин, руководил работами по приготовлению мин силами Черноморского, Северного и Белого морей. Под руководством капитана 2-го ранга Гейро были созданы электромагнитный и акустический тралы[10]. В начале войны ему пришлось разоружать немецкую морскую мину, сброшенную на парашюте, но попавшую на берег. Гейро не только разоружил мину, но и разгадал ее устройство.
Влюбленный в свою специальность, он делал все, чтобы курсанты минно-торпедного факультета знали в совершенстве минное оружие. Даже когда начальник училища запрещал знаменитому минеру приходить в училище, опасаясь за его здоровье, Абрам Борисович умудрялся проникать в училище вместе с самовольщиками. Во время занятий по минному оружию иногда казалось, что преподаватель спит, но стоило курсанту ответить неправильно, как Гейро своим специфическим голосом поправлял его и просил повторить ответ или прийти на зачет еще раз.
Капитан 1-го ранга А. Б. Гейро проверяет дипломную работу курсанта 5-го курса
Учиться в таком прославленном училище было очень приятно и почетно. К сожалению, в годы разгула демократии ВВМУПП подчинили училищу имени Фрунзе, а затем принялись его уничтожать. Хотя все настоящие моряки прекрасно знают, что подготовка подводников в корне отличается от подготовки офицеров для надводного флота. Лишили училище и звания Ленинского комсомола. Видимо, кому-то очень хочется вычеркнуть из памяти подвиги комсомольцев.
Молодые патриоты добровольно шли на фронт, выполняли наиболее сложные задачи. Из 11 603 Героев Советского Союза 7000 – комсомольцы и воспитанники комсомола. Да и в послевоенное время достаточно примеров героизма комсомольцев. Достаточно вспомнить борьбу за живучесть на атомных подводных лодках К-3 и К-19, пожар на дизельной подводной лодке Б-31 – да разве перечислишь все подвиги моряков в мирные дни? Очень хочется верить, что здравый смысл возобладает и Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола возродится!
4-й взвод минно-торпедного факультета ВВМУПП
Вступительные экзамены в училище принимались в июле – раньше, чем в гражданских вузах. В училище было два факультета: ракетный и минно-торпедный. Некоторые ребята стремились поступить в ракетчики, считая, что это более перспективно. Новое, более мощное оружие, ракетные подводные лодки – основная сила военно-морского флота. Очень расстроился, что не попал в ракетчики, новый приятель Цветкова – Валера Вальденс. Володя же, успешно пройдя конкурс, поступил на первый курс минно-торпедного факультета училища, куда и мечтал. После сдачи экзаменов и прохождения комиссии ребят распределили по взводам и направили в лагерь, располагающийся на южном берегу Финского залива у фортов «Серая Лошадь» и «Красная Горка». Командиром роты был назначен капитан 3-го ранга Аркадий Алексеевич Николаев. Володя Цветков, Валера Вальденс, Толя Кузякин, Толя Карпенко, Витя Поникаровский, Юра Товкачевский, Толя Кравцов, Толя Пройдак и еще девять человек попали в 4-й взвод.
Форты были построены в начале XX века и предназначались для обороны Петрограда, Кронштадтской военно-морской базы и защиты коммуникаций. Форты постоянно модернизировались. В начале 1930-х годов на них были установлены две 203-миллиметровые башенные установки, снятые с проданного в Германию на металлолом линкора «Республика» (бывший «Император Павел I»), и они превратились в мощные фортификационные сооружения.
Помещения форта «Красная Горка» сегодня
В Первую мировую войну артиллерия фортов уничтожала морские корабли английской эскадры, вошедшие в Финский залив, отбивала наступление войск генерала Юденича. В тяжелые годы блокады форты «Красная Горка» и «Серая Лошадь» своей артиллерийской мощью сдерживали натиск фашистов, громили их тылы, обеспечивали оборону, а потом и наступление советских войск.
В конце 1950-х годов форты были разоружены, уникальные башенные установки были демонтированы и сданы на металлолом. Сейчас это всего лишь никому не нужные развалины – печальное зрелище, иллюстрирующее отношение к истории нашей страны. Хотя уникальные сооружения могли бы быть прекрасными туристскими объектами, как, например, фортификационные сооружения в шведском городе Буден.
Ворота в морскую жизнь
Сохранившаяся казарма курсантов
В лагере будущие курсанты овладевали навыками военной жизни, то есть проходили курс молодого бойца. Дни были насыщены занятиями, строевой и физической подготовкой, шлюпочными состязаниями, несением вахт и дежурств. Много времени уделялось обустройству лагеря. Ремонтировались казармы и другие строения, на озере, расположенном поблизости, возводилась шлюпочная база. Жизнь шла строго по расписанию: подъем, зарядка, занятия, после обеда – строевые, хозяйственные работы, самостоятельная подготовка. В воскресенье демонстрировались фильмы. Управляли всеми делами инструкторы-мичмана, назначенные командирами взводов: Николайчук, Копылов, Шуршенов.
Старшиной роты был мичман Николайчук – инструктор кафедры минного оружия. Спуску командиры взводов курсантам не давали, но особенно сильно допекали ребят комары. Зарядка проходила под непрерывные звуки шлепков по голым телам будущих подводников.
Самым приятным для будущих курсантов было несение вахты на шлюпочной базе. Заступали на дежурство по пять человек на сутки. Дежурным выдавали бинокль, ракетницу, сигнальные флажки. Обязанности были несложными: поднимать на мачте военно-морской флаг, следить за охраной лодок, в будние дни готовить лодки к занятиям и проверять лодки после занятий. Особенно ценились такие дежурства в выходные дни, когда занятий не было. Можно было расслабиться, половить рыбу, искупаться, позагорать, а также понаблюдать за купающимися девушками на противоположном берегу озера, где находились дачи и куда приходили купаться дачницы, нередко нагишом.
Во время одного такого дежурства внезапно приехал с проверкой старшина роты и застал группу врасплох. Дежурные по очереди разглядывали купающихся девушек. Подойдя, мичман рявкнул:
– Чем занимаемся, мореманы? Почему службу не несете?
Дежурные не растерялись:
– Несем, товарищ мичман.
– Не несете, а в бинокль пялитесь. Что вы там рассматриваете с таким воодушевлением?
– Наблюдаем за водной поверхностью, чтобы диверсанты не подкрались, – ответили курсанты.
Забрав бинокль, мичман поднес его к глазам и тут же обнаружил, что так заинтересовало дежурную службу.
– Ух ты! – вырвалось у старшины роты, и, вращая колесико регулирования резкости, он уселся на скамейку.
Народ понял, что на сегодня сеанс бесплатного кино закончился, и пошел приводить в порядок шлюпки.
С огромным удовольствием ребята ходили на ялах под парусами. Уже через несколько занятий будущие покорители морских глубин стали прекрасно разбираться в шлюпках, научились быстро и четко выполнять команды рулевого. Оказалось, что хождение под парусом – это целое искусство управления шлюпкой, маленьким, но судном. Удивительно, что шлюпка под парусом может идти против ветра. Именно это повергло будущего императора России Петра Первого в изумление, и, может быть, именно тогда у него проснулись интерес и любовь к морскому делу.
Кроме занятий будущие курсанты несли дежурно-вахтенную службу, заступали в караул, то есть из неопытных мальчишек в лагере делались защитники Родины. В конце августа будущие курсанты вернулись в училище и начали подготовку к принятию присяги. Пришивали погоны на только что полученную морскую форму, учили наизусть текст присяги, отрабатывали строевой шаг. В общем, дел было невпроворот.
Наконец-то долгожданный день наступил. После завтрака все первокурсники строем двинулись на крейсер «Аврора», где и планировалось принимать присягу.
Крейсер был построен на заводе «Новое адмиралтейство» в Петербурге в 1902 году. Название корабль получил в честь парусного фрегата «Аврора», прославившегося при обороне Петропавловска-Камчатского в годы Крымской войны. Корабль прошел славный боевой путь: участвовал в походе Второй Тихоокеанской эскадры, закончившемся Цусимским сражением, принимал участие в Первой мировой войне.
Крейсер «Аврора»
Холостой выстрел «Авроры» провозгласил новую страницу в истории России – победу Великой Октябрьской социалистической революции. После этого «Аврора» стала символом Советской России и объектом культурного наследия страны.
После принятия присяги первокурсников ждало первое увольнение. В новеньких бушлатах, в бескозырках будущие флотоводцы устремились на улицы Ленинграда. Город всегда славился моряками, но такое обилие молодых парней в морской форме даже для него было редкостью.
Потекли курсантские будни: подъем в 6 часов, зарядка, завтрак, занятия, обед, самостоятельная подготовка, ужин и свободное время до отбоя в 22 часа. В 21 час – обязательный просмотр программы «Время».
Кроме всего прочего, безусловно, несение дежурно-караульной службы. В караул ребята заступали с автоматами и заполненными патронами дисками. Самый почетный и ответственный пост был, конечно, у знамени училища, но он же был и самым сложным. Попробуй постой, не шевелясь, с автоматом, тем более что днем постоянно мимо ходит кто-нибудь из начальства. Поэтому на всех постах часовые стояли по четыре часа, а у знамени – по два.
Вначале парни засыпали, едва положив голову на подушку, но со временем стали привыкать к этой размеренной жизни и уже к окончанию первого семестра не стремились урвать для сна любой уголок. Увольнение было только в субботу и воскресенье. Ленинградцы могли уволиться с ночевкой раз в месяц. Отношения между курсантами были хорошие, но наиболее дружеские отношения у Цветкова сложились с Валерием Вальденсом, Анатолием Кузякиным и Анатолием Карпенко.
Незаметно подошел к концу первый семестр. Перед убытием в отпуск надо было сдать три экзамена. Самой востребованной песней стала сочиненная курсантом Валерой Вальденсом:
Отпуск где-то в бесконечности,
Не видать его совсем,
До него нам, как до вечности,
Три экзамена пройти.
Первая экзаменационная сессия отмела сразу человек тридцать из ста тридцати поступивших. Остальные наконец-то получили отпускные билеты и разъехались по своим родным пенатам.
После отпуска командир роты объявил, что второй и четвертый курсы училища будут участвовать в Московском параде в честь 51-й годовщины Великой Октябрьской революции и 50-летия Ленинского комсомола.
Участникам парада выдали карабины, построили по ранжиру, назначили знаменоносцев. Цветкову досталось четвертое место в четвертой шеренге. Теперь ежедневно после занятий парадные расчеты приступали к тренировкам на плацу училища. Маршировать с автоматами намного легче, чем с карабинами, – не надо махать руками, проще держать равнение, всегда чувствуешь плечо соседа. С карабинами появились новые команды: «На караул», «К ноге», «На плечо», «На ремень», «Штык примкнуть». Постепенно парадные «коробки» обретали нормальную конфигурацию, курсанты овладевали строевыми приемами с карабинами. Руководил тренировками начальник кафедры морской пехоты подполковник В. А. Петухов.
Учиться в училище было несложно, преподаватели к курсантам относились весьма благосклонно, но за незнание предмета двойки ставили беспощадно. Особенно лютовал преподаватель физики профессор Николай Олимпиевич Ульянов, друг лауреата Нобелевской премии (1978 г.) академика Петра Леонидовича Капицы.
Вторым преподавателем физики была Ирина Константиновна Александрова, молодая симпатичная женщина, добрейшей души человек, но, к сожалению, принимать экзамены ей не доверяли. Только зачеты и пересдачу заваленного экзамена. Поэтому к Ирине Константиновне всегда стояла огромная очередь из должников.
Пятерки Ульянов курсантам никогда не ставил. «Физику на пятерку знаю только я и академик Капица», – не уставал повторять Николай Олимпиевич. Обычный результат экзамена не поднимался выше одной четверки, трех-четырех троек и целого букета двоек. Экзамен часто начинался со слов профессора:
– Товарищ курсант, вынимайте шпаргалки.
Глаза курсанта делались круглыми:
– Товарищ преподаватель, у меня нет шпаргалок.
– Как нет, а вон в том кармане? – не унимался профессор и, как правило, не ошибался.
Если же шпаргалка была спрятана очень тщательно, экзаменующийся с дрожью в голосе твердил:
– Нет у меня шпаргалок, это носовой платок.
– То, что вы за гигиеной носа следите, – это хорошо. Но если шпаргалок нет, значит, вы к экзамену по физике не готовились, двойка, придете на пересдачу через неделю, – делал вывод суровый экзаменатор.
Зачеты по физике зачастую проходили еще проще.
– Мне сегодня некогда, – приняв доклад дежурного перед зачетом, говорил профессор и, осмотрев классные доски, добавлял: – Тебе три балла, у тебя много на доске написано, остальным двойки, придете через неделю.
Никакие уловки с Н. О. Ульяновым не проходили. Когда курсант Геннадий Головченко обратился к Ульянову «товарищ академик», физик, не поддавшись на курсантскую лесть, заключил:
– Товарищ курсант, я не академик, а профессор, а вы, если до сих пор не запомнили мое ученое звание, придете еще раз.
Но в общем-то Николая Олимпиевича и Ирину Константиновну курсанты уважали, а предмет, несмотря ни на что, любили.
– Физика добавляет в наш организм твердости и крепости духа, – утверждали отличники.
– Физика не позволяет нам расслабиться, – уныло причитали троечники.
Четвертый взвод готовился к экзамену по физике тщательно. По агентурным данным установили, что профессор отчаянно болеет за ленинградскую футбольную команду «Зенит» и не пропускает ни один матч. К радости курсантов, в это время приближался матч между «Зенитом» и японской командой. С огромным трудом достали билет на матч с местами на самом удобном месте. Где-то кто-то узнал, что академик Капица любит армянский коньяк. Классные аналитики тут же сделали вывод: если Капица любит армянский коньяк, то Ульянову сам бог велел обожать этот напиток. Скинувшись, купили бутылку коньяка. Долго решали, в каком виде поставить бутылку на стол – вдруг кто-то из начальства зайдет? Решили приобрести красивый графин и перелить коньяк в него, вроде как чай. Наконец день экзамена наступил. Валера Васильев, художник от бога, оформил конверт, в который положили билет на футбол. Перелили коньяк в красивый кувшин. Купили коробку шоколадных конфет, но чего-то еще для полного натюрморта не хватало. В конце концов приняли решение добавить колорит журналами – футбольным и пикантным, с красивыми девушками в купальниках. К экзамену все было готово. Теперь-то он не устоит, всем не ниже тройки поставит, решили курсанты.
Экзамен начался с обычных вопросов про шпаргалки, но, видимо, после просмотра конверта настроение профессора качнулось в лучшую сторону, и он не стал очень тщательно допытываться о шпаргалках.
– Сейчас коньячку глотнет и вообще подобреет, – заключил старшина класса Толя Кравцов.
Первой коньяк попробовала Ирина Константиновна. Налив в стакан «чая», она сделала глоток, глаза ее расширились, и она начала ладошкой загонять в рот воздух. Дежурный по классу осторожно пододвинул к ней коробку конфет.
– Что случилось, Ирина Константиновна? – спросил Ульянов, но ассистентка ответить не смогла и только пальцем указала в сторону графина.
Николай Олимпиевич, хмыкнув, взял графин, плеснул довольно-таки солидную порцию в стакан, посмотрел стакан на свет, понюхал и выпил. Класс замер, ожидая реакцию преподавателя. На лице у Ульянова даже морщинка не дернулась, долив из графина, он еще раз выпил и закусил конфетой. Класс выдохнул, Толя похлопал в ладоши:
– Лед тронулся, господа курсанты. Пятерок нам не пересчитать.
Однако радоваться было еще рано. По мере того как Олимпиевич прикладывался к графину, вопросы становились все каверзнее. Конечный итог экзамена все-таки порадовал: двойки получили только восемь человек, да и четверок, как ни странно, было четыре штуки.
Второй семестр пролетел быстро, будущие подводники уже адаптировались к курсантской жизни, научились обходить некоторые правила, пользоваться шпаргалками, спать урывками, а нередко даже с открытыми глазами, ходить строем с песней и совершать еще множество полезных дел.
Самым приятным в училище были, безусловно, увольнения. На первом и втором курсах увольнения были по субботам и воскресеньям. Подготовка к ним начиналась сразу же после занятий, хотя до выхода в город еще по распорядку была большая приборка. Вперемежку с мытьем полов, подоконников начищались ботинки, драились бляхи, стирались чехлы на фуражках, зимой подшивались белые воротнички на «слюнявчики» – называемые так форменные воротники, закрывающие вместо шарфа грудь и шею. «Слюнявчики» курсанты не любили и старались снять их после выхода из училища, хотя это было чревато получением замечания от патруля. Но больше всего курсанты ненавидели кальсоны, которые нужно было надевать зимой. Проверять наличие кальсон было излюбленным делом старшины роты старшины первой статьи Скачкаускаса. Старшина был ярым службистом, учился он на три курса старше и фанатично проверял, в каком виде первокурсники выйдут в город. Настроение старшины роты подымалось в геометрической прогрессии по мере того, как он выгонял из строя нарушителей формы одежды.
Команда «Выставить левую ногу и поднять брючину для осмотра» всегда вызывала недовольный гул. Первокурсники старались любыми путями избежать надевания ненавистных кальсон. Кто-то надевал обрезанную штанину от кальсон, чтобы за КПП ее снять и выбросить. Но на каждое увольнение кальсон не наберешься, поэтому большинство курсантов подкладывали под носки носовые платки. Однако старшина был не лыком шит, все уловки он когда-то проходил сам, поэтому провести его было весьма затруднительно. Только курсант Валера Васильев, ротный художник и изобретатель, ухитрялся так разрисовать ноги, что сомнений у старшины не возникало. Когда недовольство доходило до апогея, выходил командир роты капитан 3-го ранга Николаев.
– Что за шум? Чем недовольны? – грозным голосом вопрошал начальник.
Из строя неслись голоса:
– Товарищ командир! Зачем эти кальсоны – на улице не холодно. Мы не замерзнем.
– При форме «пять» положено надевать кальсоны. Командование заботится о вашем здоровье, – возражал командир. – Вот старшина тоже ходит в кальсонах, я хожу в кальсонах, все ходят в кальсонах. Зато будете перед девушками молодцами выглядеть, ничего не отморозите.
– Да товарищ командир, в кальсонах в приличном доме не раздеться, – неслось из строя.
– Как не раздеться? А вы что, в приличных домах брюки снимаете? – удивился капитан 3-го ранга.
– Конечно, а зачем тогда в приличные дома ходить?! – продолжали курсанты.
Эти пререкания длились все зиму на первом курсе, но на втором, когда старшиной роты стал свой курсант, проверки прекратились. К тому же началась интенсивная подготовка к Московскому параду. Здесь уже точно стало не до кальсон.
История проведения военных парадов в столице уходит в далекое прошлое. Первый парад бал проведен на Красной площади в XVII веке. В дальнейшем, несмотря на различные политические перипетии в стране, в дни государственных праздников в столице России проводились красочные ритуалы с участием лучших представителей армии и флота. Главной целью проведения парадов является демонстрация готовности нашей страны в любое время отразить нападение врагов. Особое значение парады приобретали в критические для страны годы. 7 ноября 1941 года, когда фашистские войска вплотную приблизились к столице нашей Родины, по Красной площади прошли колонны красноармейцев. Конечно, не было той торжественности, которая сопровождала парады в мирное время, но главная задача была решена. Россияне получили уверенность в нашей победе, а противник, планирующий провести 7 ноября свой парад в поверженной Москве, остался ни с чем.
Здесь же прошел Победный парад 1945 года, на котором к стенам Мавзолея победители бросали знамена и флаги фашистской Германии.
Участвовать в Московском параде было весьма престижно, тем более что с 1968 года военный парад стал проводиться лишь в День Великой Октябрьской революции.
Ежедневно курсанты второго и четвертого курсов после обеда выходили на плац и в течение трех часов учились маршировать. Дело это оказалось совсем не простым: ноги должны подниматься на 30 сантиметров, правая рука – отводиться назад и затем двигаться к груди. К тому же все это нужно было делать одновременно, держа равнение в шеренгах и в колоннах. Начальник кафедры тактики морской пехоты и общевойсковой подготовки подполковник В. А. Петухов, руководивший подготовкой к параду, спуску курсантам не давал. Подполковник внимательно следил за прохождением шеренг и, если курсанты не соблюдали равнение, не на ту высоту поднимали ноги или отводили руки, не гнушался сам встать в строй и показать, как нужно маршировать. В скором времени подполковник завоевал авторитет у курсантов. Тем более это был боевой офицер, прошедший в годы войны путь от командира взвода до заместителя начальника штаба полка. В послевоенные годы Петухов закончил академию им. М. В. Фрунзе и в 1968 году был назначен в училище.
Подготовка к параду на плацу училища
Если шеренга или кто-то из курсантов и после личного вмешательства руководителя правильно не выполняли строевые приемы, их оставляли на дополнительные занятия после ужина. Но таких было мало, курсанты старались все выполнить в период основных занятий.
9 мая парадный полк училища участвовал в параде на Дворцовой площади. Сделано это было специально, чтобы дать курсантам практику прохождения в парадном расчете. Перед парадом приказали перешить нашивки на правый рукав, дабы руководители города и страны видели, на каком курсе учатся участники парада. Прошли курсанты ВВМУПП отлично, но для Московского парада, конечно, нужно было еще тренироваться.
Первая морская практика проходила на крейсере «Комсомолец». Крейсер проекта 68-К был заложен 31 августа 1939 года на Балтийском судостроительном заводе в городе Ленинграде. 25 сентября 1940 года корабль был зачислен в списки флота под именем «Валерий Чкалов», но в сентябре 1941 строительство крейсера было приостановлено в связи с началом Великой Отечественной войны. Достраивался крейсер после Победы, и уже 25 октября 1947 года корабль был спущен на воду и в 1950 году вступил в строй, подняв военно-морской флаг. В день 40-летия ВЛКСМ в 1958 году крейсеру было присвоено имя «Комсомолец», и он был переклассифицирован в учебный легкий крейсер. Это был мощный боевой корабль водоизмещением 14 100 тонн, длиной 199 метров. Экипаж составляли около 1200 человек.
Моряки на крейсерах носят рабочую форму, а попросту – робу, белого цвета. Повелось это еще с петровских времен. Состояло рабочее платье из рубахи и брюк из светло-серой парусины и применялось при всех работах на кораблях 1-го ранга. Поверх форменной белой рубахи носился выпускаемый наружу синий воротник, именуемый гюйсом.
Утверждена данная форма одежды рядового состава была 19 августа 1874 года. Шилась белая роба из облегченной парусины, называемой чертовой кожей. Роба была очень прочной, хорошо отстирывалась даже от масляных пятен, различных красок и прочей грязи. Синее рабочее платье носилось на корабле только при работе в машине и в трюмах. Еще Леонид Соболев в «Капитальном ремонте» писал: «В синем рабочем платье на палубе появляться запрещено. На палубе можно быть только в белом рабочем платье с выпущенным воротником форменки».
В училище курсанты носили рабочее платье синего цвета, но практику предстояло проходить на крейсере, поэтому всем была выдана белая роба. Еще в училище ребята на новую форму нашили боевые номера и были готовы к первому вояжу на боевом корабле.
Основной задачей корабля стало обеспечение практики курсантов военно-морских училищ. Корабль неоднократно участвовал в дальних морских походах и официальных визитах в Данию, Швецию, Финляндию, Германскую Демократическую Республику и другие страны.
Крейсер курсировал по Балтийскому морю. Впервые будущие подводники узнали, что такое морская качка. Многие пока еще «сухопутные» мальчишки укачались. Наиболее стойкие, среди которых оказался и Владимир, продолжали выполнение своих курсантских обязанностей. Курсанты вели наблюдение за морской обстановкой с ходового мостика, поднимали флаги на мачты, бегали к пеленгаторам взять пеленга на маяки и затем неслись к своим навигационным картам, чтобы нанести эти пеленга и определить место крейсера. Постепенно жизнь будущих флотоводцев начала приходить в военно-морскую норму.
Наряду с навигационной прокладкой овладевали второкурсники азбукой Морзе, учились вязать морские узлы, драить палубу и еще многим морским премудростям.
В обиходе юношей появились морские термины: кабельтовы, мили, кильватер, семафор, узлы, пеленгатор, ратьер, траверз и другие. Особенно романтично звучали названия маяков: Большой Тютерс, Вигрунд, Большой Фиска́р, Кольбодегрунд.
Очень запомнилась курсантам атака торпедных катеров. Крейсер исполнял роль цели. Глубокой ночью несколько торпедных катеров с разных сторон производили стрельбу торпедами. Торпеды, выпуская сигнальные ракеты, проходили под крейсером, оставляя огромное впечатление у курсантов.
Несение ходовых вахт, ведение навигационной прокладки, участие в артиллерийских стрельбах, конечно, оставили большой след в душах будущих покорителей морских глубин. Вахту курсанты несли в должностях дублеров сигнальщиков, торпедистов, артиллеристов, в стрельбах участвовали лишь как зрители, а навигационная прокладка велась в учебном классе, но все это было на настоящем боевом корабле.
В середине практики крейсер встал на внешнем рейде порта Таллин. В Советском Союзе прибалтийские республики считались «заграницей». Многие вещи, недоступные жителям других регионов СССР, были обыденными для жителей Латвии, Литвы и Эстонии. Таллин ассоциировался у курсантов с трагическим Таллинским переходом советских кораблей в Кронштадт в 1941 году. Эвакуация основных сил Балтийского флота и войск 10-го стрелкового корпуса из Таллина в Кронштадт осуществлялась под командованием вице-адмирала В. Ф. Трибуца в конце августа 1941 года.
Из Таллина вышли 225 кораблей и судов, в том числе 151 военный корабль, 54 вспомогательных судна, 20 транспортов. До Кронштадта дошли 132 военных корабля, 29 вспомогательных судов, 2 транспорта. Всего 163 единицы, а также неустановленное число малотоннажных гражданских судов и плавсредств, не подчиненных Военному совету флота. Во время перехода погибли 62 корабля и судна, в том числе: 19 боевых кораблей и катеров, 25 вспомогательных судов, 18 транспортов.
Схема Таллинского перехода 28–29 августа 1941 г.
Побывать в таком городе было весьма интересно. В увольнении курсанты посещали городские достопримечательности столицы Эстонии. Они побывали в художественном музее Куму, Морском музее, посетили музей под открытым небом, полюбовались узенькими таллинскими улочками.
Вечером будущие «морские волки» пошли в свое первое увольнение с боевого корабля в незнакомый город. Быть в Таллине и не попробовать знаменитый ликер Vana Tallinn? Конечно, друзья из четвертого взвода зашли в кафе и заказали по чашечке кофе и бутылку ликера. Разлив по стаканам напиток, ребята выпили за дружбу. У девушки-буфетчицы глаза округлились, и она с эстонским акцентом воскликнула:
– Это нельзя так пить, это нужно добавлять в кофе.
– Это почему так пить нельзя? – удивились курсанты.
– Ликер очень крепкий, вы можете опьянеть.
Ребята внимательно рассмотрели бутылку и, переглянувшись, попросили еще одну бутылку ликера.
– Нет, нет, у нас дают только одну бутылку посетителям, – заявила буфетчица.
Допив ликер и расплатившись, ребята вышли из кафе. Вальденс и Карпенко закурили. Толя Карпенко, сделав несколько затяжек, предложил:
– А я бы еще ликерчика глотнул.
– Давай найдем еще кафе, – поддержал его Вальденс.
– А зачем искать, давайте вернемся, – предложил Цветков.
– Так у них посетителям только одну бутылку дают, – усомнился Кузякин.
– Правильно, посетители – это те, кто пришел, верно? – продолжал Владимир. – Вот мы сейчас опять зайдем и будем новыми посетителями.
– Логично, – поддержали его друзья. – А потом пойдем в парк.
Друзья вновь вошли в кафе и опять попросили бутылку ликера и кофе.
– Но вы уже брали! – воскликнула девушка-буфетчица.
– Да, но мы уже новые посетители, – парировали парни, – мы ведь только пришли.
– Да, действительно, вы только пришли, так что можно, но у нас ликер пьют, только добавляя в кофе, он очень крепкий, – напомнила девушка.
– Ничего, мы будем маленькими глотками, – успокоили ее курсанты. – Кстати, а куда можно пойти погулять?
Девушка, подумав, ответила:
– Можно в парк, там танцы будут в семь часов.
Городской парк встретил друзей музыкой. Молодежь на танцевальной площадке предавалась танцам. Курсанты влились в танцующую толпу, но танцевать с русскими парнями соглашались только россиянки. Эстонки танцевать наотрез отказывались. В 23 часа курсанты двинулись на причал, откуда буксир должен был доставить их на крейсер. Только Валера Вальденс пошел проводить новую знакомую девушку.
На вопрос приятелей: «Ты не опоздаешь?» – Валерий ответил:
– Нет, она рядом живет. Я вас догоню.
Однако к отходу буксира Вальденс опоздал. На крейсере уволенных на берег встречало все училищное начальство и замполит крейсера. Узнав, что курсант пошел провожать девушку, заместитель по политчасти крейсера отметил:
– Ребята, в Эстонии нужно быть очень внимательными и одним не ходить. Здесь всякое может случиться.
Опросив курсантов, офицеры отправили всех спать, но друзья решили дождаться, что будет дальше. Вальденса доставили на крейсер только в четыре часа на адмиральском катере. Оказалось, что он заблудился, а ребята, к которым он обратился с вопросом, как пройти на причал, отправили его совсем в другую сторону. Решив, что все хорошо, что хорошо кончается, друзья отправились спать.
10
Трал – средство для обнаружения и уничтожения мин.