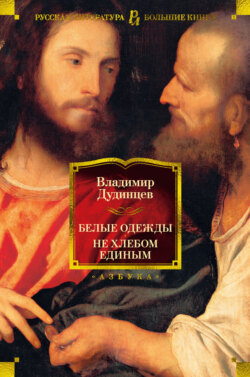Читать книгу Белые одежды. Не хлебом единым - Владимир Дудинцев - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Белые одежды
Часть первая
VII
ОглавлениеПоследующая неделя в жизни Федора Ивановича и в делах факультета не принесла ничего примечательного. Волна, поднятая августовской сессией академии, шипя, прикатила в город и бухнула в стены сельскохозяйственного института, подняв целую тучу медленно оседающих брызг. Потом отхлынула, опять поднялась, на ней опять закипел гребешок страстей множества заинтересованных личностей – подлецов и героев, – и все это, нарастая, покатило в другие города. А здесь, среди разрушений, потекли тихие будни. Костер на хоздворе погас, и три дня лаборантки ходили туда с ведрами за золой для удобрения – пока не подчистили все. Из Москвы был прислан новый доцент и сразу же начал бойко читать курс лекций по мичуринской генетике, усердно костя при этом вейсманистов-морганистов как проводников буржуазной идеологии в биологии. И Федор Иванович, который так боялся необходимости читать лекции на этой кафедре, вздохнул. «Я, сынок, решил не загружать тебя лекциями, – сказал по телефону академик Рядно, не спускавший глаз с Федора Ивановича и знавший все. – Ты давай готовься к делу, которое я на тебя возложу. Наследство Троллейбуса пока не разбазаривай, все возьми на учет. Все мне расшифруй, что он там… закодировал. Что не кончили из своей менделевской галиматьи, пусть кончают, не мешай. Пусть вся эта братия спокойно работает. Пока. Я тут пробиваю одну идею, и ты займешь достойное место в этом плане».
И Федор Иванович сразу же собрал всех, кого он проверял во время ревизии, и серьезным тоном предложил сохранить все растения, независимо от целей и надежд, связанных с их появлением на свет. В том числе и «наследство» Ивана Ильича. Продолжать тщательные записи, собирать семена и клубни, довести до конца все исследования в соответствии с планами, в том числе и с планами, признанными порочными.
Во время этого совещания он старался не замечать спокойного, вникающего и несколько удивленного взгляда через очки, направленного на него из дальнего угла. Больше посматривал на Краснова, который мял в пальцах теннисный мяч.
Когда все разошлись, Федор Иванович вспомнил нечто, прошел в комнату Ходеряхина и Краснова. Альпинист отсутствовал, и, подсев к его столу, Федор Иванович в ожидании рассеянно поглядывал на бумажки, положенные под стекло. Там были выписки из справочника по картофелю, вырезка из газеты с футбольной таблицей и страница, на которой можно было прочитать следующие строки, напечатанные на машинке:
«б. Напрячь мышцы брюшного пресса и ослабить – 30 раз.
в. Сжать до предела ягодичные мышцы и ослабить – 30 раз.
г. Втянуть до предела прямую кишку и отпустить – 30 раз».
Рассмеявшись, Федор Иванович поскорее встал из-за стола – он щадил стыдливость Краснова. А тут как раз спортсмен и вошел.
– Я к вам, – сказал Федор Иванович, гася улыбку и выкладывая на стол шесть пакетиков. Понизив голос почти до шепота, он добавил: – Я согласен, не следует разбрасываться такими вещами. И академик не рекомендует…
– Не имеем права! – подхватил Краснов и, усевшись за стол, смахнул в ящик все пакетики.
– Вас, кажется, зовут Ким? – вдруг спросил Федор Иванович, задумчиво глядя на него.
– Ким Савельевич.
– Ким Савельевич! Я исхожу из того, что там случайно может оказаться и ценный материал…
– Пусть даже один случай на миллион – мы не можем сбрасывать со счета.
Федор Иванович приостановился. Его ключ действовал безошибочно. Зло, отлично знающее свою суть, как всегда, маскировалось добрыми намерениями. Он изучал Краснова некоторое время, но тот ничего не заметил. Хотя нет, что-то почувствовал.
– Вы покраснели, Федор Иванович. Не беспокойтесь, я их сейчас же положу в хорошее местечко и заведу специальный журнал.
– На всякий случай, если бы он пришел за ними…
– Отошлите его ко мне. Вам незачем связываться. Скажите, я говорил вам о каких-то пакетиках. А я найду что сказать.
– Да нет. Я ему уже сказал… прямо сказал, что мы нашли…
– Ну, тогда-а… – протянул Краснов разочарованно. – Тогда что ж…
– Ничего страшного! Мы с ним условились, что семена останутся на нашей кафедре, в лаборатории. Это я вам на всякий случай, чтобы вы знали. Если придется говорить. Мы их высеем, в порядке проверки. Нам ведь не все нужно, что взойдет…
– Так, пожалуй, будет еще лучше! Я буду у вас самым исполнительным лаборантом.
– Значит, вы сделаете все, как говорили. Будем вместе.
– Я уверен, мы достигнем результатов. При таком единстве взглядов…
– Похожем на соучастие, – вставил Федор Иванович, хихикнув.
Краснов пожал плечами:
– Ничего похожего! Казниться из-за таких пустяков… если я правильно понял… по-моему, не стоит.
Он совсем не замечал, что его исследуют.
– Интересно, – сказал Федор Иванович задумчиво, – люди, у которых дурная болезнь… скрывают они друг от друга в диспансере свои язвы?
– Этот объект не стоит такого глубокого анализа, – сказал Краснов. И вдруг смутился. Что-то дошло. – А кто в наше время без какой-нибудь язвы?
– Это верно, – сказал Федор Иванович, глядя на него, не сводя глаз. – Это вер-рно.
– Именно, Федор Иванович! Люди – это люди!
– Вглубь лучше не заглядывать, – подбросил ему Федор Иванович опору.
– Именно! – весело заревел Краснов и, став ниже ростом, разогретый хорошо проведенным важным разговором, поднялся его провожать, вышел в коридор.
«Надо отучиться краснеть», – подумал Федор Иванович.
…В розоватой лужице киселя на дне химического стакана опять завелись энергичные и ловкие белые червячки. Кисель бурлил и кипел от множества пронизывающих его жизней. Несколько коричневых куколок приклеились к стенке стакана и замерли. Однажды на рассвете Федор Иванович вынес стакан на улицу и опять выпустил всех мушек. Теперь в стеклянном конусе, заткнутом ватой, окончательно созревал факт, такой же неоспоримый, как превращение капли йода на картошке в синюю кляксу.
Еще через семь или восемь дней, утром, собираясь в институт, Федор Иванович заметил в стакане движение. Там уже кружились и прыгали пять или шесть мушек – второе поколение. А на дне среди бледно-зеленых девственниц беспокойно бегали два бескрылых существа: пробежка – скачок, пробежка – скачок… Они пытались взлететь.
«Надо сказать ей», – подумал Федор Иванович. Он понимал, что там все решено и вмешиваться в чужие отношения на правах третьего лица – дело безнадежное и даже не совсем достойное. Но ему хотелось услышать ее голос, обращенный к нему. «Я ничем себя не выдам, буду спокоен и безразличен. Все-таки речь идет о направлении в науке. Это будет вполне приличный, легальный повод».
Придя в институт пораньше, он сел в своем кабинете у окна и, чувствуя частые, сильные удары сердца, как будто выпил несколько чашек крепкого кофе, минут двадцать следил за асфальтовой дорожкой, ведущей к входу. Прошли, беседуя, Анна Богумиловна и Анжела. Прошел с портфелем новый – московский – доцент. С теннисным мячом в руке прошел Краснов, издалека похожий на громоздкого, чуть сутулого первобытного человека, ищущего коренья. И вот показалась она – в знакомой вязаной кофточке, маленькая, полная тайны. Почти пробежала, о чем-то мечтая, влекомая какой-то манящей целью. И Федор Иванович, загремев стулом, оставив распахнутой дверь, вылетел в коридор и там сразу принял независимый вид. Опустив голову, как бы размышляя о чем-то, он прошел половину коридора, и тут Елена Владимировна из-за угла налетела на него, толкнула обеими руками.
– Простите! – засмеялась виновато, а душа ее, ставшая чужой и небрежно-рассеянной, уже летела куда-то дальше.
– Я тоже виноват, – сказал он, умеренно улыбнувшись и уступая ей дорогу.
Она так и ринулась бежать.
Посмотрев ей вслед, он как бы вспомнил:
– Да, Елена Владимировна! У меня уже пошло третье поколение! Сегодня утром смотрю…
Она быстро обернулась.
– Тсс! – прошептала гневно. Вся сила у нее была в сдвинутых, не принимающих никакого компромисса бровях. Потом подошла совсем близко. – С ума сошли! – низко прогудела. – Гаркает на весь институт. Вы же скрытый вейсманист! – И умолкла, глядя сквозь большие очки по сторонам. На чистом лбу был виден прекрасный гнев. Этот чистый лоб умел командовать.
Потом она успокоилась и посмотрела со вспыхнувшим интересом. Интерес был не к нему, а к науке.
– Скоро будем считать. Завтра я возьму флакончик с эфиром и приду… Нет, лучше подождем еще денек. Где мы будем считать – у вас или у меня?
– Может, у меня удобнее?.. – неуверенно спросил он.
– Хорошо. Значит, послезавтра. После работы ждите.
До назначенной встречи надо было ждать больше двух суток. До вечера Федор Иванович кое-как дотянул. Потом на него накатила тоска. В комнате для приезжающих было одиноко, и он позвонил Тумановой.
– Алло! – ответил ее полный, гибкий голос. – Это ты-и? Ну, если тебе скучно, так приходи. Мне тоже скучно. Давай вместе выпьем вина.
– Какое вино ты пьешь?
– Я пью водочку. Без дураков. Бери пол-литра православной, не ошибешься.
Конечно, не только тоска и одиночество толкнули его на этот телефонный звонок. Идя к Тумановой со свертком в руке, он все отчетливее чувствовал, что там для него прояснится еще одна забавная и важная вещь. Впрочем, и без того уже почти ясная.
Антонина Прокофьевна ожидала его в своей постели, обложенная расшитыми подушками, и по этим подушкам и кружевам ступенями струились ее черные волосы. Ветка ландыша была на месте, но желтого алмаза не было. Поцеловав хозяйку в щечку, он поднял глаза и увидел над нею на стене литографию в рамке. Там был изображен обнаженный человек, привязанный к дереву и поднявший полные слез глаза к небу. Из тела торчали стрелы. Казнь происходила на городской площади, на фоне пятиэтажных домов с арками.
– Я что-то не видел у тебя эту картину, – сказал он.
– У нее такое свойство. Кого это не касается, тот не видит. Пропускает. А теперь, видно, коснулось тебя, Федяка. Это святой Себастьян, тебе следует знать. Он был начальник телохранителей у императора Диоклетиана. Самый близкий человек. Царь-то был страшный гонитель христиан, но народа боялся. А полковник лейб-гвардии оказался тайным христианином, да еще и пропагандистом. Он сделал христианами и крестил около полутора тысяч придворных солдат. Вот за это, когда дело открылось, когда какая-то сволочь донесла, Диоклетиан и велел привязать его к дереву и расстрелять тысячью стрел. Он тут и нарисован… Тициан тоже писал на этот сюжет.
– А это чье?
– Антонелло да Мессина такой. Моя любимая картина. Всех современников, и всех потомков, и нас с тобой нарисовал. В самое нутро людей заглянул.
Федор Иванович вытянулся, чтобы получше рассмотреть картину.
– А ты сними. Разрешаю, – сказала Туманова. – Только давай сначала выпьем. Раз затеяли это дело.
Во время их беседы две старухи в черном успели неслышно расположить на столе около кровати граненые стопки и закуску. Федор Иванович вышиб белую пробку из бутылки.
– По первой?
– Давай, Федяка. Давно хотела выпить с тобой. Только бабушкам сначала налей.
Обе старушки, стесняясь, подставили рюмки, и Федор Иванович налил. Когда бабушки ушли, Туманова чокнулась с гостем и медленно выпила, а выпив, тяжело посмотрела ему в глаза, и он понял, что она заливала в себе какую-то боль, и залить не удалось.
– Хорошо пить с человеком, который понимает не только прямую речь, – сказала Туманова. – Ты сними картинку-то. Сейчас самое время ее рассматривать. Давай посмотрим вместе. Вот видишь, на переднем плане человек. Умирает. Не зря умирает, а за идею. А все равно тяжело. А сзади – те, для кого он шел на опасное дело. На балконах горожанки вывесили ковры. Друг на дружку не смотрят, красуются. Женщина стоит с младенцем, погрузилась в свое материнство. Ну – ей разрешается. Пьяница на мостовой грохнулся и спит. Вдали, посмотри, два философа прогуливаются в мантиях. Беседуют. Солнце ходит вокруг Земли или Земля вокруг Солнца? Возможно ли самозарождение мышей в кувшине с грязным бельем и зернами пшеницы? Ничего еще не доказали, а в мантию уже влезли. А вот тут, справа, два военных. Беседуют о том, как провели вчера ночь. «Канальство! – один говорит. – В пух проигрался, туды его!.. Но выпивка была знатная. Еле дорогу нашел в казарму». И другой что-то серьезно толкует. А тут человек умирает, в самом центре площади. И все, видишь, ухитряются этого не замечать! Им до лампочки, Федька. Абсолютно до лампочки всем, что кто-то там…
– Но ведь полторы-то тысячи крестил? Значит, не всем.
– Утешайся! Некрещеных-то больше, Федя. Возьми эту картину себе в башку, как я взяла. И наблюдай жизнь. Когда жгли у вас книги на хоздворе, я все время смотрела на эту картину.
Действительно, картина была значительная, и написал ее художник, знающий горькие стороны жизни.
– По-моему, в замысел художника входила еще одна вещь, – сказал Федор Иванович.
– Давай сначала еще по одной, потом расскажешь, – сказала Туманова.
Они выпили. Антонина Прокофьевна, закусив губу, смотрела некоторое время в сторону, потом как ни в чем не бывало с улыбкой обернулась к нему:
– Ну, давай рассказывай про замысел.
– Ведь он находится в стане язычников, Антонина Прокофьевна! Они его считают чем-то вроде вейсманиста-морганиста, а сами, разумеется, владеют конечным знанием! А он свой свет не хочет уступать. По-моему, вы, когда у нас книги горели, чувствовали именно эту сторону картины.
– Многое я чувствовала, Федяка. Ты ешь колбасу.
– Антонина Прокофьевна! Что я вижу!
– Это ты хорошо сформулировал. Во стане язычников. Это я упустила из виду.
– Что я вижу, Антонина Прокофьевна! Как вошел – сразу увидел. Желтенький куда дела?
– А что же мне его – на бал? Продала. Моего болвана выручать пришлось. И не знал ведь, а над его завитой башкой туча собиралась. Да еще какая, Феденька. С молниями. Вон, видишь, под стеной эта тучка… Я выкупила ее.
И он увидел в стороне под стеной сосновый некрашеный сундучок деревенской работы, сделанный, наверно, полвека назад. Крышка его была разделена трещиной на две половинки. Федор Иванович вскочил было – хотел посмотреть поближе, поднять крышку. Но Туманова тронула его властной рукой.
– На-а место! Заглядывать туда нельзя. Там сидит джинн.
– По-моему, тебе его Кеша Кондаков подарил. А?
– «Подарил!» – Она усмехнулась. – Ничего себе подарил! За пятьсот целковых. Ты сундучок, значит, видел у него? Сволочь какая, говорил, что ни одна душа… Я же отвалила ему не за деревяшки, а за тайну…
– Нет, Антонина Прокофьевна. Я у него сундучка не видел. Только слышал о нем. Историю этого сундучка.
– Я давала ему сначала сто. «Нет, – говорит, – в деньгах такие вещи не оцениваются. Это же историческая ценность! Я даже стихи написал!» – «Ну, на тебе тогда двести за историческую ценность. И триста за стихи». Сразу притащил.
– Стихи я знаю. «Был Бревешковым – стал Красновым, был Прохором, теперь ты – Ким».
– Откуда узнал?
– Он сам мне на улице…
– Трепло! – прошипела Туманова, ударив кулачком с перстнями по подушке. – Трепло вонючее на дамских каблуках! И бабник страшный. Которая понравится – та и его. Как мой… А стихи писать умеет…
Они умолкли. Федор Иванович опять взял в руки рамку с литографией.
– А что, твой Краснов – боится грехов своей молодости?
– У него и сейчас их хватает. Только теперешние способствуют карьере, а старые могут отразиться…
– Так, наверно, все давно известно там, где интересуются. И о папаше Бревешкове, и о верном сынке.
– Может, и знают. А может, и не всё. Может, знают, а делают вид, что не знают. А тут как пойдет такая легенда про сундучок, и не хочешь, а придется заинтересоваться. В анкетах он писал кое-что, а от меня, когда ухаживал, утаил.
– Оч-чень интересно, – задумчиво сказал Федор Иванович.
– Хочешь, приятное тебе скажу? Ваши биологические дамы все время держат тебя на прицеле. Наблюдают и делятся. Тут мы недавно с Леночкой о тебе хорошо потолковали. С маленькой этой, с Блажко. Что у меня тогда с Троллейбусом была. По-омнишь?
– Кажется, припоминаю…
– Все расспрашивала, откуда я тебя знаю, да каков ты с изнанки, был ли женат? Был ли женат!
– Она должна на меня смотреть как на пугало. Ведь я здесь отличился!
– Да, Федя, ты отличился. Мы об этом тоже говорили. Она сказала: «У нас некоторые считают, что он опасен. Я тоже сначала так думала». Я как почувствовала этот ее интерес, сразу стала на твою защиту. «А что, – говорю, – он должен был делать? Это же его служебный долг! Вот полковник у нас есть из шестьдесят второго дома, Свешников. Что же ему – в адвокаты теперь? Кто-то и там нужен. На то и щука в море, чтоб ваш, детка, карась не дремал!» Видишь, как я за тебя. Цени-и!
– Да-а… Щука – это ты хорошо. Это очень лестно.
– А почему ты, Федяка, до сих пор не женился?
– Армия и война. Я ведь только в прошлом году бросил костыль.
– Ну, я тебя здесь женю. Побудешь еще месяца три – жену в Москву увезешь. А меня ты должен пожалеть, слышишь? И пресечь этого поганого поэта. Чтоб не распространялся.
– А что тебе этот Краснов?
– Сначала стань женщиной, потом попади в мое положение, тогда поймешь. У меня даже сына нет! Сейчас это для тебя – семь печатей. Хоть ты и понимаешь добро и зло. Так и не рассказал мне про свое историческое доказательство. Дядику Борику рассказал, а мне нет.
– Ну, здесь все совсем просто. Только того, что под носом, никогда не видят. У нас говорят об относительности добра и зла. Мол, в одном месте это считается злом, а в другом – добром. Вчера – зло, сегодня – добро. Энциклопедия, словари, учебники – все так. Но это все далеко, далеко не так. Нельзя говорить «вчера», «сегодня», если о зле или добре. Что провозглашалось вчера как добро, могло быть замаскированным злом. А сегодня с него сорвали маску. Так что и вчера, и сегодня это было одно и то же. Всем видное вчера зло может перейти в наши времена и остаться тем же злом, но наденет хорошенькую масочку и будет причинять страдания. Был Бревешковым – стал Красновым, чувствуешь? А дурачки будут думать, что перед ними сплошная справедливость, чистейшее добро. Практика жизни установила, Антонина Прокофьевна, точно установила, что зло и вчера и сегодня было и будет одно и то же. Нечего запутывать дело! И вчера и сегодня оно выступало в виде умысла, направленного против другого человека, чтоб причинить ему страдание. Практика жизни с самых первых шагов человека во всех делах ищет прежде всего цель делающего. Я бы сказал – первоцель. Она смотрит: кто получает от поступка удовольствие, а кто от того же дела страдает. С самого начала начал – три тысячи лет назад в самых первых законах был уже записан злой умысел! Злой! Он уже был замечен человеком и отделен от неосторожности, в которой злого умысла нет. И этот злой умысел так и переходит без изменений из столетия в столетие, из закона в закон. Вот это и есть факт, доказывающий историческую неизменяемость зла. Безвариантность, как говорит Вонлярлярский.
– Я не согласна, Федя. Раб восстает против эксплуататора и убивает его. Он причиняет страдание, а прав!
– Нет, Антонина Прокофьевна. Он освобождается от своего страдания, причиненного ему злым умыслом рабовладельца. У Гоголя есть атаман Мосий Шило. Когда турки захватили его вместе с казаками в рабство, он прикинулся верным слугой паши, и настолько, что свои возненавидели его. А когда вошел в полное доверие, отпер замки на цепях прикованных к галере казаков и дал им сабли, чтоб рубили врага. Все, что делал Мосий Шило, имеет знак плюс. Потому что этому предшествовало страдание, причиненное казакам, которых турки захватили в рабство и морили голодом. Так что раб прав, Антонина Прокофьевна! Эти отношения можно даже математически выразить. Если переносишь член уравнения с правой стороны на левую, он меняет знак. Что было здесь минусом, там – плюс!
– Дай обдумаю. Ага, уравнение… Все правильно. Знаешь, почему я об этом обо всем тебя спрашиваю? После той нашей беседы я все пробую приложить… Я под твоим углом зрения, Федяка, рассматриваю своего остолопа, все его поведение…
Она умолкла. И Федор Иванович молчал, только двигал бровью.
– И я нахожу, что он всегда был редкая сволочь. Не стал в результате воспитания, а вопреки ему всегда стойко пребывал самим собой. Такой ухажер – иногда был как сахар. Но всегда ждал условий для проявления подлости. Я тебя должна, Федяка, предупредить. Как бы он тебе… не причинил страдания. Он ведь там, у вас, работает.
– Знаю, Антонина Прокофьевна, уже давно почуял. А зачем он мячик тискает?
– О-о, это у него серьезное занятие. Кулак развивает. Ему же нужен кулачище, а он у него с изъяном. Давай-ка, Федя, налей… Залью свои угольки…
И еще прошли сутки. В химическом стакане теперь кипела буря – там бился о стенки плотный рой, по дну стакана скакали и сталкивались десятки бескрылых мушек. На третий день в институте, проходя мимо цитологической лаборатории, Федор Иванович увидел через открытую настежь дверь Елену Владимировну и, как всегда в последнее время, прохладно, мимолетно кивнул ей. Кивнула и она и продолжала свой разговор с молоденькими лаборантками. Больше он ее в этот день на работе не видел. Идя домой, он ломал голову: придет ли? Ведь приглашение он сегодня не повторил. И еще: нужно ли купить цветы? Нет, после всего, что ему стало известно, нельзя. Это вызовет недоумение. Она так хорошо умеет пожать плечиками. Конфеты? Это то же, что и цветы…
Он все-таки купил небольшую коробку сливочных помадок, белый батон и триста граммов масла – все, что нужно для холостяцкого чая. Придя домой, он, чтобы не было похоже на свежую покупку, съел несколько помадок и не почувствовал их вкуса. Оставшиеся встряхнул в коробке. Все припасы спрятал в письменный стол, поставил на электрическую плитку полный алюминиевый чайник, закурил и лег на койку. Выкурив одну папиросу, тут же взял другую. «Вот как неожиданно попался! – подумал он. – Прямо заболел! – И замер, усиленно дымя. – Сейчас придет – надо опомниться, взять себя в руки. Надо выстоять этот единственный и последний раз. Стригалев хороший человек, он сильно похож на того, на геолога. Как бы от его имени явился получать долг. Подбивать под него клин – позор и свинство, и вообще невозможное дело. И потом, здесь будет действовать автоматика – там ведь тоже понимают, и чем больше будешь навязываться, тем отвратительнее предстанешь. Клин! Тьфу!» – Он мысленно даже плюнул себе в физиономию и потянулся за третьей папиросой.
– Да, да! – Он вскочил с койки, услышав легкий стук в дверь, и бросился открывать окно, чтобы вытянуло дым.
– Это я, – сказала она, входя, как врач к больному, – серьезная и официально-приветливая. Быстро огляделась, поставила на стол флакончик из-под духов – с эфиром. Жестом пригласила приступить к делу.
– Вот они, – сказал Федор Иванович, ставя на стол химический стакан с мушками. – По-моему, и так уже видно, что монах прав.
– «Видно» – это еще не доказательство. Вот когда мы подсчитаем… Я уже десятки раз считала и каждый раз… Всегда подхожу к этому подсчету как к чуду. Это «один к трем» – всегда руки дрожат!
– У меня тоже что-то вот тут… – Федор Иванович показал туда, где у него была ямка между шеей и грудью. – Я-то никогда еще не считал. Скажу вам, что вообще я впервые буду держать в руках… видимо, настоящие объективные данные.
– Видимо? – спросила она, поведя на него повеселевшими глазами. – Хотя да, вы ведь не верите, вам надо знать. Мы их сейчас усыпим. – Она наклонила флакон над ватой в горловине стакана. Пряно запахло эфиром. – Капнем им сейчас… Есть у вас чистая бумага? Подстелите скорее вот сюда. Вот так…
И, вынув из стакана вату, она вытряхнула на белый лист мгновенно уснувших мушек, похожих на горсточку проса.
– Вы прово́дите эксперимент – вы и считайте.
Федор Иванович начал передвигать мушек кончиком карандаша, отделяя крылатых от бескрылых.
– Сорок восемь, сорок девять… – шептал он, шевеля бровью и сопя.
– Побыстрее, а то начнут просыпаться!
– Девяносто две, девяносто три… Крылатых девяносто восемь!
– Запишите – и крылатых обратно в стакан. Вату сразу на место. Считайте бескрылых!
Бескрылых оказалось тридцать четыре.
– Всего сто тридцать две, – сказала Елена Владимировна. – Теперь пишите. Умеете пропорции составлять? Сто тридцать два относится к тридцати четырем, – тихонько загудела она, почти касаясь щекой его уха, – как четыре к иксу.
– Да, да… – кивал Федор Иванович. – Да. Икс получается – один и три сотых.
Высчитали и долю крылатых мушек – получилось две целых и девяносто семь сотых.
– Ну вот. Теперь вы своими руками сделали «один к трем». – Елена Владимировна откинулась и посмотрела на него прямо – в упор, через большие очки. – Три сотых – это можно не считать. У крылатых могли погибнуть два яичка…
– Да, понимаю, Елена Владимировна, понимаю ваш взгляд, – сказал он, краснея. – Спасибо. Больше ничего не могу сказать…
Тут захлопала крышка чайника. Федор Иванович выдернул шнур из розетки. Помолчав, побарабанив пальцами по столу, он сказал:
– Я собирался чай пить. Не разделите со мной?
– А если не разделю?..
– Н-не знаю, что и сказать. Такой вариант не был предусмотрен.
– Вы какой-то в последние дни… Исчезаете как-то. Вот сейчас – получили что надо, свои достоверные данные, – и сразу исчезли, нет вас. Вам не наговорили про меня ничего?
– Н-нет. Я забыл вам отчитаться за свой визит к Ивану Ильичу. Микротом я отнес, он был очень рад, и мы хорошо поговорили. Наверно, будем друзьями. Если примет мою дружбу. И даже если не примет… я всегда буду ставить его интересы выше своих… Он вернул вам портфель?
– Я больше не могу-у… – вдруг протянула она жалобно. – Ну что это вы! Прячетесь, слова всякие. Отчет какой-то… Как не стыдно, я, вот видите, зашла гораздо дальше, чем вы. Давайте помиримся! Ну давайте помиримся, Федор Иванович! И опять начнем заниматься ботаникой!
– Сначала объяснимся. – Он с прохладной благосклонностью посмотрел ей в глаза и вдруг заметил, что рука его сильно трясется. – Объяснимся. Вы мне предлагаете дружбу…
– У нас же была… Я предлагаю ее воскресить.
– У меня условие: без всяких боевых заданий. И открытость!
– Некоторые вещи я не могу вам…
– Во-от! Начинается! Вы кто? Кот – вот кто вы, мягкий кот, живущий сам по себе!
Она широко раскрыла веселые глаза.
– Вы тоже полны таинственности. И умеете ни за что обижать.
Вместо ответа, Федор Иванович достал из письменного стола две чашки и блюдца, выложил коробку с помадками и батон. Он заварил чай в круглом белом чайнике и стал разливать кипяток и заварку по чашкам, а она молча следила.
– И дружба бывает тоже страшно ревнива, – сказал он, вдруг резко обернувшись к ней. – Знаете, что вы слышите сейчас? Друга ропот заунывный. Если нам удастся что-нибудь воскресить, то я вас уже не отдам никому. Вцеплюсь и не отдам! И не позволю больше ни с кем водить загадочные… всякие непонятные дела. Подумайте, я серьезно.
– Мне не о чем думать. Не о ком… – И она тихонько положила на его руку свои легкие, очень маленькие, как у девочки, пальцы, шершавые, как картофельная кожура. – Это ничего? Я вам не помешаю хозяйничать?
– Нет, – сказал он. В этот миг кривая их отношений, вся состоящая из замысловатых зигзагов, вдруг ринулась вверх по лихорадочной восходящей – к какому-то ужасному обрыву, – она не может ведь так восходить все время, так не бывает. – Нет, – повторил он, боясь шевельнуться, – не помешаете. Я и одной могу…
Он крепко прихватил указательным пальцем ее пальцы – чтобы оставались на месте – и очень ловко стал распоряжаться свободной левой рукой. Подвинул к Елене Владимировне ее чашку и коробку с помадками.
– А вам удобно будет пить? Одной-то рукой…
– Какие уж тут удобства. – Она стала тише и мягче. – Если такие жесткие условия. Прямо кабала…
– Условия жесткие, и я на них настаиваю. – Он сказал это с дрожью. Он отчаянно в этот момент ее любил, забыл обо всех своих установках. Она, конечно, видела все, боялась посмотреть на него.
– Когда-нибудь я эти условия приму. Может быть, скоро. Есть обстоятельства, Федор Иванович, существовавшие до вашего появления у нас… – Говоря это, она сильнее нажала на его руку. – Ваш отдаленный голос должен бы вам сказать, что в таинственных делах кота для вас нет никакой опасности. Говорить вам я ничего не могу, вы сейчас же произведете расследование, и окажется, что я вру. Так что придется вам согласиться на временное ослабление режима…
Она допила чашку и с мягкой настойчивой силой отняла свою руку. На руке были часы.
– Уже девятый час. Я должна идти…
– Я провожу вас, – сказал он, откашлявшись.
– Пойдемте… Этих мушек я беру с собой. Не хочу их убивать.
Они вышли на крыльцо. Уже горели желтые фонари. Среди быстро густеющей вечерней синевы темнела хмурая туча парка. Елена Владимировна потянула своего спутника за рукав, они почти перебежали открытое место и в теплом мраке под деревьями сразу замедлили шаг. Рука Елены Владимировны вкрадчиво забралась под его руку, и он чуть не умер от волнения. Но, сделав несколько шагов, оправившись от этой раны, он сам нанес себе следующую: он обнял ее за то место, о котором мечтал, – за самое тонкое место, где пояс халатика. Хотя нельзя было этого делать. И обнял так, как мечтал, – коснулся пальцами своей груди. Он почувствовал: Елена Владимировна вся напряглась, как от удара.
Свободной рукой он взял ее за руку, и они молча побрели куда-то во тьме, спотыкаясь о корни.
– Леночка! – шепнул он ей прямо в волосы, туда, откуда шел запах свежего сена и полевых цветов.
Они остановились. Федор Иванович не мог уже оторваться от этого сена и цветов. «Леночка!» – шептал он, все сильнее поворачивая ее к себе, и осторожно поцеловал – сначала пустое пространство, потом очки, потом что-то маленькое, живое и горячее – это были губы. Он так и припал к ним, но тут ее руки с неожиданной силой отбросили его.
– Тьфу! Ужасно! – Волны отвращения сотрясли ее. – Какая конюшня! Бр-р! Вы курили! – закричала она со слезами, отплевываясь. – Не думала никогда, что это такая гадость!
Они прошли молча несколько шагов.
– Ничего себе угостил! – Она опять содрогнулась. И добавила с сухим смешком: – Ну и ну… Первый поцелуй!
В убитом молчании Федор Иванович поплелся за нею через парк, чуть различая впереди себя в темноте маленькую сердитую тень. В поле Елена Владимировна ускорила шаг – она спешила куда-то. Не проронив ни слова, они прошли мост, зашагали по освещенной улице. В арке, над которой висел чуть различимый во тьме спасательный круг, Елена Владимировна остановилась:
– Дальше я пойду одна.
– Елена Владимировна! Вы меня не простили? Вы не умеете, оказывается, прощать.
– Вот как раз и умею. Это вы оказались не на высоте – накурился гадости и пошел провожать. Я-то прощать умею. – Оглянувшись по сторонам, она коснулась его щеки детским поцелуем. – Вот так! Теперь смотрите: здесь черта. Ее никогда не переступайте. Пока не разрешу.
– Но я могу к поэту…
– К поэту? А зачем вам к нему? Ну хорошо. Не переступайте после шести вечера. Может плохо кончиться для нас обоих.
– Подчиняюсь. Согласен. Вам известно, Елена Владимировна, что был такой Миклухо-Маклай? Путешественник.
– Был, знаю…
– Он высадился на острове, где жили воинственные папуасы. И лег на берегу спать. Без оружия. И этим покорил туземцев.
– Значит, я воинственный папуас? – Она напряженно засмеялась и поднесла близко к очкам часы. – И вы хотите меня покорить?
– Как Миклухо-Маклай. Вы можете таиться, а я буду открытым. Лягу на берегу спать, несмотря на вашу подозрительную деятельность. Может быть…
– Хорошо, папуасы уже вас простили и покорены. Я бегу, ложитесь спать, спокойной ночи.
И, махнув ему рукой, она побежала в арку. Вскоре близко зарычала пружиной и хлопнула дверь подъезда.
…Федор Иванович остался стоять перед запретной чертой. Она представляла собой границу между новым асфальтом тротуара и более низким и старым асфальтом двора. Он не мог оторвать глаз от этой границы. Ему хотелось пересечь ее и броситься вдогонку за Еленой Владимировной. Но он тут же понял, что она уже далеко, ее уже не догнать.
Медленным, тягучим шагом он побрел от арки к центру города. Пройдя два квартала, он спохватился и почти бегом вернулся назад. Да, окна поэта были по-прежнему темными. Даже чернее, чем другие темные окна дома. Федор Иванович, забыв о запрете пересекать черту, ринулся в арку, вбежал в подъезд поэта, и тяжелая дверная створка, зарычав, резко хлопнула за ним. Все сильнее чувствуя какое-то новое волнение, почти ужас, он одним духом взбежал по лестнице на четвертый этаж и остановился перед черной дверью с бронзовыми кнопками. Глубоко вдавив красную горошину звонка, он стал ждать. За дверью не слышно было ни звука. Он опять позвонил, держал палец на кнопке с минуту. Тишина за дверью пугала его. Приложив ухо к холодной искусственной коже, он затаился. Ему показалось, что за дверью кто-то ходит, он даже различил что-то похожее на человеческие голоса. Еще раз нажал кнопку и еле услышал где-то вдали серебристую нитку звонка. Он три раза раздельно ударил в дверь тяжелым кулаком. Подождал и еще ударил несколько раз.
– Вы чего здесь дверь ломаете? – раздался над ним глухой, воющий голос. Повеяло водкой.
Он оглянулся. Позади него стоял громадный мужик в белой майке, обтянувшей колоссальную жирную крапчатую тушу. За его спиной была открыта другая дверь – это был сосед Кондакова. – Чего, говорю, здесь?.. Что разоряешься? – недобро спросил он. – Не видишь, человека нету дома?
– Мне срочно нужен поэт Кондаков.
– Утром приходи, получишь своего поэта. Весь подъезд поднимаете своим стуком. То старик стучит, то молодой…
Федор Иванович понял, что ему здесь делать нечего. Легонько сбежал по лестнице – на третий этаж, на второй… Оглянулся. Кудлатая башка смотрела на него сверху, светясь любопытством и смехом.
– Давай, давай! Чего тут… размышляешь…
Выйдя из арки, Федор Иванович остановился. Потрогал лоб: ему показалось, что у него начался жар.
– Ты чего остановился? – послышался где-то вверху над ним дымчатый бабий голос. Федор Иванович поднял голову. На балконе за спасательным кругом маячило голое пузо Кондакова, угадывался халат. – Иди, иди куда шел!
– К тебе я шел! – крикнул Федор Иванович и побежал в арку, влетел в подъезд.
Он несся наверх, чтобы сломать черную дверь, ободрать на ней всю кожу. Но дверь была открыта. Завернутый в свой малиновый халат, добродушно улыбаясь, в прихожей стоял Кондаков. За его спиной с ухмылочкой двигался его нечесаный сосед в белой майке.
– Заходи, Федя. – Кеша пропустил его в первую комнату. Здесь горел яркий свет, на столе среди стаканов и бутылок была шахматная доска, уставленная фигурами.
Федор Иванович бросился к двери во вторую комнату, но Кондаков уже стоял у него на пути:
– Ты с ума сошел, Федя! Туда нельзя.
Федор Иванович хотел было отодвинуть поэта, но Кеша шире расставил ноги.
– Только через мой труп. Вернее, через твой труп.
И взглянул на своего соседа в майке. Тот прошел между ними к столу, нечаянно оттолкнув Федора Ивановича, и, сказав «извиняюсь», налил себе полстакана какого-то вина и выпил.
– Ревнуешь? – мягко спросил Кондаков. – Счастливый человек! А я уже давно забыл, что такое ревность. – Он махнул рукой. – Старею. Одни деловые отношения. Выпей, Федя.
Федор Иванович страшным быком уставился на него:
– Почему это ты… Кто тебе сказал, что я ревную?
– Смотри-ка! Он правда ревнует! – Кондаков захохотал. – Дурачок, у меня никого нет! Пусть я плюну тебе в глаза, если вру! Не веришь? Ну иди посмотри, кто там у меня. Убедись.
Он даже втолкнул его во вторую комнату. Федор Иванович увидел в желтом полумраке знакомую скомканную постель, бутылки и стаканы на полу.
– Разрешаю и под кровать, – сказал поэт, глядя на него с веселым интересом. – Валяй!
Федор Иванович покраснел. Потоптался, не находя себе места, и вышел в первую комнату.
– Чудак! Мы в шахматы весь вечер режемся! Вот с твоим тезкой, с Федей. Третью партию только что начали.
– Мой тезка… Его же здесь не было! – Федор Иванович, совсем сбитый с толку, рассеянно посмотрел на шахматы. Посмотрел внимательнее, и кровь с сильным напором прилила к корням его волос. Оба черных слона стояли на черных полях! Оба короля и белый ферзь были под двойным боем. Фигуры стояли неправильно – их расставили второпях кое-как, вовсе не для игры.
Федор Иванович почувствовал, что сейчас упадет. Посмотрел на Кондакова с тоской и молча вышел на лестницу, запрыгал по ступенькам вниз. Две нечесаные головы показались наверху над перилами, смотрели ему вслед. «Тезка» смотрел весело, Кондаков – с острым, воспаленным вниманием.
На следующий день он пришел в институт с опозданием – чтобы не встретиться с Еленой Владимировной. Неразбериха, которая поселилась в нем после вчерашних встреч с нею и с поэтом, заставила его сжаться и уйти в глубокую тень, чтобы там, выждав, постепенно прийти в себя. Сам он не был уже способен внести ясность в свои дела, все должно было прийти извне. Но так как ничто извне не приходило, он и на следующий день скрывался, и так прошла целая неделя. А потом он сообразил, что такое поведение может привлечь внимание, что оно может быть истолковано не лучшим для него образом. Поэтому он изменил линию и как ни в чем не бывало появился утром в комнате за фанерной перегородкой. Здесь за четырьмя тесно стоящими столами собрался почти весь состав проблемной лаборатории – по двое за каждым столом. Все листали журналы, приводили в порядок свои записи за лето. Федор Иванович зашел к ним как бы мимоходом и поставил на ближайший стол пухлый портфель. Елена Владимировна за дальним столом повернула к нему сияющее лицо и поздоровалась, задержав на нем взгляд, полный счастья. Потом отвернулась, видимо обиженная холодностью его взгляда, и больше Федор Иванович не видел ее лица, только темный лапоток на затылке, сплетенный из кос.
– Как там с планом на следующий год? – спросил Ходеряхин.
– Академик готовит нам особую программу, – сказал Федор Иванович. – К зиме получим. Пока – всем приводить в порядок материалы. Он сказал, что вся ваша работа пойдет в дело.
– И тех и других? – спросил Краснов.
– И тех и других, – ответил Федор Иванович, любуясь косо бегущими прозрачными волнами волос на его лысоватой голове.
Ходеряхин поднялся, чтобы выйти в коридор, и, достав по пути пачку сигарет, протянул начальнику:
– Федор Иванович, не закурите?
– Я не курю, – спокойно сказал Федор Иванович.
– Надолго?
– Навсегда.
Елена Владимировна вспыхнула и полуобернулась. И тут же пресекла это движение.
– Что это с вами случилось? – не отставал удивленный Ходеряхин.
– Почувствовал, что в жизни это – совсем ненужная, лишняя вещь, – ответил Федор Иванович. – Я сегодня решил выбросить все свои запасы. Потом сообразил: надо принести сюда; может, кому понравится. Я сам их набиваю. С донником.
И, запустив руки в портфель, он выложил на стол горку своих длинных папирос. Все курильщики подошли, взяли по папиросе. Шамкова, держа папиросу между двумя бледными пальцами, закурила и опустила голову, вникая во вкус табака.
– Я беру себе половину, – заявила Анна Богумиловна.
– Еще принесу, – сказал Федор Иванович. – У меня почти годовой запас.
– А что, бросить курить так трудно? – послышался голос Елены Владимировны.
– Детка, невозможно! – гаркнула Побияхо. – Кошмар! Адские муки. Как тебе попонятней объяснить… Это все равно что бросить любить.
– Бросить любить легче, – сказала Шамкова.
– Пра-а-авда? – пропела радостно Елена Владимировна, наклоняя голову вправо и влево.
– Я видел бросавших, – сказал Ходеряхин. – И сам бросал. А таких, кто не начал снова, не видел.
– Да-а-а? – пропела Елена Владимировна.
В полдень они встретились в дальнем конце длинного сводчатого коридора.
– Миклухо-Маклай, вы правда бросили курить? – спросила она, потянув его за локоть.
– Правда.
– Навсегда?
– На всю жизнь.
– А почему вы бросили курить? А-а?
Она все время тормошила его: потянет за локоть и оттолкнет. И можно было насладиться прекрасными мгновениями. Но слишком свежо помнился вечер у поэта. «Господи! – думал Федор Иванович. – Пусть ходит куда угодно. Сдаюсь! Только улыбалась бы и тормошила меня вот так!»
– Почему вы бросили курить? – настаивала она, дергая его за локоть.
– Это моя тайна. Выходите за меня замуж, тогда скажу – почему. А до тех пор не скажу.
– Ишь какой! А я не выйду, пока не скажете. Не могу же я кота в мешке…
– Это вы кот в мешке. Что делали вечером после того, как мы… Можете не отвечать, я соблюдаю установленный режим.
Мгновенно они договорились встретиться вечером. Когда стемнело, они нашли друг друга в парке на Второй Продольной аллее. Елена Владимировна сама, сжавшись, словно озябнув, скользнула под его локоть, их руки нашли свои места, и они быстро зашагали в ногу – в самую темень, уже не спотыкаясь.
Они долго шли молча и иногда крепко охватывали друг друга, словно убеждаясь, что наконец они нашли то, что долго не могли найти.
Потом Елена Владимировна вдруг спросила:
– Почему скрывались целую неделю? Почему даже не позвонили?
– Видите ли… Я вас… Я к вам очень привязан. Вы мне кажетесь такой необыкновенной… Если бы вы знали, как сейчас, когда я вам это говорю, как сейчас меня тянет изнутри тоска…
– А почему же не позвонили?
– Вот, дайте досказать. Вы запомнили все, что я вам сказал сейчас?
– Ну говорите, говорите.
– Так вот. Я заметил, что у вас что-то… Вы мне уже давно ужасно врете. И не заботитесь, чтоб было безболезненно…
Она как будто смутилась чуть-чуть.
– И не звоните. Ведь и вы не звоните! И мне кажется, что вы хотите, чтобы я нашел в себе силы… чтобы я сам нашел путь и отошел… Самой оттолкнуть меня – это меня унизит. Вы умная, этого не хотите допустить – и подстраиваете так, чтобы я ушел сам. Ну, я понял вас и помог вам…
– Вы очень ревнивы…
– Да, Леночка, да! Прямо умираю. Схожу с ума, и начинается прямо какой-то бред.
– Я заметила. Тяжело вам?
– Ох, Леночка. Я петушился перед вами сейчас. А найдутся ли силы…
– Не знаю, что с вами делать. Видно, все-таки да… Придется мне выходить за вас замуж. Когда открою все, вы поймете и все мне простите. Даже нечего будет прощать.
– Леночка, даже если будет что прощать… Я до такой степени попался… Для меня нет никаких путей отхода назад.
– Значит, бросить курить легче?
– Бросить курить – это пустяки.
– Но вы мне еще ни разу не сказали… это слово.
– Разве? По-моему, я его много раз кричал вам.
– Да-а-а? В общем, да, мне казалось иногда, что вы говорите…
– Прямые слова – это же не для выражения… этой вот… вещи. У нее свои слова. Эта вещь, если настоящая, любит тайну, темноту и иносказание. Когда идут по улице в обнимку – там этого нет. Или когда он при всех берет ее за холку и ведет…
– Вот и я так считаю. Все боялась. Думаю: если он меня посмеет когда-нибудь… за холку… Это будет все. Видите, как у нас с вами…
Они умолкли и долго медленно шли – в полной темноте.
– Как же я теперь буду вас называть? – вдруг спросила Елена Владимировна. – Федяка? Можно я буду называть вас Федор Иванович? Федор Иванович… Прямо мистика какая-то. Эти звуки я полюбила в первый день, до того еще, как узнала вас. По-моему, про имя так говорить разрешается… Этим словом… – Она сжала и отпустила его руку. – И потом, сейчас такая темнота…
Он хотел ответить и не смог: вроде как слезы собрались выступить, и он почувствовал, что голос его выдаст. Хотел поцеловать ее, но сил хватило только приложиться щекой к ее виску.
– Как хорошо! Вы теперь боитесь после того… После табака. – Она тихонько засмеялась. – Ничего, это хорошо. Вы – серьезный. И я тоже. У нас все будет серьезно.
Его голову охватили во тьме маленькие шершавые пальцы земледельца, и на все его лицо посыпалось множество легких, живых и горячих прикосновений.
– Ну как? – спросила она, переводя дыхание. – Помирились со мной?
– Ничего не понимаю, – шепнул он.
Бывает в любви зенит. И ночь зенита. И большей частью мы в лицо эту ночь не узнаём, она захватывает нас врасплох, и мы бываем не готовы к тому, чтобы принять ее всю в себя, рассмотреть и запомнить навсегда все ее мгновения. Сохранить в себе все, что можно. И потом она живет – уже в грустных воспоминаниях об упущенном, не увиденном, не оцененном…
В полночь, проводив Елену Владимировну до ее двери, Федор Иванович шел домой неверным шагом, как после легкой выпивки. Он еще не открыл для себя этого явления – зенит любви. Он об этой ночи еще вспомнит и будет отчаянно бить себя кулаком по голове. Но уже сейчас тихо надвигалась пора грустных воспоминаний. Пора, которая будет длиться всю жизнь.
«Почему я не кричал ей о том, что люблю? – уже отчаянно корил он себя. – Почему выдумал какую-то теорию о запретных словах? Теоретик! Почему послушно пошел провожать, почему не удержал до утра в парке? Почему водил все по темным местам – так и не увидел ее глаз, когда она произносила: „Можно я буду называть вас Федор Иванович?“ Даже не верится – она ведь сказала: „Эти звуки я полюбила…“»
В эту ночь у Федора Ивановича было еще две встречи. Первая – по телефону. Он пришел домой и, не гася света, растянулся на койке. Протянул руку к папиросам и отдернул. Минут через двадцать его оглушил телефон странным, пронзительным ночным звонком.
– Это ты? – Кондаков нервно хрипел и дышал почти рядом. – Уже пришел, темнила? Так скоро?
– А что?
– Я видел тебя с твоей дамой. Ты знай: если затаскиваешь даму в темный уголок, там обязательно стою я.
– Ошибаешься. Это была сослуживица. Поздно засиделись на работе, и я проводил ее.
– Не разочаровывай меня. А в темном уголке с кем был?
– Мы шли без остановок. Прямо к ее дому.
– Разве в ее доме нет уголков?
«Слава богу, что не затащил, – подумал Федор Иванович. – Он все спрашивает неспроста. Ловит».
– Я же говорю – сослуживица. Я ее доставил прямо к лифту. А ты что – завидуешь? У тебя голос…
– Неужели? Поменялись, ха-ха, местами? Так это ты к ней меня приревновал?
– Да нет же, Кеша! Это совсем другое дело.
– У тебя с ней как? Было?
– С кем? Я не отвечаю на такие вопросы.
– Встреча с вами вдохновила меня на стихи.
– Давай.
– Постой. Рано еще. Лучше скажи: это ты к ней тогда меня…
– Да нет же! К другой.
– А к кому? По-моему, ты был с ножом.
– Я вообще не ревнив. Одни деловые отношения. Старею…
– Ха-ха-ха! Он мне – мое вернул! А мог бы вполне приревновать. Я люблю таких маленьких. Конечно, и богатое, тяжеловесное сложение имеет свои… Но я люблю, когда маленький Модильяни.
– По-моему, у Модильяни все девицы рослые. И потом, все его девицы не умеют любить.
– Ни черта не понимаешь в женщинах. Или притворяешься. Модильяни сидит в каждой красивой женщине.
– Этот вопрос у меня не исследован так глубоко.
– Ты можешь себе представить маленького Модильяни? Ты на нее как-нибудь специально посмотри, когда она…
– Напрасно меня ловишь, Кеша. Я на нее никогда с этой точки… с этих позиций не пытался взглянуть. У нас исключительно деловые интересы. По-моему, когда работаешь вместе, настолько примелькаешься…
– Ты синий чулок. Или страшный притвора. Скажи мне, кто такой Торквемада? Тебя называют Торквемадой – ты знаешь?
– Кто тебе это сказал?
– А что, точно? Видишь, какая у меня информация.
– Н-да… Лучше ответь, почему это шахматы стояли не как у людей? Два черных слона – оба на черном поле…
– Ха-ха-ха! – залился Кондаков глухим хохотом. В его голосе все время звучал скрытый ревнивый интерес. – Говоришь, два слона? Этого тебе не понять, ты пить не умеешь. Когда мы с твоим тезкой хорошо выпьем, для нас все фигуры, которые тебе показались неправильно поставленными…
– Мне они не показались…
– Не знаю, не знаю. А что – на тебя произвело впечатление? Ревнивцу и пьяному – им всегда кажется. Все фигуры для нас, когда выпьем и садимся играть, стоят правильно. Сами же ставим. И партнер не сводит глаз. Мы обдумываем ходы и за голову хватаемся, когда партнер удачно пойдет. Представь, он мне вчера поставил какой мат! Я уже почувствовал за пять ходов. Он говорит: мат, и я вижу – безвыходное положение. И сдаюсь. И руку ему пожал. А как они в действительности стояли – черт их знает. Ни тебе, ни мне не узнать.
– Ну, ты все-таки поэт.
– Но если б ты видел свое лицо, Федя! Ты ее сильно любишь. Я ее знаю, хорошая девочка. Как ты ушел, я сразу сочинил стихи…
– Ну давай же!
– Вот слушай…
И новым, плачущим голосом Кондаков начал читать:
В руках – коса послушной плетью,
В глазах – предчувствие беды, —
Как будто бы на белой флейте
С тоскою трогаешь лады…
Я сердцем слышу этот вещий
Твоей безгласной флейты плач.
Но завтра снова будет вечер,
И ты войдешь, снимая плащ…
Нет, ты скажи, какую цену
Ты отдала за наш кутеж?
Какую страшную измену
На эту музыку кладешь?
Трубка замолчала. Они оба долго не говорили ни слова. Потом поэт угрюмо спросил:
– Ну как?
– Хорошо, – сказал Федор Иванович. Вернее, с трудом выдавил. – Почему флейта белая?
– Была сначала черная. Потом тихая. Тебя это задело?
– Я просто так. Просто подумал: в стихах не должно быть точных адресов.
– Ага, кажется, честно заговорил. Прорвало наконец. Значит, белая флейта – адрес точный? Давай дальше. Какой адрес будет менее точным? Черная флейта?
– Автору виднее.
– Опять ушел. Темнила…
Вот какая беседа по телефону произошла у него в эту ночь, и он не мог заснуть до утра. Хоть он и решил быть Миклухо-Маклаем и несколько раз уже заставлял себя, отбросив оружие, лечь на берегу опасного острова, сон все-таки не шел к нему. Поэт все в его голове перемешал, внес неразбериху.
Незаметно наступил рассвет, и за открытым окном в прохладе и пустоте вдруг зачирикали три или четыре воробья. Федор Иванович, крякнув с сердцем, вскочил с постели и вышел на крыльцо. Его словно окатило родниковой водой – так резка была утренняя свежесть. Чувствовался конец сентября.
Сжав кулак, он нанес несколько ударов в воздух – вверх, вперед и в стороны – и, сбежав с крыльца, бодро зашагал к парку. Эхо его шагов отскочило от каменных стен. Хоть чириканье воробьев стало дружнее, пустыня не просыпалась. Ни вокруг институтских корпусов, ни в аллеях парка не было видно ни одной человеческой фигуры.
«Модильяни… – думал Федор Иванович, стараясь понять причину ночного звонка Кондакова. – Он неспроста позвонил. Но при чем тут Модильяни? Модильяни передает в женщине то, что понятно в ней многим. Он лишает ее индивидуальности. Вынул из нее самый главный алмаз…»
И по свойственной многим мыслящим людям манере он тут же вцепился в мысль, которая еще только начала сгущаться, показала ему свой не совсем определившийся край. «Синий чулок… Как зло было сказано. Может, он это потому, что сам не может мыслить и беседовать в этом плане? А там требуют именно такого, более глубокого подхода… Потому как подход такой показывает и самого человека, который говорит… Тараканы-то надоели. Сегодня тараканы, завтра тараканы… И получилась заминка. Но я – какой же я синий чулок? Ведь я ужасно… Я не могу без нее!» – отдал он вдруг себе отчет. И с этого мгновения еще сильнее стал в нем этот бес. Тут же Федор Иванович как бы спохватился: «Ведь меня так ужасно еще ни к кому не тянуло! Вон ходят „маленькие и большие Модильяни“, и я, тупой, никак не реагирую. Значит, тут есть еще что-то». Он не мог представить себе, как это можно «иметь дело» с женщиной, которую не любишь смертельно. Как это могут с применением угроз, посулов, хитрости, насильно, за плату… Как это можно – «держать про запас». Странные существа! Как понять их чувства? Опять это существо из джунглей Амазонки, с зеленой шерстью, висящее вниз головой! Так же как не постигнешь никогда, что думает собака, как не вникнешь в ход мыслей идиота, – так непонятны были ему и эти люди. А Кондаков врет, что забыл, что такое ревность. Это все у него ораторское искусство. Великий маг лукавства. Его тоже никогда не понять! И то, что он о Модильяни говорит, – тоже неправда. Тоже врет. Маска. Вот в стихах он выдал, выдал себя. Странно, как люди непонятны друг другу. Какая скрытность! А еще о какой-то общности говорим. Она, всеобщая общность, могла бы быть, если б не было непрерывного предательства – маленького и большого. Если бы не было всюду «страстей роковых», заставляющих нас, краснея, делать то, чему нет прощения.
Так его понесло – от любви и желаний к неведомым материям, и он еще быстрее зашагал по бесконечной аллее.
Но Елена Владимировна вернулась и опять мягко взяла его за руку. «Нет, хорошо, что я с нею был в рамках, – подумал он. – Да и не мог бы! Она сама определяет мое с нею поведение. Но кто она такая? Может ли кто-нибудь еще читать ее иероглифы? Нравится ли другим прочитанное? А что она читает во мне?»
Вдали, в конце аллеи, пронизывая парк, горели, как струи розового сиропа, первые солнечные полосы. И в одной из полос что-то красное вспыхнуло и погасло – ее пересекла какая-то фигура. Кто-то спешил навстречу, шагая на длинных ногах, быстро увеличиваясь. Это был тонкий, гибкий, спешащий куда-то Стригалев в своем малиновом свитере. Слегка выкатив глаза, он смотрел вперед и вверх, вцепившись в мысль, которая бежала над ним по невидимому проводу.
Федор Иванович, еще не остывший от своих переживаний, отступил в сторону, и малиновый свитер пронесся мимо.
– Иван Ильич!
Троллейбус замедлил ход и остановился, приходя в себя. Узнав Федора Ивановича, Стригалев чуть заметно двинул щекой – он, похоже, совсем разучился широко, ярко улыбаться. Сделал пальцем жест: «Я давно хотел вам нечто сказать».
– Тоже, значит, Федор Иванович, ходите по ночам? Вроде меня…
– Да вот… Ночь какая-то. Так и не заснул. – Федор Иванович пошел с ним рядом.
– И у меня. Сувальды-то сдвинул с места… А тут попробовал еще предложить руку и сердце. Правда, то, что говорилось, понимал один я. Она, конечно, ничего не поняла из моей болтовни…
«И она все, все поняла», – подумал Федор Иванович.
– Но я-то увидел все. Можно ставить крест. Если бы что было, она бы сразу поняла. Ждала бы этого скрипа. Надо, надо ставить крест. – Троллейбус слишком долго смотрел на свой провод. – Тут он неумело улыбнулся и посмотрел в глаза Федору Ивановичу с доверчивой дружбой. – Ей – двадцать семь, а мне – сорок два. Пятнадцать лет разницы, Федор Иванович. Не тяните с этим делом.
– Сначала нужно определить, с кем я. А потом и жену искать. Среди своих.
– Вот-вот. Будете еще определять. Уж будто до сих пор не решили! Я вас давно зачислил в наш табор. К нам приходят только хорошие ребята. А уходят… Вот Шамкова перебежала. Как и следовало по объективному ходу… Глуповата. Все стало теперь на свое место. Шамкова – туда, Дежкин – сюда.
– Вот что только буду делать в вашем таборе…
– О-о! Бывшие ваши нам дело подыщут. Про «Майский цветок» вы теперь знаете. Когда-то верили, теперь знаете. Это я вашими словами. Теперь я хочу вас… именно вас ввести в курс одного дела. Именно вас. Я как раз собирался. Вы, я думаю, знаете про «Солянум контумакс»? Ну да, вы ведь во время ревизии…
Федор Иванович кое-что знал об этом знаменитом диком картофеле, найденном в Южной Америке.
– Я знаю этого дикаря, – сказал он. – Устойчив против всех рас фитофторы, против вирусов, ризоктонии, против эпиляхны… Против нематоды…
– Еще против чего? Не знаете? А колорадский жук?
– Ну, это еще не доказано…
– Уже доказано. Личинки на нем не развиваются, дохнут, но это все ладно, это в книжках есть. Прочитаете. Вы знаете, что он не скрещивается с культурным картофелем? Ну да, наш Касьян уже пробовал его воспитать. Сажал его в среду. Налетел и отскочил. Не с такой челкой к такому делу. На этого дикаря весь научный мир смотрит. Уже без надежды. Никому не удалось. А вот одному такому Троллейбусу… Помните в оранжерее? В горшке рос… Вам первому докладываю. Будете со мной…
– Я-то что. Разве что лаборантом…
– Дело почти сделано. Удвоены хромосомы! Что никому еще не удавалось. Уже второй раз ягоды снимаю. Как тут не завести два журнала – такая работа и в такой компании. Сейчас же сожрут. Затопчут, и ничего не останется – ни человека, ни работы. Только вам говорю. Вы думаете про скрип, про сувальды – верх доверия? Не-ет, Федор Иванович. Это не доверие, а так… излияние. Я вас наблюдал и теперь начну вводить в курс дела, у которого я в плену. Вот это будет верх доверия. Мало ли что случится. Кто побывал там, да еще не раз, тот становится умнее. Не все, правда. И выносит оттуда руководящее правило. Такую максиму. Если хочешь заниматься наукой, если у тебя в руках открытие… Если оно бесценное. Если ему что-то грозит… забудь о смерти. Поднимись над этим биологическим явлением. Страх смерти – пособник и опора всяческого зла. Отними у зла единственную его силу – возможность лишать свободы и жизни… Помните, как Гамлет, когда его ранили отравленной шпагой…
– Это вам кто сказал?
– Не важно – кто. Некто.
– Ну, значит, доверие неполное. Мне тоже сказали, потому и спросил.
– Мы оба знаем этого человека – вот и славно. А имя называть вслух не будем. Согласны?
– Хорошо.
– Так вот… Тут есть еще некоторый особый поворот. Гамлет, узнав о своей смертельной ране, перестал быть подданным короля. Он приготовился умереть, но перед этим в отпущенные ему две минуты жизни натворил много дел – разгрузил всю совесть. А у меня такой поворот: мне двух минут мало, ничего не сделаю, поэтому я и должен не умирать, а жить, что бы ни произошло. И двигать дело. И если я помру, тому, кто меня отравленной шпагой… убийце… это ему будет только казаться. Я и после этого буду жить, и меня уже никто не поймает, и я доведу дело до конца, что бы ни писали в своем журнале Касьян и Саул. Потому что меня уже будет не узнать. У меня будет ямка на подбородке, и звать меня будут Федор Иванович Дежкин.
Сказав это, Стригалев остановился и, глубоко втянув губы, уставился на своего избранника:
– Вы думаете, это у меня такая манера шутить?
– Нет, я все понял и уже пошел дальше. Есть тормоз: у меня же несколько своеобразная подготовка. Мне придется садиться за парту.
– У вас главная подготовка прекрасная. В нашем городе все мыслящие люди знают друг друга и общаются. Так что наблюдать нового человека легко. Мне известно из нескольких источников, что Федор Иванович ломает голову над приметами добра и зла. Чтоб меньше ошибаться в жизни. И будто уже напал на свежий след. И будто это очень серьезно. Его за это даже назвали Учителем. А кто ломает голову над такими вещами, тому я могу довериться. А что касается парты, Федор Иванович, то опять же: мне известно, что вы хороший ботаник. Это общее мнение. В земле тоже поковырялись достаточно. Книги читать умеете. Термины знаете. И я под боком буду. Хотя бы первое время. Пока шпагой не царапнули…
– Ну уж…
– Я разговариваю с вами серьезно. Так что выбор сделан на основании достаточных и достоверных…
Они оба засмеялись, глядя друг другу в глаза.
– Ну как? Я же знал, что вы согласитесь! – В голосе Стригалева уже звенела мальчишеская радость. – А дело-то какое! Дело-то как раз по плечу нашедшему ключ!
– Иван Ильич, я жду конкретной программы.
– Ну, во-первых, придется размножать новый сорт. Который на смену «Майскому цветку». И доводить еще сначала придется. Это так, мелочи, почти все уже сделано. А во-вторых, нас ожидает этот дикарь, о котором мы говорили. Это и есть самое первое. Тайна. Ради него и вся конспирация. Я даже не хочу вас знакомить с моими ребятами, которые, как и я… Беречь и беречь надо, у Касьяна везде глаза. Чтоб не повторилась судьба «Майского цветка». Если Касьян возьмет наши новые работы на вооружение – гибель всему и всем.
– Не возьмет. Не увидит.
– Мы говорили сейчас о сортах, которые увенчают некую нашу капитальную работу. Слушайте теперь о ней, об этой работе. Я еще год назад, Федор Иванович, затеял нечто и даже начал группировать факты… Давайте сядем вот здесь на лавку, вам придется писать. Вот вам мой блокнот… Вы меня слушаете? Вы думаете о чем-то другом. Между нами должна быть прямота.
– Я скажу. Я еще не пришел в себя от вашего сообщения. Как вы руку и сердце…
– Приходите скорей. Я давно научился встречать неожиданности. И вам надо этому научиться. Так вот, берите этот блокнот в руки…
«Э-эх! – горько подумал Федор Иванович. – Вот ты и забыл о своем скрипе и о сувальдах… Ученый!» И ему захотелось взять Стригалева за руку, помочь чем-нибудь. Стригалев опять прервал научную беседу, пристально и глубоко посмотрел:
– Вы готовы? Значит, так. Нам нужно его, Касьяна, одолеть. Убрать это бревно с дороги. В интересах общества, в интересах будущего. Поэтому пишите. Это вы вставите в свой план. Пишите так: «В материалах, оставшихся после разгрома формальных генетиков, есть много таких, которые дают возможность в относительно сжатые сроки поставить сравнительные исследования. Это будет чистое сравнение – половина работы уже проделана руками наших противников, предпринявших подобную диверсию против нашей науки, счастливо пресеченную в ходе недавней ревизии. Я отчетливо вижу – пишите, пишите! – что сравнение будет не в пользу вейсманизма-морганизма. Эта работа будет содействовать окончательному торжеству передовой мичуринской науки, идей Т. Д. Лысенко и К. Д. Рядно». Написали?
– Написал. Я сам об этом деле уже думал. Еще тогда, во время ревизии…
– Я увидел это сразу по вашим глазам! И сказал себе: вот подарить бы Библии еще один сюжет. Вроде Юдифи с Олоферном. Как она соблазнила Олоферна и отрубила ему башку…
– А кто же был бы Юдифью? – с внезапным подозрением спросил Федор Иванович, которого совсем сбили с толку его запутанные отношения с Еленой Владимировной.
– Да вы же, вы! Что это с вами? Вы возглавите всю работу! Подозрений это не вызовет. Мы с вами теперь заговорщики, у нас общая тайна. И я вам разрешаю со мной на людях не здороваться, выказывать по отношению ко мне всяческое пренебрежение. Говорите направо и налево по моему адресу: «Сволочь, схоласт, отшельник». Ночь, покров для злых намерений и дел, пусть будет теперь убежищем добру. Потому как что́ мы хотим сделать людям? Страдание? Учитель, отвечайте! Радость, радость мы хотим дать людям! Чудесные сорта! Убрать хотим бревно с дороги! Избавить от страха и ненужных забот. Это Касьян постоянно норовит, чтоб кто-нибудь страдал. А если мы и причиним страдание Касьяну, у которого вытащим из пасти чужой, захваченный кусок, то тут даже математика будет на нашей стороне. Что говорил один учитель нашей Антонине Прокофьевне?
– Уже знаете!
– Такие вещи имеют крылья, Федор Иванович. Так что будем вместе переносить член уравнения с левой стороны на правую. Ну, как я? Усвоил на четверку?
– Все правильно. Пять баллов.
– Тогда расходимся. Блокнот отдайте мне. Страничку выдерите, она ваша. Сейчас Вонлярлярские выбегут. Я найду вас, когда будет надо.
И, бодро подкинув вверх плоскую руку, Стригалев прибавил скорость и стремительно зашагал вперед по пустой аллее. Радость играла в каждом его движении.