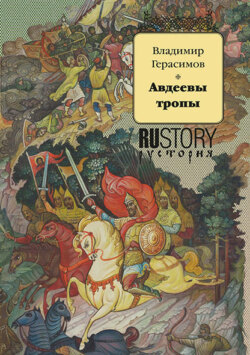Читать книгу Авдеевы тропы - Владимир Герасимов - Страница 5
Книга 1
Часть 1
Княгиня Агафья
ОглавлениеКнягиня часто просыпалась середь ночи и подолгу лежала с открытыми глазами, не зажигая свечи. Ждала, когда утро станет разгонять сумрак в её княжеской спальне-ложенице. А там, если морозное утро, жди и солнечного лучика. Отчего в последнее время привязалась эта проклятая бессонница? От старости ли, от тревог ли? Того и другого достаточно. Пятый десяток перевалил. Намедни в зеркало глянула – ужаснулась. До сего времени как-то не задумывалась, а тут и кожа в морщинках, и глаза усталые. Хотя нет, впервые ужаснулась этой мысли не по себе, а по князе. И в тот день, когда привели ему монаха-рязанца. Устроил ему тогда Юрий дотошный допрос, пошто он по городу распускает слухи о каких-то непобедимых монголах.
Стояли они друг перед другом: гневный князь, огромный, красивый, с вьющимися, как у юноши, волосами, с подёрнутой сединками бородой. А перед ним – смешно сказать – плюгавый коротышка-горбун в чёрном поясе. Только вот глаза у него были бесстрашные, сверкающие. И, несмотря на его презренный вид, казалось, идёт у них борьба на равных.
– Княже, – полушептал, полухрипел монах, – на что надеешься, отсидеться, что ли, думаешь? Монголы, яко прузи[4], идут неисчислимы. Они твою крепость и не заметят.
Князь Юрий усмехнулся:
– Вот повисишь, грязный кобель, на дыбе, по-иному будешь молвить!
– Коли бы дыба твоя спасла мир, с молитвою бы пошёл на неё. А так… – монах махнул рукой, – и впервой, что ли, нам, сирым, на дыбе висеть.
– Пошто ты такой дерзкий? – удивился князь. – Аль не хочешь жить спокойно? Пошто дразнишь меня?
– Могуч ты, княже, да не мудр, в этом твоя и погибель, – горько вздохнул монах. – Разве нонче где можно отыскать спокой? Сердце кипит от боли – кончается земля русская. Мне-то всё едино, где подыхать: на твоей ли дыбе, под конём ли монгольским – маленький я человечишка. А тебе власть Богом дадена, тебе ни Господь, ни народ не простит, коли Руси разорённой быти!
Вспыхнули глаза князевы недобрым огнём, сломались губы в злой усмешке:
– Учить меня вздумал, ты… – Юрий не мог найти слова, соответствующие его гневу. Кулаки сжал:
– В поруб[5] собаку! В поруб!
И обронил тихо, как будто бы только для монаха:
– Поутру казнить за дерзость и смуту.
Долго успокаивала княгиня разбушевавшегося мужа, уговаривала не обращать внимания на монаха разбойного. Сама же удивлялась, почему Юрия задел за живое бред этого холопа.
А он метался по ложенице, потом остановился перед Агафьей, положил ей руки на плечи, а в глазах смятение:
– Не бред это, Агафьюшка, истину говорил монах, потому-то и обидно. Идёт на нас войско неисчислимое, никем не битое, сметает всё на своём пути…
Вот тут-то Агафья впервые и ужаснулась, как же стар её суженый: вот и морщины на лице, и борода-то не посеребрённая, а седая. Неужели и дух ослабел? Но нет. Заходили желваки, вскинулись брови:
– Вот только врёт он, что Володимир, крепость наша, не устоит. Мы не чета Рязани.
Встревожилась Агафья. Конечно, Владимир – это не Рязань, но ведь Москва не сравнима с Рязанью, худенькая крепостица, а там сидит князем Володюшка, их младшенький. Шестнадцатый годок пошёл ему всего лишь. А ну как монголы эти к Москве пойдут! Уж как противилась Юрию, когда отсылал сынка из Владимира, уж как отговаривала. А тот своё, что должен княжич с малолетства привыкать к власти и самостоятельности. Но Володюшка совсем иного склада, чем отец и братья Мстислав и Всеволод. По душе им княжеское величие да бранная слава, а меньший – тихонький, ласковый, застенчивый. Всё о чём-то думает, читает. Перед отъездом, при прощании, дал ей свой вышитый белый платочек:
– Не печалуйся обо мне, мама, посматривай на платок. Коли белый он, значит, у меня всё хорошо, а коли со мной что стрясётся, тоже узнаешь: почернеет он.
Страшно стало Агафье от таких слов, целую неделю проплакала она над платком. Неужто сбудутся Володюшкины слова?
А князь, как будто поняв думы жены, сказал:
– Надо Всеволода с дружиной к Москве подослать, а самому отправляться в Ростов к Васильку, сыновцу[6], силы собирать.
Долго думать Юрий не любил, и вскоре терем княжеский почти опустел. Агафье не привыкать к походам княжеским. Сколько раз приходилось надолго оставаться одной. И потихоньку жизнь вошла в своё русло. Внуки, хозяйство. Не могла княгиня оставаться без дела. Да и заботы отвлекали от тревог. Но потом случилось то, от чего до сих пор болит сердце. Вернулся Всеволод, разбитый под Коломной, вернулся с несколькими дружинниками. И сам он не в себе. Заперся у себя в ложенице, не выходит, никого не видит и всё только молится. Как подменили сына. Конечно, он и раньше – не чета Мстиславу – был набожным, но не так, как нынче. Главной его забавой была охота. А сейчас всё оружие, что висело у него по стенам ложеницы, повыбрасывал за дверь. Себя запустил. Ходит сутулый, с распущенными волосами. И только молится и молится. А ведь раньше был полным, румяным, жизнерадостным. Пыталась Агафья расспросить у него что-нибудь о Москве, о брате, но толку никакого не добилась. Он и своим дружинникам под страхом смерти запретил рассказывать о Коломенской битве и вообще о походе. Чувствовала Агафья, что есть какая-то страшная тайна, но даже слезами не могла вымолить у Всеволода ответа.
Постепенно в ложенице светлело, подобно тому, как в чай добавляли молоко. Всё принимало своё ясное очертание, и густые, тягостные думы разбавлялись заботами о будничном. Кликнула Агафья сенную девку, чтобы одеться. Поклонилась девка и доложила, что к ней просится княжич Боренька.
– Что ему, пострелёнку, не спится? – удивилась Агафья и, когда оделась, велела позвать внука.
Боренька вбежал, как ветер, с шумом распахнув дверь, бросился к бабушке, обнял её и с укоризной промолвил:
– Что ж мы в Суждаль не собираемся? Ты обещала, что поутру поедем?
Тихонько ахнула Агафья, прижала Борю к груди, погладила по голове.
А и вправду запамятовала с этими думами проклятыми! Поди, не спал всю ночь, думал о поездке. Уж и оделся – рубашечка, сапожки. Взяла Агафья правую руку сухую, больную сызмальства, прижала к губам. Сколько свечек было поставлено за восемь лет Бориной жизни, сколько лекарей врачевали мальчика, и всё не впрок. А княжич часто, весь в слезах, спрашивал бабушку: «Какой же я буду князь, если не смогу держать меч в руке?» Успокаивала Агафья внука и говорила, что найдётся лекарь и вылечит ему руку. Жалела княгиня его: мать у Бореньки умерла родами, а отец Всеволод внимания на него не обращал, был всё занят своей новой женой, а теперь после Коломны вообще ни с кем не общался. Хотела выписать Агафья лекаря заморского, но прослышала, что появился в Суждале монах-старец, что он будто пользует всякие недуги. Послала она за ним. Но нравный оказался старик. Не поехал в столицу. Разгневалась, было, княгиня, хотела силой привезти старца. Но потом пораздумала: как бы не обиделся монах, хуже бы не сделал. Решила ехать, к тому же и думы чёрные поразвеются.
– Коли обещала, Борюшка, то поедем нынче. Сбирайся, – Агафья погладила внуку вихры.
Тот порывисто обнял бабушку, расцеловал, потом испытующе посмотрел ей в глаза:
– Излечит меня старец, да, бабонька?
– Коли других лечит, что же тебя не излечить.
Внук, весело топоча сапожками, выскочил из ложеницы. А она пошла распорядиться о закладке саней. Поездка не на один день. Неизвестно, сколько времени старец будет пользовать. Об одежде надо подумать. Да и охрана какая-никакая надобна. Мало ли татей по дорогам шастает.
Но воевода Пётр Ослядюкович, услышав приказания о дружинниках, насупился, сдвинув брови. На его и без того заросшем лице не стало видно ни глаз, ни губ.
– Не можно, матушка Агафья Всеволодовна, ехать, опасно больно.
Княгиня гневно сжала узкие губы, лоб её покраснел:
– Что же это приключилось такое, что ехать мне не даёт?
– Видели люди почти у стен града разведку поганых…
Сощурила княгиня презрительно глаза, усмехнулась:
– С каких пор ты врагов опасаться начал?
Пётр Ослядюкович нахохлился, его крупное тело сжалось, напряглось:
– Не могу я пустить тебя, матушка, на верную погибель. Князь Юрий Всеволодович велел держать мне оборону, если что. Дружинников у меня раз и обчёлся. Для надёжной защиты с вами в Суздаль надо посылать целый отряд…
Задохнулась княгиня от гнева, аж губы её задрожали:
– Ты… мне указывать!.. Как смеешь? Я сказала княжеское слово, больше говорить не намерена! Иди!
Воевода поплёлся к двери. А княгиня раздумалась. Рассудком она понимала, что ехать и в самом деле опасно. Дружинников в городе и вправду немного. Часть с князем уехали. Многие пали под Коломной. Но чувство кипело вовсю. Как, её, княгиню, ограничивают? Она спрашивает разрешения у какого-то воеводишки. А он смеет ей отказывать. Невиданное дело.
Поднялась княгиня в свою ложеницу и в раздражении ходила взад и вперёд. Кто-то было заглянул, осведомился, собираться ли. Она зло, с каким-то неестественным визгом, закричала:
– Я ничего не отменяла!
Никак не могла успокоиться. А тут ещё воевода опять вошёл и вместо доклада о готовности охраны попросил принять какого-то дружинника. Княгиня помолчала, но потом кивнула и добавила:
– Я жду! Не забывай приказ!
Пётр Ослядюкович склонился почтительно и вышел, не затворяя двери, а в проёме появился рослый дружинник в трёпаном кафтанишке, в лаптёшках, единственным богатством которого был меч на поясе. Он поклонился княгине и, как только выпрямился, она, взглянув в его лицо, ужаснулась. Оно было изуродовано шрамами и рублеными ранами.
– Где тебя так? – голос её дрогнул.
– В битве под Коломной, матушка княгиня, – ответил он, снова поклонившись.
– Как звать-то тебя?
– Иванка.
– Чего же ты хочешь, воин? – уважительно промолвила Агафья Всеволодовна.
– Просьбицу имею к тебе, матушка. Разреши зятю моему в дружину вступить. Он охотник. Под Владимиром жил. Наднесь горе великое у него приключилось. Украли разведчики поганых дочку восьмилетнюю. А жена, сестрёнка моя, с ума после этого сошла. Так у него душа огнём горит, хочет отомстить монголам.
Сжалось у княгини сердце от этого рассказа. Сколько же бед принесли эти неведомые завоеватели! Каждого горе крылом коснулось: и князей, и простых людишек. А воевода, хитрая лиса, нарочно подослал Иванку с таким рассказом к ней. С каких это пор для принятия в дружину требуется разрешение княгини? Ведь это сугубо дело воеводы. Ну что ж, может быть, это и к лучшему. Зачем к горю, которое есть, ещё прибавлять. Гневливая была княгиня, но отходчивая. «Ладно, уж прости меня, воевода, – подумала она. – Много у тебя сейчас забот, да я по глупости да упрямости женской ещё прибавляю». А Иванке она сказала ободряюще:
– Скажи своему зятю, что он уже в дружине. Да и тебя надо приодеть.
– Благодарствую, матушка-княгиня, – дрогнувшим голосом произнёс он и поклонился в пояс. Он уже хотел выйти, но княгиня остановила:
– Ответь мне, Иванка, не видел ли сына моего, княжича Владимира Юрьевича, в Москве?
Как будто хлестнуло плетью дружинника неожиданным этим вопросом. Он напрягся весь, побледнел:
– Нет, матушка-княгиня, – осипшим голосом пробормотал он, не зная, куда девать глаза.
– Ладно. Иди.
Она почувствовала, что не следует вынуждать подчинённого человека признаваться в том, что может принести ему несчастье, а, может быть, и смерть. Но то, что с Володей что-то случилось, теперь нет сомнений. Один человек может раскрыть тайну, только Всеволод. Почему же он держит её в неведенье?
Княгиня решительно пошла вниз к ложенице сына. Дверь заперта. Она несколько раз громко стукнула. В ответ ни звука.
– Открой, Всеволод, матери!
После некоторого молчания дверь отомкнулась, и изнутри ударило душным запахом восковых свечей. Всеволод стоял в длинной ниже колен рубахе, босой. Неухоженные волосы торчали в разные стороны, борода всклокочена.
Без всякого вступления княгиня сразу пошла в натиск:
– Ты видел Володю?
Всеволод, не сразу отвечая, отошёл, шлёпая пятками, к лавке, сел, обхватив голову руками, склонился и глухо произнёс:
– Видел.
Агафья Всеволодовна бросилась к нему, подсела на лавку, повернула его голову к себе, искательно заглянула в мутные, будто бы сонные глаза сына:
– До или после Коломны?
– До… – выдохнул он, не опуская глаз.
У княгини дрогнули губы:
– А потом?..
– Не знаю, мамонька, потом ведь… поганые рассеяли всё моё войско. Спешно ушёл лесами.
– А Москва? – Агафья Всеволодовна закрыла лицо кулаками. Слёзы просачивались сквозь пальцы.
– Ты думаешь, я струсил? – раздражённо проговорил Всеволод.
– Не знаю, не мне судить… – на судорожном вздохе прошептала она.
– Кому раньше сгинуть, кому позже – всё одно. Я тоже, мамонька, для мира умер. Спасать души надо в молитве, а тела уже не спасёшь. Никто даже во Владимире не отсидится. Кара Божья на пороге!
Он немного помолчал. Мать чувствовала: уязвилась его княжеская честь.
– Я Володю мёртвым не видел. Не надо его оплакивать. Рано.
Он встал со скамьи, подошёл к киоту с иконами, опустился на колени и зашептал молитвы страстно и исступлённо. Княгиня с испугом смотрела на него. Никогда не видела она Всеволода таким. Ведь это должно было случиться что-то необычайное, чтобы он из светского человека, воина и гуляки, круто превратился в такого набожного смиренника. Ведь он раньше и монахов-то презирал. Что случилось?
Душно было во Всеволодовой ложенице. Она вышла в сени. Сын даже с места не тронулся, как будто не замечая её ухода.
Агафья Всеволодовна приказала подать ей шубу, пуховый плат, сапожки. Даже у себя она не могла избавиться от чего-то такого, что сводило дыхание, от чего казалось страшно.
На всходе вздохнула свежим воздухом. Морозцем обожгло ей щёки, но было приятно и вольно. На миг забыла о бедах. Над миром стояла голубая бездна. Но если летом небесная голубизна радует, то теперь она далека и холодна. Да и солнце кажется замёрзшей льдинкой. Снег слепит глаза. Он лежит ровно, гладко. В некоторых местах вспорот санями и размолот конскими копытами. Это кажется оскорблением снежной величавости. Всё вокруг лишь белое и кое-где чёрное. Цвета потеряли свою наполненность и яркость. Они кажутся какой-то разновидностью чёрного цвета, только в разных местах более или менее сгущённого. Лишь золотые купола Успенского собора горят, как живое пламя. Белые же стены его будто изваяны из снега, и потому удивительно, как же они не тают от пожара куполов. Княгиню потянуло к Успенскому собору. Всегда находила она там успокоение и умиротворение.
После ослепительно белой улицы в соборе показалось сумрачно. Многочисленными точками выплывали из темноты огоньки свечей. Перед княгиней расступились. Он подошла к иконе Божьей Матери и не могла оторваться от её скорбного и кроткого лика. Княгиня перекрестилась и прошептала:
– Матерь Божья, спаси и помилуй чад моих!
Часто она сюда приходила и часто говорила эти слова. Но раньше это получалось как-то заученно, обыденно. Теперь в них были вложены страдания, бессонные ночи и сердечная боль. Беда была близко, она дышала в затылок. Кажется, оглянись, и вот она перед тобой. Неизвестность пуще всего гнетёт. Не могла она верить, что нет на свете её Володюшки. Каждый день разворачивала подаренный им платок. А он белоснежный. Вот и успокаивалось сердце материнское хотя бы малость.
Сзади послышались лёгкие шаги. Это епископ Митрофан. Хоть и немолодой он, но быстр на ногу. Сухощав. Лицо в сплошных складках морщин. Глаза тоже быстрые, но не хитры, а добродушны. Голос густой, приятный, успокаивающий:
– Княгиня, что за печаль на лице?
Она поведала ему все свои беды.
– Поверь свои заботы Господу, – смиренно склонил он голову, – молись, и придёт в душе благодать.
– Отче! – воскликнула она. – Откуда же напасти нам такие, монголы эти проклятые?
– Всё за грехи наши многочисленные Господь посылает испытания.
Ну, какие уж особые грехи у Володюшки, подумала княгиня. В тринадцать лет увезли в Москву. За эти три года видела она его раз пять. То он приезжал в стольный град. То она к нему наезжала. Скучная жизнь в Москве. Никого в Кремле, кроме дружинников. Воеводой там человек хороший – Нянка Филипп. Заботится о Володюшке. Но сын там привык. Да и как ему не привыкнуть! Не всё ли равно, где книги читать. Когда уезжал, умолял батюшку разрешить ему писания рукописные взять. Сердился Юрий, говорил, что это дело монахов с книгами возиться, а княжич должен волю свою закалять для походов будущих да руку к мечу приучать. Но умолила Агафья мужа, говорила, разве плохим князем был Константин – и боевым, и в то же время сколько книг во Владимире собрал… Сдался Юрий, хотя и не очень-то любил вспомнить о брате. Было время, когда по милости Константина томился Юрий в богом забытом волжском Городце, но уважал брата. А Володя боготворил дядюшку, хотя почти его и не помнил. И всё за книжное собрание да за школы, открытые Константином во Владимире.
Раньше Володюшка частенько приходил к матери и читал вслух жития святых и князей. Сама-то Агафья не очень-то любила читать, но слушать ей было по душе. Тут и всплакнёт, и улыбнётся. Как-то в то время казалось ей, что муки святых слишком уж преувеличены. Но всё познается с годами. Вот у неё сейчас одна беда за другой. Как снежный ком нарастает…
И опять взор Агафьи устремляется к лику Богоматери. Долго шепчет она молитвы, вкладывая в них желание изменить всё к лучшему. А как изменишь? Видимо, терпеть надо и ждать.
Грустное церковное пение входит в само сердце, аж горло перехватывает. Агафья вспомнила давешнего дружинника Иванку и что у его сестры татарские разведчики украли дочку. Вот уж горе без надежд и успокоения. У княгини сжалось сердце. Чем бы помочь бедняжке? Ведь дружинник сказывал, что она с ума сошла. Может быть, ей лекаря какого-нибудь, а если бесполезно, то в монастырь устроить?
Княгиня решительно двинулась к выходу из собора, вскинув голову, как будто стряхивая печали, навеянные и пением, и убаюкивающим запахом восковых свечей. От яркой белизны снега на воле защипало глаза, она зажмурилась. Приостановилась, чтобы привыкли глаза. Сидящие возле входа в собор нищие потянули к ней руки, загнусавили юродивые. Сопровождающий её охранник хотел шугнуть их. Но она остановила его, засуетилась, вытаскивая припасённую на тот случай снедь… И вдруг сзади какой-то надрывный голос захрипел зло и захлёбываясь:
– Не откупишься, княгиня!..
Она резко обернулась. На снегу сидел, скорчившись, горбун в монашеском одеянии и красными воспалёнными глазами, казалось, хотел пригвоздить её. Она вздрогнула. Он так был похож на монаха, которого допрашивал Юрий перед отъездом в Ярославль. Но того, как она помнила, князь приказал казнить. Не призрак же это? Его бесстрашные ненавидящие глаза жгли.
– Православные! – голос монаха переходил то в сип, то вдруг набирал силу, гремел над столпившимися людьми. – Князь Юрий предал нас. Он удрал… оставил заложницей вот эту… – монах красной дрожащей рукой указал на Агафью Всеволодовну. – Он ею хочет откупиться перед басурманами…
Глаза у монаха почти вышли из орбит, изо рта шла пена. Княгиня, выронив узелок, закрыла руками лицо, чтобы не видеть этот страшный призрак. Силы покинули её и, показалось, что и сердце остановилось.
4
Прузи – саранча.
5
Поруб – тюрьма.
6
Сыновец – племянник.