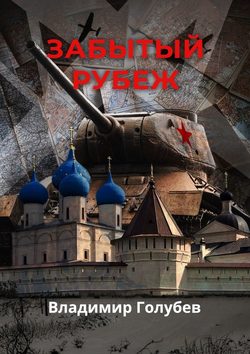Читать книгу Забытый рубеж - Владимир Голубев - Страница 2
Круг первый.
Скорбь
Оглавление«Натка вышла на площадь и, не дожидаясь трамвая, потихоньку пошла пешком. Вокруг неё звенела и сверкала Москва. Совсем рядом с ней проносились через площадь глазастые автомобили, тяжелые грузовики, гремящие трамваи, пыльные автобусы, но они не задевали и как будто бы берегли Натку, потому что она шла и думала о самом важном».
Аркадий Гайдар
«Военная тайна»
Лето сорок первого года в Подмосковье не скупилось на теплынь после студёной зимы, да, как будто наслушавшись на заре шёпота звёзд-ведуний, теперь подспудно догадывалось о грядущих стужах и словно желало своими жаркими ладошками согреть обездоленную землю, к которой с закатной стороны катился вал из дыма и огня. Но всё это будет потом, лукавой осенью, а пока, ещё не ведая о грядущем пале1 и канонаде, изредка зависнув над рыжей стернёй, запоёт долгую трель жаворонок, будто до смерти страшась опалить лапки об огненную землицу.
Воскресенье. Василий к обеду воротился во двор из огорода, где с раннего утра поправлял завалившийся забор, оберегавший грядки от потрав соседской скотины. Он стянул с плеч рубаху и окатился колодезной водицей, заготовленной загодя, с утра, чтобы во время работы можно было смочить горло. Смахнув капли с бороды, покряхтел, но всё же поднялся и принялся строгать высушенные за год под навесом брёвна. Козлы, добротные, пусть и не чиненные с прошлой осени, от навалившегося на них немалого веса предательски заходили ходуном. Пришлось отвлечься и кликнуть старших детей на помощь. Он сызнова стащил косоворотку, и теперь сквознячок, пробившись через тёмный проулок между домом и сараем, приятно освежал потную спину.
Мужик, все те короткие летние дни находясь дома, поспешал без устали корпеть от зари до зари, над накопившимися делами. Не разгибая спины, не обращая внимания на занозы и ссадины, переживая за каждую вхолостую потраченную минутку, Василий всем своим натруженным с ребячества нутром ощущал скоротечность этой побывки. Только верная жёнушка нашёптывала по вечерам, когда детишки наконец-то уталкивались и затихали на полатях, да в колыбели:
– Не рвись, Вася, не рвись, ты куда гонишь-то? Хоть дух переведи. Смотри, долго ли, надорвёшься, что я буду делать одна с пятью детишками?
Он не откликался на её слова, но ноздри приятно щекотал дух бабьего молока и ещё печёного хлеба, которой исходил от Насти. Запах приводил в смятение сердце и заставлял его учащённо биться похлеще поднесённого жене гостинчика – духов «Красная Москва» фабрики «Новая заря», и его так не хватало ему в Москве с её дымящими трубами и машинами. В эти куцые минутки он ощущал себя вновь тем самым мальчонкой, что бесстрашно ныряет в Незнайку2 с обрыва, головой вперёд, но сам всё же нет-нет да искоса поглядывает на одногодку-девчонку…
Первым на отцов зов подоспел старшой сын – Петька. Он с деревенскими пацанами намёткой ловил рыбу и явился весь перемазанный жирным илом.
– Что, звали, батюшка?
– Ну-ка, пострел, давай-ка иди сюда. Чай, ослеп, и не видишь, как я тут строгаю? Иди пособи мне.
Пётр по-взрослому подошёл вплотную к Василию, не сводя глаз с бати, мол, что делать-то?
– На-ка вот – держи-ка лафетину.
Старшой уцепился за бревно двумя ещё мокрыми после речки ручонками, но толку от такой помощи почитай и не было. Видя, что дерево упрямо вырывается из-под рубанка, паренёк прижал его к груди, изо всей мочи желая угодить бате.
Василий смахнул душистую стружку с бруса. Падая, она развернула на миг свои золотые крылья, и, приземлившись, укатилась за пучок чистотела, а после он щепой выудил опилки из лотка и уселся рядом, на готовые лафеты, поджидающие своей очереди отправиться на потолок в пристраиваемой к избе новой половине в четыре окна.
Открылась дверь дома и на хладном пороге, добела отмытом с утра, предстала супруга с годовалым младенцем на руках.
– Василий, кого ты кликал, Лидку?
– Да, вот подержать надобно, один не управлюсь.
– Нужна она и мне, пускай покамест с Витькой посидит, я его спеленала, а я по хозяйству похлопочу. Чай, обедать, почитай, пора.
– Ладно, управимся без неё. Правда, Петька?
Паренёк вытянул тонкую шею, пряча от матери мокрые брюки и рубашонку, замаранные в речке.
– Ну да.
Супружница улыбнулась, прикрыв лицо краем платка и, уходя, лишь с опаской глянула на мужа, словно побоялась своими словами спугнуть едва дышавшее счастье августовского полдня. За женой со скрипом затворилась дверь. От речки потянуло летней духотой с запахом пряных трав и осоки. Совсем рядышком, в заросшей ивняком вершинке, засвистала иволга. Пёстрые куры кружили под ногами мужиков, словно в ожидании скорой манны небесной. Василий пригляделся к сыну да в бороду ухмыльнулся:
– Смотри, как уделался-то. Чё портки-то не скинул да рубаху, когда в речку полез?
– Да там того, Людка ходила, да Тоня.
– Понятно. Поймали чего?
– Только половину ведёрка. Нам с Черновым досталась одна щучка, совсем небольшая, меньше кило.
– И где она?
– А ему отдал, но мы столковались, что в следующий раз весь улов будет мой!
– Не жадничаешь, молодец. Старшой ты у меня, надёжа. – И уже более сурово спросил: – Мамке помогаешь когда меня нет?
– А как же, сколько уже трудодней в колхозе заработал на сенокосе и в ночное ходил. Папка, а может, всё же за раками махнём? Много не будем ловить, так, на чугунок, и довольно будет.
– Пётр, нам с тобой дом надо доделывать. Мне скоро на фронт, либо обратно в Москву возвращаться. Чай, уже взрослый и должен своей головой смекать, что начальство по головке не погладит за опоздание.
– Пап, а почему в колхоз не хочешь записаться? Вон мужики-то наши работают.
– А чем я вас тогда кормить-то буду? Пустыми трудоднями да картошкой с огорода? Зимой раков не наловишь. В дистрофики захотел податься? Хорошо если в сельсовете лечебный паёк дадут, когда штаны с жопы спадут. А если нет? В Пирогово, чай, на кладбище на телеге двинешься?
– В школе говорят, что всё будет хорошо, советская власть за народ и пре-одолеет всё не-взгоды!
– Много чего последние годы болтают, да токмо на деле-то всё шиворот-навыворот, разинь глаза, чай, уже не пацан. Земли нет, лошадь свели в колхоз и загубили, хоть корова осталась во дворе, а то бы опухли с голоду.
Неожиданно он прикусил язык и воровато осмотрелся по сторонам – поблизости от двора никого постороннего не оказалось, а на тары-бары даже куры не обратили внимания.
– Лихое времечко. Забыл, в какую пору живём-то? Не болтай лишнего, ни в школе, ни с ребятами, понял?
– Да знаю, не дурак.
– Может, и возвращусь поближе к старости к земле-матушке, если бог даст, а пока нам с матерью вас ещё надо поднимать, на ноги ставить…
Но Петька не дослушал батю и задрал голову к небу, где, нарастая с глухим рокотом, раздался рёв мотора приближающегося к деревне самолёта. Привлечённые необычным шумом люди выходили из домов, смотря в поднебесье, где ещё шмыгали неугомонные стрижи. Петька с отцом не сводили глаз с неба, но тут младшая ребятня, чумазые Сашка и Мишка, выбравшись из лопухов, подбежали к Василию и молча встали, прижавшись к батиным ногам.
Гул мотора стал ещё резче, самолёт нёсся с запада на восток вдоль сонной с утра Незнайки и, казалось, прямо на них.
– Наш? – спросил отца Петька и повернулся в сторону звука.
– Как тут узнаешь: ещё далеко. Ты это, беги в дом, к матери, пусть берёт Витьку, и с Лидкой айда в погреб.
– Батя, да ты что?
– Иди, говорю.
Старший недовольно запыхтел, но всё же побежал под бугор, к дому. Тем временем, снижаясь, самолёт закружился над деревней по кругу, словно волчок. Теперь можно было без особого труда рассмотреть чёрные кресты на крыльях и громоздкое шасси с обтекателями, а ещё стволы то ли пулемётов, то ли пушек, грозно глядевших на сельчан и почти цеплявших кроны исполинских ив, что росли вдоль речки.
По деревне раздались вопли. Соседи Сугробовы с криком кинулись из проулка к своему погребу. Василий прихватил младших Сашку и Мишку и поспешил в овражек, надёжно прикрытый старыми деревьями. Из избы выскочила жена и, прижав младенца, бросилась вниз, за мужем. Последними выскочили Лида и Петя, старшой, как резаный, завопил с порога:
– Батя, вы где?
– Бегом к нам!
– Может, это наши?
– Я тебе дам сейчас крапивой по заднице! Будут тебе «наши»!
Ребята побежали, в несколько шагов оказавшись в овражке. Самолёт продолжал кружить, словно выискивая цель поважнее и посерьёзнее, чем эти убогие домишки и недостроенный коровник вблизи малеевского леса. Но Петька с глупой надеждой в глазах продолжал пялиться в кусок неба между ветками рослых ив, всё ещё жаждав разглядеть родные красные звезды на крыльях и фюзеляже. А самолёт вновь развернулся и, со свистом рассекая воздух вдоль речушки, над улочкой, принялся нещадно палить из всех пулемётов.
Вся семья, и стар и млад, лежала в вершинке, ниже двора, около летней кухни, на прогретой земле, ткнувшись лицами в траву, облетевшую листву и вдыхая тяжкий дух недавно скошенной сныти. Всё это – нежданное, непривычное да вместе с неслыханной ранее пальбой – подняло в людях полузабытый младенческий животный страх, заставляя нещадно колотиться сердца. Ко второму проходу беспощадной крылатой машины над деревней малыши были уже чуть живые от боязни, да и старшие находились в полуобмороке.
С минуту назад что-то грозное, не знающее пощады, садануло в ближнюю ветлу, как бы жаждая крупповской сталью распороть морщинистый ствол, обильно осыпав вокруг скошенные ветки и листву. Повторный обстрел, к счастью, оказался последним. Поворотив винтами на север, «юнкерс» понёсся в сторону Волохово, всё ещё храня в своих нерастраченных боезапасах скорую лютую смерть.
Семья Василия отряхнулась от пыли и мусора и выкарабкалась из-под спасительного откоса.
– Вот гад! Чую, я не успею доделать потолок в новой избе. Что там Гришка-то наш в письме накарябал? – спросил муж.
– Петь, принеси-ка сюда весточку от дяди Григория.
Петька закивал вихрастой головой и в несколько шагов оказался в избе. Он живо воротился, размахивая из стороны в сторону солдатским письмецом на серой бумаге.
– Погоди мотать-то, а то потеряешь, сорванец. Лучше скорее читай.
Старший сын с важностью сельского активиста развернул солдатский треугольник и с выражением прочитал:
– Значит так: «Дорогие мои Василий и Анастасия, шлю вам письмо из Красной Армии. У меня всё нормально, нахожусь в лагерях, где командиры нас готовят к грядущим боям с неприятелем. В бою пока не был, но скоро выступаем. Надеюсь, что ещё вам напишу. Настя, если случайно будет подходить близко проклятый немец, то устройте с ребятнёй убежище такого вида: длина 4,5 метра, ширина сверху 1,75 метра, снизу 1,25 метра, и глубина 1,5 метра, и настлать потолок из брёвен, что остались после постройки избы, а с одного конца оставить проход. С большим приветом, красноармеец Григорий».
– Молодец, Гриша! Петька, хорош сегодня шкодить, сходи-ка лучше за лопатами.
– А как же рыбалка, да ещё хотели на омут за раками смотаться?
– Будут тебе раки, а пока копать пошли. Я тебе ещё все свои уловистые места покажу, будете с ухой.
– И меня возьмите, – обняв отца за ногу, загундосил Мишка.
– Пошли, будешь нам помогать.
Самолёт не вернулся. Покружив над Волоховым и Пироговым и дав несколько очередей по крытым дранкой крышам, он унёсся дальше на восток, в сторону Каширы.
На рассвете в окно постучали, приспел сосед Чернов.
– Василий, ты тут?
– А где мне быть-то. Заходи в дом, дай только порты натяну.
– Собирайся, тут пришли из Волохова, из сельсовета, скликают всех мужиков у дома Костетских.
– А что стряслось-то?
– Говорят, завтра пойдём в Серпухов.
– Зачем?
– Так всеобщая мобилизация. Ты на радостях, что вернулся, позабыл про войну?
– Так коммунисты талдычили сколько лет, что, мол, война если случится, то будет малой кровью да на вражьей земле.
– Что теперь говорить-то, Василий Андреевич, пошли, время идёт.
– Теперь понятно, выхожу. Сообща пойдём.
Василий воротился где-то через полчаса, поставив закорючку за вручённую повестку о призыве, и молча выслушал инструктаж. Он грузно, как-то по-стариковски опустился на лавку около печи, навалившись всем телом на неё. Настёна топила печь. Дети ещё спали на полатях. Младший, раскинувшись, сопел в люльке, подвешенной к потолку около их кровати. Она выглянула из кухни:
– Вась, испачкаешься в побелке, отодвинься от печки. Пиджак только выстирала, и так руки ноют от стирки. Скажи, что там было-то, не молчи.
– Ухожу я, мать…
Её как наточенным ножом полоснуло словечко «мать»: никогда он её так не называл, хотя у них уже в избе пятеро детишек.
– Куда? – спросила жена и тут же пожалела о заданном вопросе.
– Да на проклятую войну.
Анастасии до солёных слёз захотелось шваркнуть из рук на пол ухват и истошно заголосить на всю деревню… Но не швырнула, лишь, задёрнув кухонную занавеску, спросила:
– Когда?
– Уже завтра идти в Волохово, и после всем гуртом погонят прямо в Серпухов, ну а там будет видно.
У супруги за перегородкой только и вырвалось-то:
– О Господи!
– Не голоси, а то детей поднимешь, пусть ещё поспят. Пойду во двор, займусь делами.
– Постой, может, стол к вечеру накроем, родню позовём – Белкиных, Черновых.
– Некого звать, Настя, все сами столы накрывают: поутру все мужики, кому от роду девятнадцать и больше, уходят.
– Как все? А кто ж в колхозе-то останется хлеб растить-то – бабы, да девки, да Петька наш с пацанами? Мы с голоду опухнем, да и солдат-то чем тогда кормить-то – камнями, а боле нечем?
– Выходит, мать, так и есть. Кто их знает, о чём эти наркомы в Кремле думают-то.
– Да в германскую войну3 такого не бывало, хоть убей. Вспомни, Василий Андреевич.
– Да помню, чай, не дурень. Токмо, Настёна, позабудь навечно те времена. Ты, слепая, забыла, вон мужики болтают: нынче, кто в плен угодил, тот – лютый изменщик и злоумышленник, могут и к стенке поставить. Ну а тогда отродясь такого не водилось. Да и единого сына у родителей не забирали, но что теперь вспоминать-то?
Василий вышел из избы – рассвело, над речкой ещё держался лёгкий туман – и, как был, в парадном убранстве, принялся остругивать последние брёвна для потолка в новую половину избы.
Вскоре, как по команде, пробудились дети. Утренний гомон мать оборвала словами: «Не шумите, отец уходит на фронт». Старшие умолкли и весь день крутились около родителей, изредка боязливо заглядывая в серые глаза отца. Младшая ребятня – Сашка и Мишка – тоже утихли, но не от слов, брошенных матерью, или спутанных речей старшего брата, нет. Они как будто почуяли в августовской атмосфере что-то опасное, как бывает перед летней грозой, вроде и небо голубое, и ветра нет, а уже ведаешь, что скоро грянет.
К вечеру Василий с женой и старшими детьми, упираясь, изо всех сил затащили верёвками проклятый брус на чердак и разложили на приготовленные загодя потолочные лаги. Но прибить их всё же хозяин не поспел: стемнело и пришло время собираться в скорбный путь.
Они поужинали, отхлебнув рюмку горькой из поллитровки, загодя припасённой для зимних праздников. А в пять часов утра, с первыми петухами, вся деревня от мала до велика вышла провожать своих мужиков. Кто-то молчал, кто-то плакал. Детишки с сонными глазами вытягивали шеи, глядя на отцов и старших братьев. В последний раз обнявшись с родными, толпа рекрутов с вещмешками и самодельными чемоданами пешком двинулась в сторону Волохова.
* * *
Мобилизованных в столицу на строительство оборонительных укреплений доставили в вагонах до станции «Можайск» Московской железной дороги, а дальше разношёрстная колонна студентов, преподавателей, примкнувших к ним колхозников из-под Наро-Фоминска двинулась пешком. На выделенных районным исполкомом подводах везли вещи. В городе ещё пахло мирным базаром и сеном, курами и дымком от самоваров – вечным спутником пахучего чая, но здесь, среди полей и тёмных лесов, всякий дух цивилизации испарялся, словно и не обитал тут человек с давних пор, лишь изредка меняя язык да веру.
Денёк выдался пасмурный – так себе. Такая непогода ежегодно выдаётся в Центральной России в самом конце июля, либо в начале августа, когда после духоты и нестерпимого для коренных северян зноя макушки лета, пекло рассыпается, будто от сглаза лесной ведуньи, словно огненное колесо непривычного жара наскочило на невидимую преграду. Но старожилы с прогретой солнцем завалинки подскажут, что именно в такие деньки полярные ветры без всякого спроса врываются на континент. Оттого было пасмурно, иногда шёл мелкий моросящий дождь, или в лицо дул встречный ветер. Люди шли молча, опустив головы. Поначалу весельчаки принимались звонкими голосами распевать какие-то бравурные песни, даже пару раз запевалы затягивали:
Если завтра война, если враг нападёт,
Если тёмная сила нагрянет,
Как один человек, весь советский народ,
За свободную Родину встанет…
Но жизнерадостного задора штатных запевал в колонне как-то, пусть и малодушно, но всё же не поддержали, и теперь лишь время от времени то тут, то там изредка раздавалась громкая болтовня или смех учащихся, но и он вскоре сам собою умолкал, и вновь в ушах звучала тяжёлая поступь тысяч людей. Но все понимали, чуяли собственной печёнкой, что стержневой вопрос последних дней расплескался повсюду блеклым осенним туманом да навязчиво звучал в устах, распознавался в хмурых бровях и в истомлённых глазах. Даже порой чудилось, будто вся неизъяснимая человеческая сущность, сотворённая бездушной природой, то ли неведомым Богом, проклинаемым советской властью, и отрицаемым бесчеловечной эволюцией, а то ли той самой новой троицей в лице Карла Маркса, Владимира Ленина и Иосифа Сталина, так восхваляемой учёными и политиками, безмолвно вопрошала перед чёрными очами грядущей неизбежности: «Доколе будем отступать? Сдадут ли Москву?»
Но вырывались из уст студентов лишь робкие вопросы:
– Куда идём-то?
– А знает ли кто, что там нас ожидает впереди?
Преподаватели твердили:
– Движемся на запад. В сторону деревни Ельня.
– А где это? Далече?
– Кто ж его знает-то…
А навстречу колонне всё прибывали беженцы: словно весенние ручьи-потоки они тянулись струйками по обочинам, усталые и с озабоченными лицами, пахнувшие потом и пылью, но всё равно радостные, что успели раньше выскользнуть из зоны нестерпимых боёв и не угодили под немецкие пули и осколки, хотя и прятали эту животную радость под козырьками кепок, запахнутых платками. Утомлённые лошади едва тянули подводы с нехитрым скарбом, стариками и маленькими детьми. Но большинство несли в руках свои узлы или вещмешки на худых плечах, изредка попадались люди, сами впряжённые в тележки. Несмотря на усталость, беженцы торопились и с нескрываемой надеждой смотрели на колонны красноармейцев, идущие им навстречу с молчаливой мольбой, читаемой невооружённым глазом в каждой морщинке: «Остановите наконец-то фашиста!»
Вот и мобилизованный студент Московского строительного техникума имени Моссовета Саша Чистов, как все, топал в той колонне однокурсников по пыльному шляху в сторону захода солнца. Всегдашнее бодрое настроение улетучилось ещё за день до отбытия сюда, на дальний край Московской области, ведь он не успел получить долгожданные письма от родных. Парень переживал, что неизвестно теперь, когда узнает, что творится в далёком селе Марково на Чукотке. Призвали ли отца в армию? А приспела ли на нерест серебристая кета – кормилица, что спасёт от голода людей и собак? Да как там урожай на мамином огороде, ведь от него зависит, как семья переживёт долгую арктическую зиму с лютыми морозами, диковинными для здешних мест, доходящими аж до пятидесяти градусов по Цельсию, а ещё и с пургой? Ведь переправить из столицы письмо сюда, за Можай, будет просто некому: общежитие словно вымерло с убытием студентов на строительство московского рубежа обороны.
Но тут между рядов учащихся зигзагом прошёл пожилой учитель черчения, щуря близорукие глаза, напомнил ребятам, что всего-то в нескольких вёрстах отсюда, на западе от дороги, и находится то самое Бородинское поле. Он то и дело махал рукой, указывая на дальний лес, за которым под сенью хмурых орлов, имперского и французского, раскинулось поле давней брани французов и русских, где никто никому не уступил в доблести и героизме. Студенты заулыбались, словно припомнили что-то родное и близкое, а в их глазах озорными искорками заиграли солнечные зайчики. Проходя чуть в стороне, Саша только и расслышал слова педагога, обращённые к ребятам из соседнего ряда:
– Другая тогда была война-то: за бесчестье считалось грабить мирное население, а тем более обстреливать дома простых жителей. Только в случае самой крайней нужды или там голода… Да только проклятые германцы в Первую мировую поломали все военные устои своими отравляющими газами и дальнобойными пушками, из которых рушили кварталы простых горожан в том же Париже.
Комсорг группы Юра Сергеев напряг крепкую спину и незаметно сжал маленькие кулаки, крикнул:
– Андрей Аристархович, получается, зверствовать первыми начали не фашисты?
– Да, Юра, так и получается, собственно, немецкие вояки в 1914 году и развязали мировую бойню, заодно перекроив под себя европейские военные традиции в отношении мирных граждан, а проклятые нацисты только довели всё до логического конца, потому и бомбят наши города и деревни, расстреливают советских граждан.
Он умолк и ещё несколько минут шёл со студентами, стараясь заглянуть им в лица, словно выискивая молчаливую поддержку или робкие приметы согласия с его словами, но парни чувствовали себя неловко и, смущаясь, отворачивались. Они хорошо помнили судьбу учительницы литературы Нелли Богдановны в белом кружевном воротничке, на уроке высказавшейся с благоговением о поэзии Гёте. Хорошо ещё, что её просто по-тихому уволили из техникума с формулировкой за «низкопоклонство перед Западом», а не отправили в потные лапы чрезвычайной тройки, там бы она долго икала, поминая в лагерях о своей любви к поэзии.
– Может, кто хочет попить или перекусить? – тем временем спрашивал Андрей Аристархович. – У меня есть, подходите не стесняйтесь. Если кому плохо, не забудьте, что в конце колонны у нас находится фельдшер Зинаида Петровна.
– Спасибо, мы знаем.
Саша тоже хотел что-то сказать, ведь он столько читал о далёкой, теперь почти забытой войне 1812 года, в детстве впитывая как губка любое упоминание о кирасирах в блестящих на солнце шлемах и латах, об уланах с султанами на шапках. Наверно, в библиотеке села не оставалось ни одной книги, которую он не прочитал бы пару раз из-за упоминаний о войне с Наполеоном. Но отрочество его миновало, по капле скатилось в полноводный Анадырь вместе с растаявшими колючими снегами, более смахивавшими на мраморную крошку, чем на здешний московский снег. И вот теперь он сам шагает навстречу пока ещё невидимому врагу, чтобы до кровавых мозолей рыть рвы и укрепления против танков да также окопы, блиндажи. Как и тогда, сто лет назад, егеря тоже возводили редуты и флеши для обороны от неприятеля. Но недалёк тот час, когда он, девятнадцатилетний комсомолец, уже самолично сразится в своей войне и будет биться до кровавых пузырей, и если бы не комсомольская путёвка, по которой он обязан закончить техникум и вернуться на Чукотку, то он бы наверняка уже воевал с ненавистными фашистами в полях под Смоленском вместе с такими же, как он, верными сталинцами. А что может быть лучше, ведь не зря народный комиссар иностранных дел Молотов ещё 22 июня произнёс в обращении к советскому народу: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами»? А может статься, он давно бы погиб смертью храбрых, в штыковой атаке поймав грудью пулю или осколок на вздохе, и лежал бы среди помятых гусеницами танков, полевых ромашек и васильков. «Ну и пусть! Зато как все! В целом мире нигде нету силы такой, чтобы нашу страну сокрушили – с нами Сталин родной, и железной рукой нас к победе ведёт Ворошилов!» – напевал про себя Саша, и сразу ему чудилось, как за его спиной встают роты и батальоны отважных героев, готовых сражаться с ним плечом к плечу.
К вечеру колонна наконец-то прибыла к месту назначения. Смеркалось, всех разместили в деревне по домам. Саша с четырьмя однокурсниками, доев сухой паёк и хлебнув из котелка бледного чая, устроился на сеновале во дворе крестьянского дома. Хозяйка молча вынесла им укрыться старые одеяла и, пожелав спокойной ночи, ушла в дом стукнув дверью.
Так начиналась новое житьё-бытьё студентов московского техникума, до этого изредка бывавших за пределами столицы, на самом краю Московской области, уже где-то рядом с фронтом. Саша из-за непривычного положения долго ворочался на сене, изредка открывая глаза и глядя в бездонное августовское небо с крупными звёздами. Кто-то сзади дотронулся до его плеча.
– Кто там? – поворачиваясь, спросил парень.
– Тихо, ребята спят. Это я – Юрка.
– Понятно. Что хотел-то?
Чистов повернулся к говорившему, но в темноте не смог его рассмотреть. Он только приметил, как блестят тёмные глаза и зачёсаны назад чёрные кудри.
– Сухарь ты, Саша, а не комсомолец. Может, ты скрытая контра или троцкист, а? Или прибыл к нам с Чукотки в качестве японского или американского шпиона? В нашем кабинете географии я несколько раз разыскивал на карте твоё Марково, нету его, вот хоть убей.
– Не там искал. Подскажу: 64° северной широты, 170° восточной долготы.
– Да шучу. Я ведь всё-таки комсорг нашей группы и не раз штудировал твоё личное дело! Ты из наших, рабочих, твой отец – охотник в совхозе, да и мать – активная труженица, внедряет передовой опыт выращивания овощей за Полярным кругом. Да, вижу, ты тоже не промах, стараешься: комсомольские собрания посещаешь, занесён в групповой актив, потом делал в январе доклад о Павке Корчагине, ребятам, помню, очень понравилось, как ты и сам чуть не расплакался. Какой ты шпион. Ты похож на доходягу, хотя крепкий парень, но здесь отъешься на свежем воздухе. Обещают хорошо кормить. Я вот хочу попить парного молочка, говорят, укрепляет здоровье, а оно нам еще сгодится!
– Да ладно, что вспоминать-то? А молочка я бы тоже попил и съел бы целую оленью ногу.
– На фронт, значит, хочешь?
– Ещё как.
– Я тоже. Армейские уставы читаю, всё, что под руку попадает об армии, всё штудирую.
– Дашь мне тоже почитать?
– Завтра.
Юра отвернулся и тоже уставился в чёрное небо, раскрашенное мерцающими звёздами да тёмными ветвями соседних яблоней.
– Знаешь, сегодня такая ночка выдалась, даже глаза не закрываются. Я ведь до нашего техникума хотел учиться по линии метростроя, ведь метро – это почти коммунизм, но завалил входной экзамен. Ну, думаю, во что бы то ни стало всё равно буду строителем и стану трудиться на стройке метрополитена имени Кагановича или пойду по партийной линии, вот и подался в техникум имени Моссовета.
– А я… Да ты знаешь, приехал по комсомольской путёвке, как потребный специалист-строитель в кадровый резерв для Дальнего Востока. Значит, надо же кому-то по науке дома у нас строить и заводы. Если бы не путёвка, я бы уже давно записался в ополчение. Непременно попросился бы в Первую дивизию народного ополчения. Знаешь, а они ведь уже вовсю воюют где-то в Смоленской области, мне наша Лера говорила. У неё отец в ополчении, недавно письмо прислал. Как ты думаешь, наши остановят фрицев?
– Остановят, конечно. Не получится под Смоленском, так на нашем оборонном рубеже застрянут. А мы дружно постараемся.
– Как думаешь, мы с тобой успеем попасть на фронт, или война уже закончится?
– Мне кажется, успеем. Немец уже в соседней Смоленской области. Она рядом, вот за этими лесами, – комсорг помолчал, а после посмотрел на собеседника. – Худой, в чём только душа держится, а всё туда же, лишь бы тебе воевать да кровь проливать. Ты один в семье?
– Нет, ещё две сестры и младший брат.
– А я, брат, у мамы один, и она у меня одна. У неё уже вся голова седая, хотя, а она ещё совсем не старая, ей нет даже сорока. Ни отца, ни родни, сам знаешь, какие были времена, – он умолк, и под ним предательски зашуршало пересушенное сено. – А какие времена грядут? Но ты не подумай, у меня поджилки не трясутся, я хоть сию минуту готов за дело мировой революции свою голову сложить. Сегодня, когда шли по вокзалу, там в Можайске, смотрю, рядом с газетой «Правда» висит плакат «Родина-мать зовёт». Смотрю и вижу, что одна винтовка со штыком, что за её спиной моя и меня поджидает, и она смотрит мне прямо в глаза, мол, давай, вставай в строй.
– Я тоже, как посмотрю на плакаты, у меня аж холодок бежит по спине. Словно в тундре идёшь на лыжах, и тут ветерок поднялся, и ты начинаешь замерзать, брр.
– А я вот сегодня послушал нашего Андрея Аристарховича, и чую всем своим рабочим нутром, что этот бывший царский прапорщик несёт нам какую-то контрреволюционную пропаганду. Ты слышал, о чём он проповедал, мол, немцы первыми начали зверства, ещё до Гитлера?
– Нет, я толком ничего не слышал, так, только обрывки слов, но ничего не понял.
– А я вот понимаю своим комсомольским рассудком, что-то тут не то. Как так, рассуди сам: немецкие рабочие, одетые в форму германской армии, братались с русскими солдатами на фронтах, а после ведь революцию в Германии устроили в 1918 году. А он талдычит про газы и бомбардировки, специально, гад, фашистов обеляет. А потом, зачем нам вспоминать царскую войну 1812 года, ведь те солдаты защищали царя, помещиков и купцов? К чему нам дворяне, голубая кровь, честь и дуэли? Завтра я поговорю с кем надо, пусть с ним разберутся. А когда вернёмся в Москву, напишу заявление в военкомате, чтобы меня взяли в политическое училище. Я желаю выявлять предателей и трусов. Ух, никто не укроется от меня: ни бывший поп, ни офицерьё, ни кулаки с подкулачниками. А ещё я старичьё на дух не переношу, всяких дедов и бабок. Мне так и видится, как в каждой седой голове маются контрреволюционные мысли: «а при царе было лучше», «говядина была подешевле, не то что щас». Они бы всех нас поубивали, дай им волю!
– Да, Юра, у тебя планы, прямо как на третью пятилетку.
– Может, махнёшь и ты со мной, а? Вроде ты парень неглупый. Вдвоём-то в жизни ловчее будет!
– Сергеев, ты знаешь, у меня комсомольская путёвка и бронь. Мне туда пока нельзя, меня ждут партийно-хозяйственные органы на родной Чукотке.
– Ладно, давай ложиться спать.
– Спокойной ночи. Утро вечера мудренее.
Саша отвернулся в темноту, к дрыхнущему однокурснику, но ему, несмотря на поздний час, всё ещё не спалось. Густой мрак августовской ночи окружал его, он был везде: за хлипкой кровлей сарая, в окнах домов и в пустых проёмах сеновала. Мысли не давали парню покоя и кружились в нём роем пчёл, что как-то ему повезло понаблюдать на экскурсии в Тимирязевском саду. Он то вспоминал далёкую семью, но прогонял милые сердцу образы дома, не желая предаваться грусти, а то нежданно всплывали милые и добрые глаза его одноклассницы Веры Дьячковой; то вдруг по-детски, до слёз, становилось жаль безобидного Андрея Аристарховича, ведь Саня, по рассказам Сергеева, прекрасно понимал, чем может закончиться для пожилого учителя черчения экскурсия по окрестностям Бородинского поля.
Из овражка потянуло свежестью, и, укрывшись с головой, Чистов наконец-то забылся тревожным сном.
После завтрака комсорг Юрий Сергеев куда-то исчез, но на прощанье, хитро подмигнув Сашке, крикнул:
– Давай паши за двоих, деревня. Мне надо отлучиться по важному делу.
Ничего не ответил Чистов, едва сдержался, чтобы не огреть лопатой Юрку, догадываясь, куда мог собраться комсорг. Но стерпел, теша себя лишь мыслью, что он не расслышал всего разговора с учителем, может, там и вправду была какая-то крамола о великом деле Ленина-Сталина.
С утра вновь прибывшие на трудовой фронт укрепрайона наконец-то приступили к работе. Две учебные группы, в которых оказался и Чистов, разбили на десятки, вывели за деревню, где посреди поля женщины и девушки уже копали противотанковый ров, а ближе к перелеску готовили блиндажи и огневые точки для советских войск. Время от времени бригада взрывников выставляла оцепление во рву и под свист босоногой детворы подрывала землю, а следом студенты и гражданские должны были зачищать и углублять рвы, выкидывая землю на поверхность. Работа оказалась чрезвычайно трудной для горожан и требовала от студентов значительной физической силы. Но никто вслух не жаловался, все знали: солдатам и офицерам на фронте во сто крат труднее. Особенно парням было зазорно малодушничать рядом со своими девчонками, а тем более перед чужими девицами, которые работали отдельными бригадами. Но последние практически не переговаривались даже между собой, изредка кто-то мог что-то спросить у них – они односложно отвечали, и всё. Странные соседки прятались от студентов, словно те поголовно были заражены страшной инфекционной болезнью. Между ними выросла возведённая кем-то невидимая стена, и даже во время отдыха они садились поодаль друг от друга и молча переводили дух.
Первый день выдался особенно тяжким. Молодежь уже к обеду сбила руки в кровь, и черенки лопат горели в ладонях студентов. Саша, отвыкший за два года обучения от каждодневного физического труда, тоже едва втягивался в тяжкую работу на будущем рубеже обороны. После обеда его, как отличника – будущего строителя и просто жилистого парня, позвали в перелесок к строящимся блиндажам. Постройкой командовал пожилой сержант с пышными седыми усами и добрыми глазами из-под кустистых бровей.
– Ну что, студент, глянь, может, что посоветуешь.
Саша засмущался, но присмотрелся. Сруб из брёвен уходил в землю, а рядом лежали свежеспиленные деревья, скорее всего, для перекрытия.
– Мне самому надо у вас поучиться. А где будут входы в блиндаж?
– Почему входы? Я думал, только один, – хитро улыбнулся сапёр, и его выцветшие голубые глаза озорно засверкали.
– Как нам объясняли, подход должен быть из окопов с двух сторон и обязательно с тыловой части.
Сапёр подумал и махнул рукой.
– Согласен. Девчата, слышали, что строитель наговорил?
Три девушки ответили невпопад:
– Слышали.
– Тогда почему стоим? Начинаем копать окоп, а мы с ним перекурим и примемся перекрывать крышу. Глядишь, к вечеру управимся. Как тебя звать-то, строитель?
– Сашка.
– Ты никакой не Сашка, ты Александр. Как отца зовут-то?
– Виктор.
– Вот, Александр Викторович, привыкай. Далеко пойдёшь, если проклятая война не остановит. Несчастное твоё поколение, слышу сердцем: выкосит вас подчистую вторая германская.
– Наверно, – замялся Саша, не зная что ответить.
– А меня Егор Кузьмич кличут. Запомнишь?
– Так точно, товарищ сержант.
– Молодчина. А что у тебя с руками?
– Да мозоли вот потекли.
– Что ж вам, бедолагам, рукавицы-то не выдали?
– Не знаю.
– Погодь, девчонка тебе помощь окажет, у нас есть спиртяга в аптечке, а на ночь приложишь подорожник. Янка, бери аптечку и дуй ко мне!
Егор Кузьмич отвернулся, ища глазами неведомую Яну, а заметив, крикнул:
– Давай-давай!
Одна из девиц обернулась, отложила кирку и ответила:
– Иду-иду, только сумку возьму.
Через пару минут подошла девушка с брезентовой сумкой. Из-под белой застиранной косынки наружу выбились пряди каштановых волос, а карие глаза серьёзно смотрели на мужиков.
– Что случилось, Егор Кузьмич? Я ответственно вам заявляю: я более никакие операции проводить не буду, ведь я не настоящий медик, а, как говорится, самоучка.
– Яночка, не гуди аки пчела над ухом старика. Ну вскрыла пару чиреев у деда, так сказать, на мягком месте, но ведь всё зажило, что вспоминать-то, – подмигивая Чистову, ответил сапёр. – Не поверишь, Александр Викторович, рука у неё лёгкая, да и сама она раскрасавица.
– Только вот счастья нету. И ещё, умоляю вас, перестаньте шутить, дядя Егор.
– Да ещё мамка говорила: не родись красивой, а родись счастливой. Ладно, Руднева, только обработайте мозоли нашему горе-строителю.
Длинные пальцы дотронулись до садящих ран парня и вдруг замерли. Около уха спросили:
– Вам так не очень больно?
– Да нет.
– Ну тогда терпите, гражданин комсомолец.
Она обработала раны, незаметно дуя на розовые мозоли, и, бережно промокнув их спиртом, забинтовала.
– Вот и всё, – сказала она, глядя на побледневшего студента, ее глаза внимательно обозрели парня. – Вечером ещё можно подложить подорожник. Если что, приходите завтра на перевязку.
– Спа-си-бо.
Саше не хотело отходить от девушки, и он принялся лихорадочно придумывать повод встретиться ещё раз.
– Яна, а вы любите шоколадные конфеты? Мне в благодарность за, так сказать, заботу хотелось бы вас попотчевать сладеньким.
Девушка впервые усмехнулась, и две забавные ямочки явились на обветренных щёчках.
– Конфеты? Да ещё шоколадные. Угостите, гражданин комсомолец, а то в нашем постном меню давно не водилось ни шоколада, ни какао.
– Замечательно, я что-нибудь придумаю.
Сапёр внимательно посмотрел на помощницу.
– Язык твой – ведь это твой самый первый враг, Яна. Сколько раз я тебе доходчивыми словами втолковывал: не язви. Тут повсюду чужие уши и глаза. Хочешь поскорее вернуться на лесозаготовки, или соскучилась по бараку?
Вокруг Чистова пахнуло беспросветной тайной или просто какой-то колючей неизвестностью, от которой бегут мурашки по спине, и Саша отпрянул в сторонку, мол, я сам по себе, чтобы не слушать сторонние разговоры, как было принято в те времена, и желая заодно хотя бы прийти в себя. Да и, что там говорить, лишний раз не хотелось выказывать своего страдания перед опасной незнакомкой. Через несколько минут сержант позвал студента:
– Пойдём, паря, время не ждёт. Завтра с утра надо сдавать ответственному по укрепрайону этот блиндаж.
– Пойдёмте.
До самого вечера Чистов с Егором Кузьмичом настилали бревна на блиндаж, крепя их на кованые скобы, привезённые на телеге из кузни соседнего колхоза. Несколько раз ему удалось подсмотреть за работающей Яной: косынка сползла с головы, обнажив каштановые кудри, выбившиеся из косы. Они даже несколько раз пересеклись взглядами, как бы невзначай.
К ночи настилы были готовы, сержант и студент уходили с линии последними. Егор Кузьмич жил вместе с военнослужащими в палатках, а Саша в деревне, потому они разошлись в разные стороны. После ужина Саша обратился к учителю черчения, с которым сложились добрые отношения.
– Андрей Аристархович, можно у вас спросить?
Педагог поправил на носу очки с толстыми стёклами и, улыбаясь, развёл руки в стороны:
– Конечно, Саша.
– Вы знаете, Андрей Аристархович, я же из далёкого села приехал в Москву и только тут попробовал конфеты, такие шоколадные. Потом ещё хотел одну девушку угостить сладеньким. Вы не поедете в город и не купите мне кулёчек?
– Я-то с вами тружусь завтра, а вот послезавтра поеду за продуктами на подводе, если будет в продаже, то непременно куплю.
– Спасибо, Андрей Аристархович, вот, возьмите деньги.
– Денег не надо, после разберёмся. Вы знаете, Саша, раньше в наших университетах существовала традиция студентам ходить в гости к профессорам на праздник, отобедать. Студенты ведь, как известно, всегда голодные, так их вот поддерживали, хоть изредка.
– И вы ходили?
– Ходил и не раз.
– Добрый обычай.
– Иди отдыхай.
Ближе к полночи Чистов уже видел седьмой сон, когда его в бок затолкал Сергеев.
– Отработал, как день-то прошёл, деревня?
– Копали да блиндаж строили.
– Молодец, я тоже постарался не зря.
– Накрывайся: наверно, ночью будет заморозок, небо больно ясное.
Утром на разводе Чистова вновь отрядили с тремя студентами в помощь сержанту. Солнце, ещё не жаркое, висело над горизонтом, а в низине уже хрустела трава, прихваченная первыми ночными холодами.
Студенты принялись возить грунт для земляной насыпи на блиндаж. Девушки и женщины рядом углубляли крутой склон противотанкового рва, копошась на глубине. Ров, слегка извиваясь подобно невиданной в здешних краях анаконде, прячась, уходил всё дальше и дальше в разные стороны, то поднимаясь на небольшие склоны, то спускаясь в долины. Его глубина, выбранная вручную за прошедшие дни женщинами и студентами, была уже поболее трёх метров.
Припекало. В полдень со стороны деревни к ним стала приближаться одинокая женская фигура с корзинками в руках. Сержант как-то сразу сник и даже погрустнел.
– А вот и Мать-Люба к нам идёт.
Видя непонимающие взгляды парней, ухмыльнулся в седые усы, чуть пожелтевшие около ноздрей от курения, и забурчал студентам:
– Сын у неё погиб в пехоте под Минском, похоронку получила третьего дня. Вроде обычное дело, сколь их сейчас разлетелось вороньём по матушке-Рассее, да что Рассея-то, по всему нашему Союзу-то. Вот с тех пор и повадилась, бедняжка, в обед ходить нас подкармливать, как бы вроде поминает усопшего раба божьего Николая. А у самой кожа и кости. Откуда у них в колхозе паек-то возьмётся? Хорошо, если дадут по двести грамм или там полкило зерна в день на трудодень, да с огорода что-то соберёт. Ох-ты сука-война, кровь да брань, лучше сразу порань. Эх, быстрее бы на фронт, нет более моей мочи терпеть это всё, ребята. Нету.
Он замолк и, махнув рукой, добавил:
– Вы того, примите-то её по-человечьему, горе какое у бабы.
Вскоре к ним подошла невысокая женщина в чёрном платке, и, поздоровавшись по-хозяйски, расстелив на траве под берёзами латанную скатерку, вынула чугунок с варёной картошкой, немного сала и чёрный хлеб. Следом выложила деревянные ложки и, поклонившись, позвала:
– Егор Кузьмич, ребята, айда ко столу. Помянем моего Николая, сыночка единого.
– Да нас покормят, Люба, не беспокойся.
– Нет-нет, Егор Кузьмич, солдат не может без обеда. Вот и ребята, видно, скоро тоже на передовую вместо моего Коленьки.
– Ладно, ребята, перерыв. Пойдёмте к тёте Любе. Только ты, хозяйка, пообещай, что покушаешь вместе с нами.
– Да я только с вами-то и ем, милочки, а одна не могу: кусок не лезет в горло. Всё представляю, может, и Колю моего на том свете кто покормит.
Студенты вчетвером отложили инструмент, робко подошли к скатерке и присели на жёсткую траву. Поправив усы, сапёр взялся за картоху «в мундире». Всю свою сознательную жизнь, прямо сызмальства, он покровительственно относился к женщинам: матери, тёткам, жене, дочери, и здесь опекал Яну, но впервые в жизни от терял самообладание перед колхозницей Любой, словно владела она каким-то тайным словом или даже заговорённой бабкой-ведуньей силой, перед которой горбатилось его мужское естество.
Круто посолив картофелину, сержант вымолвил, расправив усы:
– Ну, помянем твоего хлопца, так сказать, раба божьего Николая, сложившего голову за любезное наше Отечество. Крещёный он у тебя, мать?
– Конечно, тогда и храм ещё в нашей деревне был, и свой батюшка, отец Константин. Да только церковку сожгли комсомольцы, а батюшку со всей семьёй ещё до этого взяли: двое в кожанках на подводе из города приехали, и никто не знает, что с ним стало, – она глубоко вздохнула, словно готовилась сказать что-то очень важное. – Опосля за всё ответим. Вот кто-то уже принялся расплачиваться. Вечный покой моему родному Коленьке. Благодарствую вам, ребята.
– А что ты про «ответим-то» имела в виду. Не разберу что-то я.
– Да что ж понимать-то, дело-то дурное – нехитрое. Ту церквушку-то, во имя Рождества Пресвятой Богородицы, закрыли и сперва под артельный склад устроили, а после на колхозном собрании решили устроить клуб, значит, для молодёжи. Мой Коля-то был в первых рядах, всех растолкал, мол, отдайте нам, старичье, ненужную храмину. Народ не желал, но тут, как назло, прикатил из города какой-то начальник, и верещит на всё правление: «Правильно, Николай! Молодым везде у нас дорога, забирайте, всё ваше!» Ну а детки-то наши что учудили: вытащили иконы из иконостаса и с ними на пруд, значит, плотов али лодок им мало, и давай на них кататься. Вот хорошим это и не закончилось. Что-то зимой у них там полыхнуло, вот так и не стало божьего дома, и нету теперь в живых-то Николеньки моего.
Студенты молчали, отложив картофелины в сторону. Сапёр наклонился к женщине и забубнил:
– Ты, Любовь-то, пожалуйста, такие речи со всеми не веди, да и с нами не стоит. Ребятки молодые, неизвестные, кто знает, что у них на уме. Видишь, какие времена-то на дворе, лютые.
– А что мне теперь бояться? Да вот, я вся перед вами – обыкновенная русская баба, каких тыщи, что со мной сделаешь-то? Коленьку моего ведь не вернёшь, ну а смерти мне и так не миновать, чай не разминуться нам на тропке-дорожке.
Желая как-то развеять атмосферу, Саша спросил:
– А как у вас в деревне сейчас, после ухода мужиков на фронт, жизнь-то как-то налаживается?
– Да что говорить-то, сами видите, в нашем колхозе «Путь к коммунизму» остались одни бабы, подростки да старики. Почитай вся уборка урожая легла на наши плечи. Но вы посмотрите в округе: у нас не пустует ни одного клочка земли, все долочки и неудобицы выкошены, да не косилками, а косами, на сено для колхоза. Я вот сегодня с утра косила пшеницу косой, к которой приладили грабли, чтобы колосья ложились в одну сторону. А девки помоложе вяжут снопы и свозят их для обмолота. Вот такая настала счастливая жизнь на земле – я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик.
– Вам очень тяжело.
– Тяжело детей терять, а работать мы привычные, пока жилы не порвём.
– Тётя Люба…
– Что, сынок?
– А хотите мы вам по хозяйству вечером поможем? Дрова наколем или ещё что поделаем. Может, крышу надо починить или какую сараюху?
– Да какое у меня хозяйство-то: пяток кур и общипанный петух. А насчёт дров даже и не знаю, пригодятся они мне ныне или нет. Вы-то по ночам ничего разве не слышите?
– Да нет.
– Понятно, за день умаетесь и дрыхнете без задних ног, а я вот сплю плохо, и там за дальним лесом иногда грохочет. Потому думаю, как бы мне вскорости колоду дубовую мастерить не пришлось.
– Думаете, фронт доползёт до вас?
– Я ж не гадалка, не знаю. А тебе, милок, спасибо за добрые слова.
– Хотите я вам письма писать буду?
– А что, дело говоришь. Мой-то ведь всего две весточки с фронта прислал, больно не любил марать бумагу, всё куда-то спешил как ошпаренный, рвался, боялся опоздать.
Разговор стих, ребята съели всю картошку и хлеб, и Мать-Люба стала собираться в деревню. Полдень. Августовское солнце приятно припекало. Но тут со стороны вырытого рва раздался грохот чего-то рухнувшего. Следом женщины истошно заголосили:
– Беда-беда! Скорее сюда!
Студенты и сапёр бросились в ров. В ста метрах от блиндажа сверху оторвалась огромная глыба земли и засыпала половину рва.
– Что орёте, дурёхи, – весело крикнул сапёр. – После обеда раскопаем наш ров, станет ещё лучше, чем был.
– Окаянный, мать твою, только и думаешь, как брюхо набить! Там привалило трёх девчонок.
– Студенты, бейте в набат и с лопатами за мной!
Вокруг поднялся невообразимый крик. Первым вниз спрыгнул Сашка и принялся откапывать грунт. Как белый день было ясно, что счёт идёт не на минуты, а на мгновения, а на весах очутились человеческие жизни. Сорвавшаяся почва давалась тяжело, да и больше чем втроём с одной стороны встать не удавалось. Вскоре наконец-то показалась бледная рука.
– Скорее, скорее!
– Позовите фельдшера!
Саня руками разгрёб суглинок, секунды стучали в висках курантами, и наткнулся на голову с прикрытыми рукой синюшными губами. Девушку выдрали наружу из объятий земли. Сапёр подхватил тело, перевернул его и сразу, очищая от грунта рот, завопил:
– Янку кликните, с аптечкой.
Седая женщина без платка только и ответила:
– Не жди. В земле твоя Янка.
Саша кошкой в два прыжка перескочил насыпь и оказался с другой стороны обвала. Вырвав лопату у студента, он принялся с остервенением расшвыривать песок, который едва-едва замер. Что творилось за его спиной, он не видел и не слышал, мир скукожился в картинку перед ним и не звучал ничем в его ушах, только размеренное дыхание – «раз-два» – и гулкие удары сердца в ходуном ходящей груди. Вскорости штык наткнулся на что-то мягкое…
Из вечернего сообщения Совинформбюро за 1 августа 1941 года:
«В течение 1 августа наши войска вели бои с противником на Порховском, Невельском, Смоленском и Житомирском направлениях. Существенных изменений в положении войск на фронте не произошло.
Наша авиация во взаимодействии с наземными войсками продолжала наносить удары по мотомехчастям и пехоте противника и по его авиации на аэродромах. В Балтийском море нашей авиацией потоплены сторожевой корабль и танкер противника в 5 тыс. тонн водоизмещения, четырём кораблям противника нанесены серьёзные повреждения.
В воздушных боях 31 июля сбито 15 немецких самолётов. Наши потери – 7 самолётов.
Соединение, которым командует тов. Ткаченко, наголову разбило фашистский полк. На поле боя осталось до 500 убитых немецких солдат и офицеров. Захвачены пленные, шесть танков, две бронемашины, девять пушек, восемь пулемётов, восемь транспортных машин со снарядами, 18 автомобилей, 50 велосипедов и другие трофеи.
Против фашистских воздушных бандитов мужественно борется население не только наших городов, но и сёл. Один гитлеровский бомбардировщик пытался прорваться к Москве. Заградительный огонь зенитчиков преградил ему путь к нашей столице. Тогда фашистский лётчик сбросил бомбы на деревню Михалково, Кунцевского района. Одна зажигательная бомба упала на чердак дома Татьяны Новиковой. Ни на секунду не растерявшись, колхозница быстро вышвырнула бомбу на землю. Колхозники Илья Герасимов и Алексей Алексахин также обезвредили бомбы, упавшие на их дома. Всего на деревню Михалково было сброшено 20 зажигательных бомб, но ни одна из них не вызвала пожара.
В немецком концентрационном лагере в Освенциме (Польша), где томятся тысячи польских патриотов, произошли серьёзные волнения. Не выдержав систематических избиений и голода, группа заключённых, отправленных на дорожные работы, забросала конвой камнями и разбежалась. Озверевшие фашисты учинили кровавую расправу над остальными заключёнными: все поляки были избиты палками. Десять заключённых не перенесли палочных ударов и умерли. В одном из концлагерей, расположенном в районе Плонска, только за последние две недели умерли от цынги и пыток 240 заключённых…
1
Лесной, полевой или степной пожар.
2
Речка, протекает в Московской и Тульской областях. Левый приток Восьмы, бассейн реки Оки.
3
Первая мировая война (1914—1918 гг.).