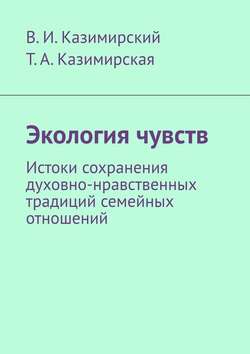Читать книгу Экология чувств. Истоки сохранения духовно-нравственных традиций семейных отношений - Владимир Иванович Краузе, Ирина Валентиновна Ткаченко, Владимир Иванович Казимирский - Страница 6
Тема 2.
Христианская семья и брак
Духовные традиции русской семьи
ОглавлениеДушевное тепло и уют старой Москвы, старых московских, укорененных в предании и вместе с тем живущих усиленной культурной жизнью семей! Впрочем, не только московских, но вообще русских старозаветных культурных семей. Но остановимся на Москве, особенно на этом своеобразном, исполненном огромной прелести мире московских переулков, например, в районе Арбата и Пречистенки, Поварской – центре сосредоточенной, радушной, патриархально – уютной, простодушной и вместе с тем часто столь утонченно – культурной жизни, столь дышащей преданием, столь неразрывно с ним связанной и вместе с тем нередко столь динамической, и творческой духовно.
Это действительно целый особый мир, связанный с остальным миром, но живущим вместе с тем своей особой, сосредоточенной жизнью. Маленькие, порою кривые переулки, особняки, частью спрятанные в глубине двора или сада, частью выходящие на улицу, преимущественно одноэтажные, с мезонином, с несколькими колоннами «ампир» и 8 – 9 окнами фасада (часто этот домик, кажущийся небольшим с улицы, тянется вглубь двора и оказывается огромным домом). И тут же напротив приходская церковь (часто по две в том же переулке, иногда и по три), маленькая, с зелеными, синими или золотыми куполами или луковицами, нередко пятиглавая, с маленькой, отдельно стоящей колокольней, полу вросшей в землю, с обсаженным деревьями двором, иногда проходным, в котором мирно тянутся по бокам деревянные домики притча, а посередине иногда расстилается большая лужа с полоскающимися в ней утками. Отсюда, из этой церковки, доносится колокольный звон во всякое время дня. В самой церкви какой мир благодатный, какая сосредоточенность, особенно в часы вечернего богослужения! У прихожан свои излюбленные, более или менее постоянные места. Стоят и молятся, одни по одиночке, другие семьями, пожилые ближе к стенам, иногда со стулом. Мерцают лампады, отражаясь на окладах икон, в церкви полутемно. Поют: «Свете тихий, святые славы… Пришедше на запад солнце, видевше свет вечерний, поем Отца, Сына и Святого Духа Бога» Отрадно и тихи и не только успокоительно, но и бодряще действует эта собранная церковная жизнь не только на прихожан, а на весь уклад Московской жизни.
А в особняках так тепло душе и мирно.
Двор с многочисленными службами, садик на улицу, часто тянется сад и за домом, порой и большой, с беседкой, густыми зарослями сирени, где весной громко поют соловьи, с серебристыми тополями. О прелести этих особняков и жизни в них замечательно написал в своих воспоминаниях большой любитель и знаток старой России и особенно старой Москвы, человек рыцарского благородства и при этом художник в душе – Николай Николаевич Львов. «…Дети росли, учились дома у приходящих учителей и учительниц, катались с гор и на коньках на Патриарших прудах и на Пресне, с детской радостью играли простыми игрушками кустарного изготовления, резной деревянной лошадкой, раскрашенными забавно куколками от Троицы или разрумяненной матрешкой в сарафане, лакомились изюмом, халвой, подсолнухами, и не было ничего лучше винной ягоды в няниной комнате. На масленой их водили на гулянье в балаганах на Подновинском, Великим Постом все постились, на Страстной все говели, и исповедывались у своего приходского батюшки или в монастыре, где так страшно было входить в маленькую келью к старому духовнику в черной рясе, встречали Светлое Христово Воскресение в своем приходе и переживали всю таинственную радость темной весенней ночи, когда раздается первый гул колокола Ивана Великого, и к нему со всех концов несутся в ночном воздухе встречные призывные голоса московских колоколов и сольются в один таинственный радостный переливный звон, уходящий далеко, далеко в небо над погруженным в темноту городом».
Святая ночь… Залит огнями храм
Молитвы грешников восходят до небес,
Как в алтаре зажженный фимиам…
Христос воскрес! Воистину воскрес!
Природа нежным трепетом полна,
Мерцают звезды в глубине небес.
Царит над грешным миром тишина…
Христос воскрес! Воистину воскрес!
Как перед бурей замерла трава…
Затих пред Тайною дремучий старый лес.
Лишь ветер шепчет нежные слова:
«Христос воскрес! Воистину воскрес!»
А. Чернов
Христос воскрес!
Повсюду благовест гудит,
Из всех церквей народ валит.
Заря глядит уже с небес…
Христос воскрес! Христос воскрес!
С полей уж снят покров снегов,
И реки рвутся из оков,
И зеленеет ближний лес…
Христос воскрес! Христос воскрес!
Вот просыпается земля,
И одеваются поля,
Весна идет, полна чудес!
Христос воскрес! Христос воскрес!
А. Майков
Воскресение
Тяжкий камень отвален от гроба,
Белый ангел камень отвалил,
Где теперь отчаянье и злоба
Ваших темных и безумных сил!
Там, где Тело Господа лежало,
Светит чистым мрамором плита,
И сама земля не удержала
Смертью смерть поправшего Христа.
Оттого, что в мире это было,
Переплавлены и ты и я,
Молния навеки осветила
Тайные истоки бытия.
(неизвестный автор)
Красота, уют и внутренняя теплота патриархальной семейной жизни. Как раскрываются духовные и душевные ценности в этом семейном тепле, в этой насыщенности культурной традицией, в этой живой связи с живым миром прошлого. В этой тихой, не бросающейся в глаза традиции, питающихся из жизненных источников, что текут в мире русской семьи, бросаются все новые семена, дающие ростки. И мы видим иногда – но гораздо чаще не видим – и самое бросание семян, и первые всходы, и завязь плода, а потом видим богатый плод и жатву. Так что же это за семена и плод? Плод – это ребенок, который своим духовным направлением (семена), благодарит свою мать. Если мы обратимся к архивам, где есть воспоминания москвичей, красной линией в них пройдет воспоминание детства. Например, философ князь Евгений Трубецкой, показывает на маленьких эпизодах, как влияла их мать на восприимчивые души детей, так что на всю жизнь запечетлевалось сознание нравственной невозможности обижать слабых или другое не менее важное сознание: всевидящего, везде присутствующего Ока Божия: «Не помню, что сказала на это мама. Помню только, с этой минуты с какой – то необычной силой гипноза мне врезалось в душу религиозное ощущение, навсегда оставшееся для меня одним из центральных – самых сильных – ощущений, какого – то ясного и светлого Ока, пронизывающего тьму, проникающего в душу, и в самые глубокие мирские, и никуда от этого взгляда не укроешься. Такие внушения – самая суть воспитания, и мама, как никто, умела их делать». (из книги: «Из русской духовной и творческой традиции»)
«Родители не были оторваны от детей своими ежедневными занятиями или службой, они жили с ними общей жизнью, летом в деревне, зимой в Москве в своих особняках, и воспитание детей было согрето теплым чувством любви, которого ничто заменить не может. Слова молитвы, повторяемые детским шепотом и выученные за матерью и няней, и детский страх перед первой исповедью, и радостное чувство, и детское горе, и слезы – все связывалось в воспоминаниях с дорогими лицами, с доброй старой няней, с нежностью матери, с её тихим голосом и мягким, ласковым прикосновением её руки к горячему лобику больного ребенка, а после в этих общих чтениях и в музыке по вечерам в большой гостиной все впечатления от чтения и игры на фортепиано сливается в памяти со звуком голоса матери, читающей вслух, с запахом сирени и черемухи, вливающимся в комнату через открытое окно, со смехом и детской слезой при чтении печальной повести или веселого рассказа, и звуки бетховенской сонаты глубоко проникают в детскую душу, и так же, как чтение вслух и слова молитвы, все остается на всю жизнь – как одно светлое радостное воспоминание детства».
(Н.Н.Львов. Былые годы. Русская мысль».
Прага:1923. Кн.1 – 2. С. 104; 98 – 99.)
Как близка была эта семья к жизни церкви, как сплеталась эта жизнь церкви с жизнью семьи и в первых религиозных наставлениях, и в самой стихии матери, питающейся из этого благодатного потока и насыщенной им, и в благочестивых домашних обрядах, и, наконец, через участие всей семьи в церковных богослужениях и постах, празднествах и таинствах церковных. Вся ткань жизни пронизана этим: благословение родителей, совместные молитвы, заветные родовые, из поколения в поколение переходящие семейные иконы – родительское благословение, более того, священными для детей и семьи символами Божия благословления. Семейные иконы воплощают в себе духовную связь, духовную преемственность отцов и детей. У крепких русских семей, простых и знатных, скудного достатка, зажиточных и богатых, были эти заветные семейные или родовые иконы, «родительского» или «дедовского» благословения.
Благословение родителей детям – это стержень и путеводный маяк в жизни детей при всех обстоятельствах жизни: в обыденной ежедневной обстановке семейного тепла и уюта. Благословение всех членов семьи на сон грядущий – черта, свойственная патриархальным русским семьям дошла и до наших дней, что сумели донести до нашего времени живое сокровище молитвенного общения детей с родителями. Из этой теплоты вечерних семейных переживаний и из тоски по ним появилось известное стихотворение А.С.Хомякова:
…Бывало, в глубокий полуночный час,
Малютки, приду любоваться на вас,
Бывало, люблю вас крестом знаменать,
Молиться, да будет на вас благодать,
Любовь Вседержителя Бога…
(1838г.)
Благословение при прощании и в моменты решающих событий жизни детей – при отъездах, разлуках, особенно при основании детьми собственной семьи. Новая жизнь, новая семья начинается с благословения родителями новобрачных, «оно утверждает дома чад». Через таинство брака даруется благодать и на воспитание детей.