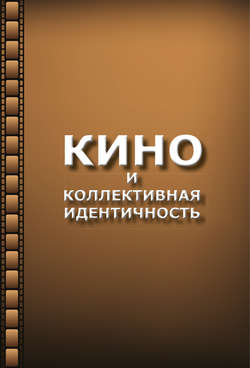Читать книгу Кино и коллективная идентичность - Владимир Жидков - Страница 6
Часть первая. Социальное регулирование кинопроцесса
Глава I. Механизмы социальной организации кинопроцесса
§ 2. Коллективное «мы» и его формирование
ОглавлениеГолливуд повсеместно бросает вызов коллективной идентичности, являющейся опорой национального государства. Внутренняя политика последнего оставить без внимания это явление не может. Но из чего вырастает коллективная идентичность и какую роль играют культурные технологии в ее формировании?
Начнем с констатации, что люди, населяющие, к примеру, Россию, – не механическое множество индивидов, а некое социальное целое, обладающее исторически сложившейся коллективной идентичностью. Каждое индивидуальное «я» демографически и культурно порождено коллективным «мы», живет и действует, самоутверждается и развивается в его пространстве. «Границы культуры, в которой люди воспитаны, являются одновременно и границами того мира, в котором они могут жить, думать и действовать» [7, с. 207].
Состоящее из огромной массы индивидуальных «я» коллективное «мы», в свою очередь, внутренне дифференцировано. Оно включает в себя различные конфессиональные «мы», подразделяющиеся на «мы» этнические, те – на классовые «мы» и т. д. Разделяющая людей социальная дифференциация порождена историей. Но она же изобрела и разного рода скрепы социальной интеграции, в конечном счете способствующие возникновению у основной массы индивидов общего видения мира, чувства единой исторической судьбы. К таковым относится прежде всего единая территория, в пределах которой происходят пространственные контакты между людьми и используются геофизические ресурсы их жизнедеятельности. О существовании и исключительной судьбоносной значимости этого фактора прекрасно напоминает понятие «территориальная целостность», в очередной раз обретшее острую актуальность в российской истории.
Другим мощным фактором, стягивающим великое множество индивидуальных «я» в политическое единство коллективного «мы», является государство. Свою интегрирующую миссию оно выполняет прежде всего тем, что наделяет оказавшихся в его пределах индивидов статусом гражданства, юридически открывающим каждому от рождения в известном смысле равный доступ к ресурсам страны, к возможностям личностного самоутверждения и развития. Свою интегрирующую роль государство осуществляет и тем, что защищает пространство жизнедеятельности своих граждан от внешних посягательств. О значимости этого момента каждый гражданин узнает еще в период детства, изучая на школьной скамье многовековую историю своей страны.
Ссылкой на усвоение школьных уроков истории мы снова возвращаемся к исключительно важному фактору формирования и индивидуального осознания коллективного «мы», его совокупной идентичности-культуре. Эффективнейшим средством культурной интеграции является языковая общность людей. Владение одним и тем же языком открывает простор для делового и духовного общения людей, формирования общих идеалов и ценностей, разделяемой картины мира. Язык – часть и в то же время средство формирования национальной культуры. Уместно также добавить, что в отношении коллективной идентичности вопрос не сводим к естественному языку. Важную роль играет существующая в той или иной мере общность всех других языков национальной культуры, включая киноязык. На формирование коллективной идентичности значительное влияние оказывают также национальная экономика, система образования (включая художественное), религия, средства массовой коммуникации, искусство – народное и профессиональное.
По вопросу о формировании национальной идентичности Дж. Дональд высказал точку зрения, с которой вряд ли можно полностью согласиться, хотя и не признать значительной доли истины в ней нельзя. Исследователь утверждает, что нация – «является результатом… культурных технологий, а не их источником. Нация не выражает себя через свою культуру; это культурные механизмы производят «нацию» [цит. по: 8, с. 14]. Автор впадает в явное противоречие с диалектическим представлением о взаимодействии явлений мира. Нельзя не видеть, что, например, такая составляющая национальной культуры, как языковая общность людей на протяжении веков раздвигала свои демографические пределы путем кровопролитных войн, создававших единое политическое, экономическое и правовое пространство, в рамках которого локальные культуры, взаимодействуя между собой, формировали некое ядро национальной культуры.
Верно, однако, и то, что национальная культура транслируется от поколения к поколению, и на уровне индивидуального «я» (особенно, в условиях складывающегося информационного обществе) коллективная идентичность формируется под мощным влиянием культурных технологий. Другое дело, что распространяемые с их помощью идеалы, ценности и образцы поведения возникают не на пустом месте, они черпаются из исторически возникшей национальной картины мира. Частично соглашаясь с Дж. Дональдом в том, что нация является следствием культурных технологий, приходится признать обескураживающий факт. В пространстве культурных технологий кинематографического типа коллективная идентичность россиян на уровне индивидуального «я» формируется большей частью изнутри американского общества. Впрочем, точнее будет сказать, что она размывается, хаотизируется. И причиной тому являются реально действующие механизмы социальной организации кинопроцесса, к анализу которых мы далее и обратимся. Конкретным материалом для наших рассуждений послужит постановка кинодела в СССР, а также опыт его реформирования в пору «перестройки» и последующий период.
Почему плохо «тикает» социальный механизм кинопроцесса? И не только относительно формирования коллективной идентичности. Наши соображения, возможно, будут более убедительны, если предварительно сравнить два типа познавательного поведения человека. Когда он чувственно воспринимает конкретный предмет, пусть это будет лес, в его психике целостный образ предмета не возникает таким образом, что поочередно запечатлеваются отдельные деревья, а потом из всего этого, как бы суммируясь, складывается целостный образ леса. Процесс развертывается в обратном порядке. Человек сразу же видит лес как таковой. Отдельные его части воспринимаются уже на фоне обозначившегося целого. Такого рода примат целого над частью помогает человеку ориентироваться в предметном мире.
Иначе обстоит дело в науке при постижении сложных явлений. Исследователь склонен начинать с расчленения целостного явления на отдельные части. Целое осмысляется в последнюю очередь. Если вообще осмысляется. С постижением его частей в контексте целого, с уяснением их обусловленности целым и предъявляемых к ним требованиям с его стороны дело обстоит еще более проблематично. Подобный ход мышления, его незавершенность отрицательно сказываются на результативности познавательных и практических действий. Исследователь серьезно рискует не увидеть за деревьями лес.
Но именно так складываются научное познание, саморегулирование и общественно-государственное регулирование кинематографической жизни российского общества. Теоретики и практики кино рассматривают ее с позиций скорее «атомистического», нежели целостного подхода. Вряд ли будет столь уж большим преувеличением сказать, что кинематографическая жизнь предстает как некий хаос ее субъектов, структур, институтов и т. д. Имея в виду науку, можно констатировать, что искусствознание изучает один отрезок и аспект кинематографического процесса, экономическая наука – другой, психология – третий и т. д. Этой методологической установке во многом следует и отечественная социология кино, на протяжении своего существования изучавшая большей частью публику. В итоге целостность кинематографического процесса ускользает из поля зрения и как предмет исследований, и как методологическая установка, вытекающая из признания примата целого над его частями.
С синтезом в единое содержательное целое тех результатов, которых добиваются научные сообщества, изучающие кинопроцесс, дело обстоит тоже далеко не лучшим образом. Показательно, что в нашей литературе нет ни одного солидного труда, в котором излагались бы итоги многодисциплинарного исследования кинопроцесса, т. е. с позиций эстетики, социологии, искусствознания, психологии, семиотики и т. д. Определенные шаги в этом направлении делают зарубежные исследователи. Так, американские ученые Р. Аллен и Д. Гомери опубликовали в 1985 г. книгу под названием «История кино. Теория и практика», в которой кратко излагаются результаты исследования кино с позиций традиционных подходов к нему – эстетического, технологического, экономического и социологического. Нельзя сказать, что эта работа дает представление о кинематографической жизни общества во всех ее проявлениях. Но важные шаги в этом направлении сделаны.
Что касается реалий кинопроцесса, методология «атомистического» подхода к его организации более чем убедительно заявляет о себе фактами дезорганизации. К сожалению, эта же методология лежит и в основе многолетних усилий по реорганизации киноотрасли. Чем отличается часовых дел мастер? Его задача – восстанавливать и регулировать работу часового механизма в целом. Он находит деталь, не выполняющую свою функцию в системе механизма, и восстанавливает эту функцию. Оттого и часы «тикают». А какая работа осуществляется для того, чтобы каждая структура кинопроцесса соответствовала требованиям, предъявляемым к ней со стороны целого? Заботы о функционировании конкретной структуры определяются, скорее, с позиций ее самоценности, нежели требований системного целого. Оттого и системные связи разорваны, социальный механизм кинопроцесса в целом если и «тикает», то плохо.
Усилия по преодолению системного кризиса кинопроцесса скорее приведут к желаемым результатам, если будут опираться на надежную теоретическою базу, в частности, на обоснованные представления о социальной организации кинематографической жизни, социальном контроле в ней. Ниже мы остановимся на некоторых аспектах этой проблемы, апеллируя к отечественному опыту.